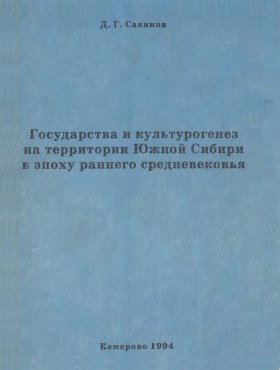 Д.Г. Савинов
Д.Г. Савинов
Государства и культурогенез на территории Южной Сибири
в эпоху раннего средневековья.
// Кемерово: КемГУ. 1994. 215 с. ISBN 5-202-00085-5
Часть I. Государство енисейских кыргызов в I тыс. н.э.
[ Введение. ] ^
Кыргызы — один из древнейших народов Центральной Азии и Южной Сибири. На протяжении более двух тысячелетий письменные источники фиксируют существование данного этнонима (или его фонетических вариантов) в связи с историческими событиями, происходившими в различных районах Азии, в первую очередь — на территории Саяно-Алтайского нагорья и на Тянь-Шане. Соответственно в
(5/6)
«тюркологической литературе встречаются такие кыргызоведческие термины, как «древние кыргызы», «енисейские кыргызы», «ала-тооские» или «тянь-шанские киргизы», «памирские», «афганские», «восточно-туркестанские (синьцзянские) киргизы» и т.д. [Чороев, 1988, с. 143]. В основе всех этих этнических образований лежит субстратная общность тюрко-язычных племён, сложившихся в Южной Сибири, на Енисее, откуда и происходит условное наименование «енисейские кыргызы». В определённый период истории, образно названный В.В. Бартольдом эпохой «кыргызского великодержавия» (IX-X вв. н.э.), ареал этнокультурогенеза кыргызов включал обширные области севера Центральной и отчасти Средней Азии, что привело к широкому распространению созданной ими культурной традиции. Все остальные группы кыргызов (или киргизов), так или иначе, связаны с енисейскими (центрально-азиатскими) кыргызами, но сложились позднее в результате их расселения и ассимиляции местных племён. Таким образом, начало этнополитической истории и культурогенеза кыргызов целиком и полностью проецируется на территорию Южной Сибири и специально — Минусинской котловины, где в эпоху раннего средневековья ими было создано своё первое государство, что нашло отражение как в многочисленных сведениях письменных источников, так и в соответствующих им по времени археологических материалах.
История и культура енисейских кыргызов представлена в источниках неравномерно. В одних случаях доминируют письменные свидетельства, в других — данные археологии. Иногда они тесно коррелируют друг с другом, и эти периоды оказываются для изучения наиболее результативными. Сами енисейские кыргызы, жившие на северной периферии центрально-азиатских государственных объединений, в зависимости от политической ситуации в Центральной Азии, то активно выступают на исторической арене, то как бы «покидают» её, хотя последующие события, вновь «вызывавшие» их на историческую арену, убедительно показывают непрерывный характер развития кыргызской культуры и государственности. Этими причинами обусловлено то, что создание цельной, одинаково заполненной во всех звеньях истории енисейских кыргызов в настоящее время вряд ли возможно. Вместе с тем, исходя из степени обеспеченности письменными источниками, выделяются ряд периодов (или этапов) в этнокультурной истории енисейских кыргызов, а также отдельные сюжеты, связанные с особенностями кыргызского обще-
(6/7)
ства и окружающих их народов, которые могут быть освещены с достаточной степенью достоверности. Именно на них обращено наибольшее внимание при дальнейшем изложении материала.
§ 1. Гяньгуни и динлины — предки енисейских кыргызов. ^
Истоки этнокультурогенеза енисейских кыргызов уходят в хуннскую древность. В китайских источниках времени династии Тан говорится: «Хагас (кыргыз — Д.С.) есть древнее государство Гянь-гунь... Жители перемешались с динлинами. Владение Хагас некогда составляло западные пределы хуннов» [Бичурин, 1950, с. 350-351]. Данное свидетельство, несмотря на свою лаконичность, находит явное соответствие в событиях этнополитической истории населения Южной Сибири хуннского времени.
Известно, что в 201 г. до н.э. создатель хуннского племенного союза Маодунь (или Модэ шаньюй) предпринял военный поход на север, в результате которого «покорил на севере владения хуньюев, цюйше, гэгуней, динлинов и синьли» [Таскин, 1968, с. 41]. Однако никаких сведений о локализации покорённых хуннами северных племён в источниках нет. К 176 г. до н.э. объединение хуннских земель было завершено и, пользуясь образным выражением источника, «все народы, натягивающие лук, оказались объединёнными в одну семью» [Таскин, 1968, с. 43]. Среди них к раннему этапу истории енисейских кыргызов могут иметь отношение динлины и гяньгуни, которые, судя по всему, через определённый промежуток времени начали активно бороться за свою независимость. Так, первое выступление динлинов против хуннов отмечено в 72 г. до н.э. В 61 г. до н.э. «в связи с тем, что в течении последних лет динлины совершали набеги на сюнну (хуннов — Д.С.), во время которых убили и захватили в плен несколько тысяч человек и угнали лошадей, сюнну отправили против них более 10 тыс. всадников, но ничего не добились» [Таскин, 1973, с. 30]. В 49 г. до н.э. Чжичжи шаньюй вновь «на севере принудил сдаться динлинов» [Таскин, 1973, с. 37], но и позже они выступают в качестве одного из главных противников гоударства Хунну.
Одновременно Чжичжи шаньюем были покорены гяньгуни, завоёванные Маодунем ещё в 201 г. до н.э. и, следовательно, как и динлины, ещё раньше отделившиеся от государства Хунну. При этом сообщается, что земли гяньгуней «находились на расстоянии 7 тыс. ли
(7/8)
западнее ставки шаньюя (на р. Толе в Монголии — Д.С.) и на расстоянии 5 тыс. ли севернее владения Чэши (Турфанский оазис в Восточном Туркестане — Д.С.). В них Чжичжи и остался жить» [Таскин, 1973, с. 37]. К сожалению, эти первые сведения по этнографии севера Центральной Азии недостаточны для того, чтобы определить местонахождение ставки Чжичжи шаньюя и, следовательно, территории расселения гяньгуней в середине I в. до н.э. Концы векторов, восстановленных от ставки хуннских шаньюев на р. Толе на запад и владения Чэши на север, не совпадают. В источниках ничего не говортиться о взаимоотношениях между динлинами и гяньгунями. Однако, постоянное противодействие того и другого народа центральноазиатским хуннам в одно и то же время вряд ли могло происходить изолированно друг от друга. Не исключено, что именно это обстоятельство сыграло определённую консолидирующую роль в том, что позднее, как сообщают Танские хроники, жители страны Гяньгунь «перемешались с динлинами», что и явилось началом существования будущего государства енисейских кыргызов.
Локализация носителей этнонима динлин и гяньгунь, как и возможность идентификации с ними тех или иных археологических памятников, остаются дискуссионными.
Вопрос о динлинах, представителях древней европеоидной расы в Центральной Азии, был поставлен в знаменитом труде Г.Е. Грум-Гржимайло, собравшем все известные сведения о них в письменных источниках [Грум-Гржимайло, 1926, с. 1‑78]. В дальнейшем развитие археологии и палеоантропологии позволило исследователям высказать ряд гипотез по поводу отождествления с динлинами известных археологических культур — афанасьевской [Гумилёв, 1959, с. 19], карасукской или тагарской [Киселёв, 1951, с. 180-183], тагарской [Теплоухов, 1929; Кызласов, 1960, с. 161-166 (в библиографии нет); 1984, с. 16; и др.], таштыкской [Членова, 1967, с. 221], монгун-тайгинской [Алексеев, 1974, с. 390]. Наибольшее распространение получила точка зрения о тагарской принадлежности динлинов, место расселения которых определялось, соответственно, территорией Минусинской котловины. В литературе появилось даже условное наименование «тагарские динлины»; однако, это отождествление не может быть принято безоговорочно.
Следует отметить, что в письменных источниках динлины упоминаются с конца III в. до н.э. и с этой точки зрения все отождеств-
(8/9)
ления с ними более ранних южно-сибирских археологических культур не обоснованы. Высказывается сомнение и в тагарской принадлежности динлинов, учитывая отдалённость минусинских степей от восточных центров письменной традиции и несоответствие хозяйственного облика тагарцев, преимущественно земледельцев, с некоторыми особенностями динлинов, отмеченными в письменных источниках [Членова, 1967, с. 220-222]. С одной стороны, динлины характеризуются как скотоводческий народ с многочисленными стадами скота; с другой отмечается, что у них «от колена кверху тело человеческое, а книзу растёт лошадиная шерсть и лошадиные копыта; они не ездят верхом, а бегают со скоростью лошади» [Позднеев, 1899, с. 10]. За этим фантастическим образом, вероятно, скрывается реальная фигура пешего охотника на лыжах, подбитыми лошадиными камусами, обитателя горно-таёжных районов. Несмотря на фрагментарность этих сведений, они позволяют предполагать, что динлины обитали в районах с разными физико-географическим условиями. Широкое расселение динлинских племён — севернее Гоби, от Байкала до Иртыша — неоднократно отмечалось исследователями [Бичурин, 1950, с. 50; Бернштам, 1951, с. 239; Сердобов, 1971, с. 26; и др.]. В то же время область распространения тагарской культуры очерчивается достаточно чётко — это Минусинская котловина с прилегающими к ней с севера красноярско-канским и ачинско-мариинским лесостепными районами. Она значительно ýже предполагаемой территории расселения динлинов по сведениям письменных источников. По-видимому, прав Л.Н. Гумилёв, считая, что «вероятно, слово «динлин» было полисемантическим и имело нарицательное значение вместе с этнонимическим» [Гумилёв, 1959, с. 19], обозначая население северой периферии хуннских владений. Какая именно группа динлинов была завоёвана Маодунем в 201 г. до н.э. — сказать трудно. В состав динлинов могли входить и племена тагарской культуры, но территория расселения динлинов не ограничивалась Минусинской котловиной.
Предполагаемая территория расселения динлинских племён более всего соответствует погребениям с каменным конструкциями (в каменных ящиках, склепах и грунтовых могилах с каменными покрытиями), широко распространёнными в указанных пределах — от Байкала до Иртыша, нчиная с III в. до н.э., то есть именно тогда, когда сведения о динлинах появляются в письменных источниках. Подобные погребения, типологически отличные от предшествующих, наиболее
(9/10)
характерны для памятников булан-кобинского типа на Горном Алтае, улуг-хемской культуры в Туве, грунтовых тесинских могильников в Минусинской котловине и позднего этапа кула-жургинской культуры в Восточном Казахстане [Савинов, 1987 (в библиографии нет)]. Достаточно полно обосновать эту точку зрения в настоящее время не представляется возможным; однако, некоторые наблюдения, говорящие в пользу такого предположения, заслуживают внимания. Так, приведённые выше данные о неоднократном завоевании динлинов хуннами и постоянных контактах между ними во II-I вв. до н.э. предполагают близкое знакомство динлинов с хуннской культурной традицией; иначе говоря — обязательное присутствие хуннского компонента в памятниках, распространённых от Байкала до Иртыша в конце I тыс. до н.э. Из всех других видов погребений этому условию отвечают только погребения с каменными конструкциями. Существование ряда локальных культур (улуг-хемской, тесинской, булан-кобинской, кула-жургинской) в рамках одной археологической общности погребений с каменными конструкциями более всего соответствует форме многоплепенного объединения, которая фиксируется для динлинов и по сведениям письменных источников. Вместе с тем, полностью принять эту точку зрения не позволяет то обстоятельство, что традиция сооружения погребений с каменными конструкциями, наиболее характерная для племён Саяно-Алтайского нагорья хуннского времени, не имеет отчётливо выраженного продолжения в раннесредневековых культурах Южной Сибири, в том числе и в культуре енисейских кыргызов.
Наиболее определённо прослеживается генетическая связь с эпохой средневековья этнического наименования гэгунь (гяньгунь). В настоящее время установлено, что название гэгунь, гяньгунь, кигу, цигу, гегу, хэгусы, хягасы представляют собой разновременные фонетические варианты одного этнонима — кыргыз [Яхонтов, 1970], обозначающего народ, живший на Среднем Енисее, в Минусинской котловине, и по этому признаку названный енисейскими кыргызами (в отличие от более поздних киргизов на Тянь-Шане и в других районах их расселения). Однако, если связь всех этих названий со средневековыми кыргызами не вызывает сомнения, то в вопросах их локализации и возможности соотнесения с какой-либо известной археологической культурой остаётся много неясного.
Рассматривая свидетельство письменных источников о северном
(10/11)
походе Модэ, В.В. Бартольд отмечал, что рассказ о событиях 201 г. до н.э. ничего не говорит ни об области киргизов, ни о её местоположении» [Бартольд, 1963, с. 476]. Географические координаты, приведённые относительно нахождения ставки Чжичжи шаньюя, позволили В.В. Бартольду предположить, что «киргизы тогда жили не только на Енисее, но и южнее, в той местности, где теперь озеро Кыргыз-нор» [Бартольд, 1963, с. 477], то есть в Северо-Западной Монголии. В дальнейшем предположение о первоначальном варианте проживания гяньгуней в Северо-Западной Монголии укрепилось в литературе. На нём в значительной степени основана высказанная С.В. Киселёвым [Киселёв, 1951, с. 560-561] и развёрнутая Л.Р. Кызласовым [Кызласов, 1960, с. 161-166 (в библиографии нет)] гипотеза о двухэтапном проникновении (при Модэ и Чжичжи) тюркоязычных гяньгуней на север, в Минусинскую котловину, где произошло смешение их с местными тагарскими племенами (динлинами), что положило начало сложению кыргызского этноса. Однако, следует отметить, что ещё В.В. Бартольд проявлял известную осторожность в привлечении названия озера Кыргыз-нор в Северо-Западной Монголии в качестве свидетельства пребывания здесь древних гяньгуней. «Насколько мне известно, — писал он, — нет сведений о том, когда и почему озеро получило такое название» [Бартольд, 1963, с. 477]. В этой связи вряд ли можно согласиться с исследовавшим этот вопрос Г. Нуровым в то, что попытка связать назваие озера, как и термин херексур (кыргызские могилы) «с очень кратковременным (вторая половина IX и начало X в.) и далеко не прочным господством здесь енисейских кыргызов не может считаться убедительной» [Нуров, 1955, с. 69]. Широкое расселение енисейских кыргызов в середине IX в., как это будет показано ниже, явилось важнейшим этапом этнической истории всех народов севера Центральной Азии, а память о нём, закреплённая в топонимах, гидронимах и названиях древних курганов, не менее реальна, чем воспоминания о событиях двухтысячелетней давности, когда народа, с которым они связываются, фактически ещё не существовало.
Помимо географических данных, археологическим обоснованием этой гипотезы послужили раскопанные Г.И. Боровкой на р. Толе в Монголии погребения по обряду трупосожжения, характерному впоследствии для таштыкской культуры и культуры енисейских кыргызов [Боровка, 1927, с. 66-67], а также центрально-азиатские элементы раннеташтыкских склепов в Минусинской котловине [Кызласов, 1960, с.
(11/12)
27, 49-50, 63-64, 134-135 (в библиографии нет)]. Однако, как показывают современные материалы, и они не являются решающими. Несколько курганов с обрядом трупосожжения, раскопанные Г.И. Боровкой на р. Толе, не имеют точной датировки: наряду с хуннской керамикой, в одном из них (Ихэ-Алык) найден типологически поздний наконечник стрелы, относящийся ко времени не ранее VIII-IX вв. [Боровка, 1927, с. 66-67, табл. III]. Обычай сожжения погребальной камеры зародился в Минусинской котловине ещё в IV-III вв. до н.э., на сарагашенском этапе развития тагарской культуры, и получил дальнейшее развитие в больших курганах-склепах тесинского этапа (II-I вв. до н.э.). В какой степени кыргызские сожжения на Енисее связаны с местной сарагашенско-тесинской или привнесённой (гяньгуньской?) традицией — вопрос, требующий специального рассмотрения. Кроме того, в источниках нигде не говориться о том, что гяньгуни хуннского времени сжигали своих покойников. Таштыкские склепы, в материалах которых представлены центрально-азиатские элементы, по периодизации М.П. Грязнова, относятся к более позднему времени (III-V вв.), о чём подробнее будет сказано ниже, в разделе о владеини Цигу на Среднем Енисее.
Таким образом, пока единственно достоверным положением, учитывая последовательность завоёванных Маодунем северных племён, по-видимому, следует считать проживание гяньгуней южнее динлинов Саяно-Алтайского нагорья, то есть на территории, которая менее всего изучена в археологическом отношении. Поэтому, не отрицая возможности локализации гяньгуней в конце I тыс. до н.э. в Север-Западной Монголии, приходится признать, чо бесспорных доказательств этого нет, и возможны иные точки зрения, также имеющие характер более или менее обоснованных гипотез. Судя по всему, гяньгуни и динлины, предполагаемые предки енисейских кыргызов, занимали в хуннское время не только различные, но и весьма обширные области в северных районах Центральной Азии; и консолидация их, положившая начало существованию общности енисейских кыргызов, относится к более позднему времени.
В середине II в. предводитель сяньбийцев Таньшихуай «овладел всеми землями, бывшими под державой хуннов» [Бичурин, 1950, с. 154]. В связи с этим в Вэй шу упоминаются хэгу, то есть кыргызы, как одно из племён, подчинившихся сяньби [Супруненко, 1974, с. 239]. Исходя из данного сообщения, можно предполагать, что с этого вре-
(12/13)
мени кыргызы выступали уже под своим именем, которое, несмотря на различные фонетические варианты, сохранили на протяжении всей последующей этносоциальной истории.
§ 2. Владение Цигу — таштыкская культура. ^
Цигу (или Кигу) — одна из ранних фонетических транскрипций этнонима кыргыз, относящаяся ко времени до 700 г. [Яхонтов, 1970, с. 114]. Цигу в качестве обозначения самого северного владения, основанного тюрками Ашина после переселения их на Монгольский Алтай (460 г.), упомянуто в одном из древнетюркских генеалогических преданий и неоднократно привлекало к себе внимание исследователей [Аристов, 1897, с. 4-8; Грум-Гржимайло, 1926, с. 208-213; Киселёв, 1951, с. 93-494; Кляшторный, 1964, с. 103-106; 1965, с. 278-281; Гумилёв, 1967, с. 23-24; Зуев, 1967; Потапов, 1969, с. 54-55; Сердобов, 1971, с. 53-55; Нестеров, 1979; Савинов, 1984, с. 31-34; 1988а]. Значение этого упоминания для раннего этапа этнокультурогенеза енисейских кыргызов трудно переоценить: во-первых, оно говорит о древнем (генетическом?) родстве кыргызов с тюрками-тугю; во-вторых, является первым исторически зафиксированным свидетельством существования раннекыргызского этносоциального объединения на Среднем Енисее. В том и другом случае упоминание владения Цигу в древнетюркских генеалогических преданиях заслуживает самого пристального внимания.
По одной из легенд, записанных в династийной хронике Чжоу шу, предки древних тюрков, «отдельная отрасль Дома Хунну по прозвищу Ашина», были уничтожены воинами соседнего племени, после чего остался мальчик, которому враги отрубили руки и ноги и бросили в болото. Здесь его нашла и выкормила волчица, поселившаяся затем в горах севернее Гаочана (Турфанский оазис — Д.С.). В числе родившихся от брака волчицы и этого мальчика детей был Ашина — «человек с великими способностями». Один из его потомков, Асянь-шад, переселился на Алтай, где оказался под властью кагана жуань-жуаней, для которых тюрки плавили железо. Широкое распространение этой легенды в древнетюркской среде блестяще подтвердилось находкой Бугутской стелы с согдийской надписью времени Первого тюркского каганата (между 581 и 587 гг.), где, помимо текстов, находилось барельефное изображение волка (или волчицы), под брюхом которого расположена человеческая фигура [Кляшторный,
(13/14)
Лившиц, 1971].
По другой легенде, «предки тукюесского Дома происходят из владетельного Дома Со, обитавшего от хуннов на север». Глава племени Апанбу имел 70 (по другой версии 17) братьев. У одного из братьев, Ичжинишиду, названного «сыном волчицы», было несколько сыновей, каждый из которых получил во владение своё наместничество: старший из них, Нодулу-шад, принявший имя Тÿрк, правил в Басычусиши; второй — на реке Чуси; третий превратился в лебедя; четвёртый «царствовал между реками Афу и Гянь под наименоваием Цигу» [Бичурин, 1950 с. 221-222]. Сын Нодулу-шада, Ашина, став вождём племени, принял имя Асянь-шад. Его потомок (внук или внучатый племянник) Тумынь (Бумын) стал основателем Первого тюркского каганата (552 г.).
Наиболее полно исследовавший древнетюркские генеалогические предания в сопоставлении с историческими свидетельствами династийных хроник Суй шу, С.Г. Кляшторный отметил «имеющуюся в них реалистическую основу, историографическая ценность которой в настоящее время кажется несомненной» [Кляшторный, 1965, с. 278] и предложил разделить раннюю историю племени Тÿрк на два периода: гансуйско-гаочанский, когда предки тюрков Ашина формировались из постхуннских и местных ираноязычных племён на территории Восточного Туркестана (III в. н.э. — 460 г.) и алтайский, когда сложившийся тюркский этнос переселился на территорию Монгольского Алтая (460-552 гг.) [Кляшторный, 1965, с. 281], где и были созданы раннетюркские наместничества. Об их дальнейшей истории в письменных источниках не содержится сведений; однако, можно предполагать, что, поскольку сами тюрки Ашина в северных районах своего проживания попали в зависимость от жуань-жуаней, то это должно было привести к отделению созданных ими владений.
Обычно сохранившиеся в Чжоу шу древнетюркские предания рассматриваются как два варианта одного генеалогического цикла. Действительно, та и другая легенда рассказывают об одних и тех же событиях, но время их возникновения, по-видимому, различно. Первая сохраняет древнюю мифологическую, в какой-то степени даже тотемическую, основу и доводит рассказ до переселения тюрков на Алтай; вторая — более конкретна, насыщена именами и завершается созданием Первого тюркского каганата. Если в первом предании легендарное происхождение от волчицы составляет основную сюжетную
(14/15)
линию, то во втором Ичжинишиду только попутно назван «сыном волчицы», что можно рассматривать как намеренное желание подчеркнуть его преемственность от мифологической традиции правящей тюркской династии. Скорее всего, оба предания составляют как бы две части одного легендарного цикла, первая из которых соответствует ганьсуйско-гаочанскому периоду в истории древних тюрков, а вторая — алтайскому.
Время существования владения Цигу в династийной хронологии древних тюрков определяется следующим образом. От первого реального лица древнетюркской истории Тумыня (Бумыня), самое раннее посольство к которому отмечено источниками в 545 г. [Бичурин, 1950, с. 228], до легендарного Ичжинишиду сменилось три тюркских правителя (Туу — Ашина — Нодулу-шад) или четыре поколения, что при принятом подсчёте срока одного поколения в 25 лет составляет один век, то есть в принципе соответствует промежутку времени от переселения тюрков на Алтай до создания ими Первого тюркского каганата (460-552 гг.). При этом, если переселение тюрков на Алтай, по одной легенде, связывается с именем Ашина, то вся хронология Цигу приобретает ещё большую древность. Впрочем, учитывая легендарный характер источников и возможные перерывы в самой генеалогической традиции, эти расхождения не представляются существенными: владения Цигу было создано (или существовало) в середине V в. и явилось первым социальным образованием кыргызов, зафиксированным письменными источниками.
Указанные в Чжоу шу координаты владения Цигу являются наиболее ранними достоверными сведениями в этнографии народов Южной Сибири. Н.А. Аристов предложил локализовать его по названиям Афу (Абакан) и Гянь, то есть Кем (Енисей) там, где находилось «главное становище кыргызов», правда, не указывая точно местонахождение Цигу, но явно имея в виду долину Среднего Енисея, Минусинскую котловину [Аристов, 1897, с. 5-6]. Наиболее определённо об этом писала Л.А. Евтюхова, помещая Цигу «как раз в исконных землях кыргызов», то есть в Минусинской котловине [Евтюхова, 1948, с. 4]. Существует и иная точка зрения, по которой Цигу идентифицируется с чиками рунических надписей, жившими в VIII в. на территории Тувы [Грум-Гржимайло, 1926, с. 311; Кызласов, 1969, с. 51 (в библиографии нет); 1984, с. 32]. Однако, как справедливо отмечает Н.А. Сердобов, «в настоящее время, после выхода в свет исследования С.Е. Яхонто-
(15/16)
ва, вопрс о термине Кигу (или Цигу) окончательно решён в том смысле, что термин этот является этнонимом «кыргыз» [Сердобов, 1971, с. 56] и, следовательно, локализация Цигу в Минусинской котловине наиболее обоснована. Причём, следуя букве источника, имеются основания помещать владения Цигу не просто на территории Минусинской котловины, а на левобережье Енисея, севернее впадения в него р. Абакан.
Совпадение хронологии и приведённые географические данные позволяют идентифицировать Цигу с таштыкской культурой на Среднем Енисее, получившей широкую известность благодаря работам С.А. Теплоухова, С.В. Киселёва, Л.А. Евтюховой, Л.Р. Кызласова, М.П. Грязнова, Э.Б. Вадецкой и других исследователей, обративших особое внимание на вопросы её происхождения, периодизации, участия в сложении культуры енисейских кыргызов и выявления центральноазиатских компонентов таштыкского комплекса.
С.А. Теплоухов, выделивший таштыкскую культуру (или таштыкский переходный этап) определил время её существования от рубежа нашей эры (грунтовые могилы) до III-IV вв. (таштыкские склепы). К ним тесно примыкают каменные курганы типа чаа-тас (V-VII вв.), наиболее характерные впоследствии для культуры енисейских кыргызов [Теплоухов, 1929, с. 50-55]. В капитальном труде С.В. Киселёва были установлены основные таштыкские погребения (грунтовые могилы и склепы с различными типами намогильных сооружений) и установлены в целом даты её существования — с I в. до н.э. по IV в. н.э., после чего «началось переоформление материальной культуры саяно-алтайских племён в новую, ставшую характерной для времени выступления алтайских тюрок и енисейских кыргызов» [Киселёв, 1951, с. 472]. При этом уже в таштыкских материалах С.В. Киселёвым были выделены элементы (керамика, погребальная скульптура с изображением животных, конструктивные детали в устройстве погребений позднеташтыкского могильника Уйбат II), получившие развитие в культуре енисейских кыргызов. Именно в таштыкское время, по С.В. Киселёву, происходит изменение этнического состава населения Среднего Енисея, отразившееся, главным образом, в антропологических особенностях таштыкских масок сочетающих, как известно, признаки европеоидности и монголоидности. «В связи с этим, — пишет С.В. Киселёв, — нельзя не вспомнить версию о происхождении хягас-енисейских кыргызов от дин-линов и их южных соседей Гянь-гу-
(16/17)
ней... Это подтверждается легендой о происхождении тюркских народов Саяно-Алтайского нагорья» [Киселёв, 1951, с. 472-473], то есть материалами древнетюркских генеалогических преданий. Л.А. Евтюхова также обращает внимание на общие черты таштыкских и кыргызских элементов в погребениях т.н. «переходной стадии», как свидетельство местного происхождения кыргызов, но отмечает при этом, что «их формирование явилось частью более широкого этногенетического процесса сложения тюркских народностей Саяно-Алтая». Поэтому «ранняя история кыргызов должна рассматриваться не изолированно, но в связи с событиями в Центральной Азии» [Евтюхова, 1948, с. 4].
Наиболее дробная периодизация памятников таштыкской культуры принадлежит Л.Р. Кызласову, разделившему её на ряд последовательных этапов: изыхский (I в. до н.э. — I в. н.э.), сырский (I-II вв. н.э.), уйбатский (III в. н.э.) и переходный или камешковский (IV-V вв. н.э.) [Кызласов, 1960 (в библиографии нет)]. Помимо подробной характеристики каждого из них по материалам погребального обряда и предметным комплексам сопроводительного инвентаря, в монографии Л.Р. Кызласова содержится целый ряд наблюдений о центрально-восточноазиатских параллелях отдельным элементам таштыкской культуры, к которым относятся: форма склепов под усечённо-пирамидаль-ными курганами с боковыми входами-дромосами, отдельные типы керамики и её орнаментации, погребальные статуэтки животных и церемониальные зонты, имеющие аналогии в памятниках Ханьской династии в Китае (206 г. до н.э. — 220 г. н.э.) и погребениях хуннских шаньюев в Ноин-Уле в Северной Монголии (начало I в.) [Кызласов, 1960, с. 28, 49-50, 63-64, 134-135(в библиографии нет)]. Данные элементы, по Л.Р. Кызласову, появляются на раннем (изыхском) этапе таштыкской культуры и характерны главным образом для левобережных склепов под усёченно-пирамидальными земляными курганами, отличающимися от правобережных склепов под «юртообразными» курганами и по составу керамики. Это послужило основанием для выделения на Среднем Енисее в таштыкское время двух этнических групп населения, вероятно, и разноязычных, «имеющих при значительной общности обряда (в основном, трупосожжения с погребальными масками) и форм материальной культуры различные всё же конструктивные виды погребальных соорудений». Доминирующую роль при этом играли левобережные племена. Именно здесь, на левом берегу Енисея, что совпадает с предложенной выше локализацией Цигу,
(17/18)
в таштыкское время был расположен и «политический центр, который, возможно, продолжал сохраняться и в эпоху древнехакасского (кыргызского — Д.С.) государства». В III в. (уйбатский этап) усечённо-пирамидальные курганы появляются на правом берегу, что связывается Л.Р. Кызласовым с распространением «обычаев левобережного населения» [Кызласов, 1960, с. 14, 18, 66-67, 191 (в библиографии нет)].
Иная датировка памятников первой половины I тыс. н.э. в Минусинской котловине предложена М.П. Грязновым, выделившим по материалам раскопок Красноярской экспедиции два последовательных этапа: батенёвский (I-II вв.) и тепсейский (III-IV вв.). Главным основанием для этого послужил анализ керамики — «и по форме, и по орнаменту керамика батенёвского этапа очень близка к керамике предшествующего тесинского этапа и генетически с нею связана», в то время как «в памятниках тепсейского этапа аналогии с тесинскими уже не наблюдаются. Зато можно усмотреть некоторое продолжение их в памятниках кыргызского времени». Рассматривая керамику тепсейского этапа, М.П. Грязнов омечает, что «тем же единым, хотя и многообразным типом керамики характеризуются все рассмотренные Л.Р. Кызласовым склепы» [Грязнов, 1971, с. 96-99]. Нетрудно заметить, что периодизация М.П. Грязнова, по которой таштыкские склепы относятся к одному периоду (III-IV вв.), является дальнейшим развитием на новом качественном уровне первой периодизации С.И. Теплоухова. Собственно тепсейские склепы с усечённо-пирамидальной формой земляной насыпи и боковым входом-дромосом находятся на правом берегу Енисея, что соответствует уйбатскому этапу, по периодизации Л.Р. Кызласова.
Полная сводка мнений по вопросу периодизации таштыкской культуры дана в работе Э.Б. Вадецкой, правильно заметившей, что «приведённые хронологические схемы, несмотря на формальную стройность, во многом дискуссионны, особенно по датировке самой ранней, а также поздней группы памятников, что определяется отсутствием единодушного мнения относительно хронологического соотношения грунтовых могильников и склепов, с одной стороны, и поздних склепов с могилами переходного таштыкско-кыргызского типа — с другой» [Вадецкая, 1986, с. 145].
Останавливаясь подробнее на характеристике таштыкского культурного комплекса, следует отметить, что компонентный состав таштыкской культуры был достаточно сложным. В её формировании прини-
(18/19)
мали участие как местные тагарские, так и пришлые группы населения. Каждый из этих компонентов должен быть представлен определённым видом памятников, выявить которые, учитывая синкретический характер культуры в целом, пока убедительно не удаётся. Очевидно, разные виды погребальных сооружений, одинаково называемых «таштыкскими», существовали в Минусинской котловине в различные периоды времени.
К рубежу нашей эры полностью исчезают погребения в каменных ящиках и грунтовые захоронения с каменными конструкциями тесинского этапа, что свидетельствует об ассимиляции их носителей в среде местного населения, а также большие одиночные курганы-склепы; однако, тагарские традиции сохраняются в памятниках таштыкской культуры как в деталях погребального обряда, так и в некоторых формах предметов сопроводительного инвентаря [Вадецкая, 1981]. Основным видом погребений таштыкской культуры в начале I тыс. н.э. становятся захоронения в неглубоких ямах с квадратными или прямоугольными срубами, непосредственно продолжающие традицию тесинских грунтовых погребений в деревянных срубах, относящихся, по периодизации М.П. Грязнова, к батенёвскому этапу таштыкской культуры (I‑II вв.). В погребальном ритуале сочетаются обряды трупоположения и трупосожжения, только теперь кремированные остатки помещаются в специально сделанных кожаных мешочках, куклах-манекенах, иногда с глиняными масками. Для некоторых грунтовых таштыкских могильников получены радиоуглеродные даты, относящиеся к I в. до н.э., на основании чего делается вывод о том, что «они частично синхронны тагарским курганам тесинского этапа и могилам «каменского типа» (с каменными конструкциями — Д.С.) [Вадецкая, 1986, с. 145]. Однако, пока не ясны дифференцирующие признаки, отделяющие позднетесинские погребения со срубами от раннеташтыкских. Другие данные радиокарбонового анализа указывают на I в. н.э. [Ермолова, Марков, 1983, с. 87]. Как долго продолжают существовать в Минусинской котловине грунтовые таштыкские могильники — неизвестно.
Начиная с III в. н.э. население с обрядом трупосожжения занимает господствующее положение в Минусинской котловине. С этого времени основным типом погребений становятся таштыкские склепы — малые и большие, известные по всей территории Минусинской котловины. На левобережье Енисея — это Сырский, Изыхский, Уйбатский чаа-тасы [Кызласов, 1960, с. 15-28 (в библиографии нет)]; на правобережье — Тепсейские
(19/20)
склепы [Грязнов, 1979, с. 19-122] и чаа-тас на р. Дальняя Чёя [Вадецкая, 1981а]; на севере — Хызылар, кург. 3 [Худяков, 1985, с. 182-183] и четыре склепа у дер. Аёшка [Вадецкая, 1969 (в библиографии нет)]; на юге — Степновка II, кург. 2 [Савинов, 1987а] и др. Несмотря на различия в размерах и отдельных конструктивных элементах, количестве погребённых и деталях погребального обряда, таштыкские склепы представляют однокультурный вид памятников, свидетельствующий о достаточно высоком уровне социальной дифференциации оставившего их населения. Во многих склепах встречаются захоронения по обряду трупоположения, принадлежащие явно зависимому населению. «Причина разнообразия таштыкских склепов, — отмечает Э.Б. Вадецкая, — до сих пор остаётся неясной. Отражает ли это хронологические этапы культуры или её этнические и социальные варианты?» [Вадецкая, 1981а, с. 59]. Думается, что здесь действовали различные факторы, территориальные и хронологические, каждый из которых требует специального рассмотрения; однако ведущим из них, несомненно, был фактор социального развития таштыкского общества по пути этнической интеграции различных по происхождению групп населения в новую форму этносоциального образования.
Представляется необходимым уточнить время появления центрально-восточноазиатских элементов в материалах таштыкских склепов, к которым, как уже говорилось, относятся форма наземных сооружений — склепов, отдельные типы керамики и приемы её орнаментации, погребальные статуэтки животных, остатки церемониальных зонтов и др. Интересное наблюдение высказано Э.Б. Вадецкой: «Найденные в склепах разрозненными остатки зонтов, фигурок лошадей и коней составляли ранее единые модели повозок, клавшихся погребённым, по типу китайских [Вадецкая, 1986, с. 139]. По Л.Р. Кызласову, распространение этих инноваций относится к раннему, изыхскому этапу таштыкской культуры (I в. до н.э. — I в. н.э.). Сейчас, благодаря исследованию памятиков улуг-хемской культуры в Туве, грунтовых могильников тесинского этапа на Енисее и других погребений с каменными конструкциями, отчётливо выявляется специфика элементов центральноазиатского (хуннского) происхождения этого времени: бронзовые ажурные поясные пластины с изображениями животных, концевые и срединные накладки луков, костяные наконечники стрел с расщеплённым основанием, различного рода костяные накладки и бронзовые украшения, ложечковидные застёжки, роговые булавки и т.д.
(20/21)
Как отметил А.М. Мандельштам, они представляют «прежде всего оружие и принадлежности одежды — точнее составные части поясов и вероятно также подвесов. Такое положение, очевидно, закономерно, так как в государстве сюнну существовала чётко выработанная военная организация, основанная на наличии эффективного вооружения и приспособленной к прктикуемой тактике одежды» [Мандельштам, 1975, с. 235]. Именно эти элементы были заимствованы создателями погребений с каменными конструкциями, условно отождествляемые нами с динлинами. Однако подобные вещи ни разу не были встречены в таштыкских склепах; нет их и в погребениях выделяемого М.П. Грязновым батенёвского этапа (I-II вв.). Следовательно, представленные в таштыкских материалах центрально-восточноазиатские элементы должны относиться к более позднему времени, что не исключает преемственности их на исходной территории с прежней ханьской традицией. К этому же кругу явлений следует отнести и отрезанные косы, найденные в таштыкских погребениях. Возможно, не случайно обычай носить косы в это время зафиксирован у древних тибетцев и турфанцев, то есть там, где происходили основные события древнетюркских генеалогических преданий, причём «у турфанцев этот обычай был отменён в 612 г. н.э. официальным указом владетеля Гао-чана Бо-я» [Грач, 1961, с. 78]. С этим же временем связывается и появление в таштыкской культуре поминальных сооружений, сопряжённых со склепами, а также антропоморфных стел, предшественников древнетюркских каменных изваяний, имевших давнюю традицию в монументальном искусстве центральноазиатских племён эпохи ранних кочевников и в подобном оформлении неизвестных ранее на Енисее [Савинов, 1981а, с. 232-243].
Обращает на себя внимание явная социальная окраска всех центрально-восточноазиатских элементов таштыкской культуры, что даёт основание относить пирамидальные склепы, в которых они были обнаружены, к социально привилегированному слою населения. Видимо, это является ответом на вопрос о причинах различия левобережного и правобережного населения — владение Цигу на Среднем Енисее явилось, по сути дела, первым этносоциальным объединением южносибирских племён, возникшим в результате влияния зарождающейся древнетюркской государственности.
Граница между культурами — таштыкской и енисейских кыргызов — обычно проводится на уровне V в., что в значительной степени об-
(21/22)
условленно только соображениями общеисторического характера, в первую очередь, образованием в середине VI в. Первого тюркского каганата, положившего начало эпохе раннего средневековья. Между тем, традиционное развитие таштыкской культуры вряд ли могло быть прервано политическими событиями, происходившими в Центральной Азии. А.К. Амброз высказал предположение, что «таштыкцы (часто с погребальными масками) — кыргызы эпохи Тайцзуна» [Амброз, 1971, с. 120]. Хотя для такого утверждения, с точки зрения сибирской археологии, нет достаточных оснований, оно явно повлияло на общую тенденцию омоложения памятников таштыкской культуры, в некоторых случаях вплоть до VII в. Наиболее аргументирована точка зрения Э.Б. Вадецкой, которая по форме бронзовых пряжек и деталей поясных наборов определяет верхнюю границу существования склепов (и, соответственно, таштыкской культуры) V-VI вв. [Вадецкая, 1986, с. 145].
Об этом же говорят на первый взгляд неожиданные аналогии между таштыкской культурой и культурой Силла (Корея, V-VI вв.), представляющие целый ряд схоных культурных элементов [Воробьёв, 1961]. К ним относятся: сёдла с широкими арочными луками (в таштыкской культуре — берестяная обкладка седла из Уйбатского чаа-таса), поясные наборы с бронзовыми ажурными пряжками и подвесками, горизонтально «лежащие» боченки с пробкой посередине, железные проволочные удила, изображения всадников с котлом, укреплённом на крупе коня (в таштыкской культуре — наскальные изображения на Хызыл-Хая) и др. Интересны и более частные совпадения. Например, под седлом на ритуальном сосуде в виде всадника культуры Силла [Вайнштейн, Крюков, 1984, рис. 12] показана дополнительная лопасть, такая же, как на изображении бегущего осёдланного коня на одной из тепсейских пластин [Грязнов, 1979, рис. 61]. Отдельные аналогии можно привести и из памятников этого же времени поздней курганной эпохи в Японии [Воробьёв, 1958]. Конечно, с территориальной точки зрения все они достаточно удалены друг от друга. Однако подобная синхронизация на фоне очень слабой степени изученности археологических памятников промежуточных территорий не противоречит сложившимся представлениям о восточных элементах, сыгравших определённую роль в сложении таштыкского культурного комплекса и имеющих поэтому хронологическое значение. Не исключено, что сама инфильтрация восточных культурных элементов на территорию Южной Сибири
(22/23)
была вызвана образованием владения Цигу на Среднем Енисее, воспринявшим их в свою очередь от тюрков Ашина, ранний этап этнокультурогенеза которых, судя по генеалогическим преданим, был тесным образом связан с восточными районами Азии. В свете этих материалов верхняя хронологическая граница таштыкской культуры может быть проведена не ниже середины VI в., а отдельные таштыкские традиции вполне могли существовать и во второй половине этого столетия.
Своеобразное положение занимают памятники таштыкской культуры в лесостепном районе Южной Сибири, в значительно большей степени связанные с позднетагарской традицией. Анализируя материалы склепа у с. Береш, в которых сочетаются таштыкские и тагарские элементы, Э.Б. Вадецкая отмечает, что в нём «похоронены тагарцы, продолжавшие жить в лесостепной части Минусинской котловины в то время, когда на юге сложилась таштыкская культура» [Вадецкая, 1984, с. 191]. Собственно таштыкские памятники [Мартынова, 1967; 1984 (в библиографии нет); Кулемзин, 1969; 1980] здесь также могут датироваться более поздним временем, чем в Минусинской котловине. Очевидно, этим объясняются находки глиняных орнаментированных сосудов типа «кыргызских ваз», костяных накладок луков и колчанов в таштыкских погребениях Михайловского могильника [Мартынова, 1976; 1985, с. 108-112 (в библиографии нет)].
Существование целого ряда общих элементов в таштыкской культуре и культуре енисейских кыргызов не вызывает сомнения. По всей вероятности, наибольшее их количество должно относиться к раннему этапу культуры енисейских кыргызов, когда прежние таштыкские традиции ещё сохраняли своё значение. Так, Л.Р. Кызласов отмечал, что «ранние чаа-тасы утинского этапа (по Л.Р. Кызласову — ранний этап культуры чаа-тас, VI-VII вв.) расположены непременно на местах старых таштыкских могильников. Очевидно, люди, их сооружавшие, прекрасно осознавали кровное родство с населением предшествующей эпохи [Кызласов, 1981, с. 48 (в библиографии нет)]. Главной этнодифференцирующей особенностью погребений енисейских кыргызов, зафиксированной письменными источниками, является устойчивый обряд трупосожжения, который наследуется от таштыкской культуры, и сохраняется затем на всём протяжении их существования. С таштыкской древностью связаны и такие детали погребального обряда чаа-тасов как вертикально установленные плиты в основании наземных сооружений [Зяблин, 1965,
(23/24)
с. 282-286, рис. 3], обкладка стенок могильных ям из вертикально поставленных столбиков, берестяные покрытия над накатом, обилие костей домашних животных и др. [Евтюхова, 1948, с. 8; Кызласов, 1955, с. 252; 1981, с. 47-48 (в библиографии нет)]. Из предметов сопроводительного инвентаря сохраняются бронзовые пластины-амулеты с головками лошадей, выполненными в характерном таштыкском стиле, но постепенно теряющие свой реалистический облик [Евтюхова, 1948, рис. 3; Кызласов, 1955, рис. 40, 1 (в библиографии нет)]; круглые распределители ремней и некоторые другие. В числе находок из Абаканского чаа-таса упоминаются остатки глиняных масок [Кызласов, Кызласов И., 1985, с. 219]; однако эти уникальные находки, если они относятся к этому времени, требуют специального рассмотрения. По всем этим данным таштыкская культура, особенно на её позднем — тепсейском? — этапе может быть названа раннекыргызской.
Политическая история Цигу нам неизвестна. Название Цигу для обозначения общности енисейских кыргызов упоминается в письменных источниках ещё один раз при описании походов третьего правителя Первого тюркского каганата Мухан кагана (553-557 гг.), который «на севере покорил Цигу и привёл в трепет все владения, лежащие за границей» [Бичурин, 1950, с. 229]. Нет никакого сомнения в том, что к этому времени владения Цигу уже полностью обособились от древнетюркской этносоциальной иерархии. С известной осторожностью это событие можно синхронизировать с концом (или началом конца) таштыкской культуры, что соответствует приведённым выше археологическим материалам.
§ 3. История и культура кыргызов периода Древнетюркских каганатов (до 745 г.). ^
Создание Древнетюркских каганатов, их политическая история, происходившие в рамках этих государственных объединений этнические процессы и культурогенез являются важнейшими событиями в средневековой истории народов Евразии. После победы над жуань-жуанями в 552 г. — меньше, чем за два десятилетия — тюрки Первого тюркского каганата, ведя постоянные победоносные войны, создали державу, границы которой простирались от Хуанхэ до Волги. В её состав, наряду с другими областями, вошли районы Южной Сибири, Средней Азии и Казахстана. Столица Древнетюркского государства располагалась на р. Орхон (Северная Монголия), где в 1889 г. в урочище Кошо-Цай-
(24/25)
дам Н.М. Ядринцевым были открыты некрополь тюркских каганов и памятники древнетюркской рунической письменности. Естественно, что удержать столь огромную территорию, населённую различными племенами и народами, в рамках одной социально-административной системы было невозможно, и в 604 г. Первый тюркский каганат разделился на Западный и Восточный. Начался период упадка первого Древнетюркского государства. В 630 г. последний каган Восточного каганата Хьели был взят в плен (умер в 634 г.) и каганат прекратил своё существование. Ещё до падения Восточного каганата власть в Центральной Азии на недолгое время (628-646 гг.) захватило одно из наиболее крупных телеских племён — сеяньто. В 635 г. Западный каганат разделился на союзы дулу и шушиби, а в 656 г. также прекратил своё существование. Только после 20-летнего перерыва, в 679 г., в результате восстания вспыхнувшего среди оставшихся в Хангае тюрков-тугю, был создан Второй тюркский каганат. Границы его значительно уступали Первому, а основные военные действия каганата были направлены против местных племён Монголии и Южной Сибири, среди которых одно из первых мест занимали енисейские кыргызы. Продолжительность существования Второго каганата была меньше, чем Первого. В 742 г. под ударами союзных войск уйгуров, басмалов и карлуков Второй тюркский каганат пал и более не возродился.
История Древнетюркских каганатов, основанная на сведениях письменных источников, в первую очередь — китайских и памятников древнетюркской рунической письменности, подробно изложена в трудах Г.Е. Грум-Гржимайло [Грум-Гржимайло, 1926], Л.Н. Гумилёва [Гумилёв, 1967], С.Г. Кляшторного [Кляшторный, 1964], Л.Р. Кызласова [Кызласов, 1969; 1984] и других исследователей.
В отличие от древних тюрков, история енисейских кыргызов того же времени известна в значительно меньшей степени или, точнее, остаётся практически неизвестной. Главными причинами этого являются отдалённость территории расселения кыргызов от центров древней письменной традиции и в основном эпитафийный характер енисейских рунических надписей, за очень небольшим исключением не содержащих каких-либо исторических сведений. В результате история енисейских кыргызов до столкновения с уйгурами, то есть до середины VIII в., в том виде, в каком она может быть восстановлена, носит весьма относительный и «отражённый» характер. Основным источ-
(25/26)
ником для неё является не собственное «летописание», как это имело место, например у тюрков-тугю, создавших свою историческую традицию, а отрывочные сведения в династийных хрониках Танского Китая и рунических текстах периода Второго тюркского каганата, когда енисейские кыргызы попали в сферу внешней политики того и другого государства. Поэтому по имеющимся материалам можно представить не столько историю енисейских кыргызов, сколько характер их взаимоотношений с другими государствами в тот или иной исторический период. Определённую корректирующую роль в этом играют предметы импорта, в первую очередь — китайские монеты и зеркала, в большом количестве найденные на Енисее.
Время возникновения кыргызской государственности, как это можно установить, например, для Первого тюркского каганата, письменными источниками не зафиксировано. Однако вряд ли вообще следует синхронизировать эти события: государство енисейских кыргызов, расположенное на самой северной периферии центральноазиатских владений, развивалось в иных социально-экономических условиях и, скорее всего, более замедленными темпами. Основные исторические коллизии, сопровождавшие это развитие, сведения о которых сохранились в письменных источниках, могут быть представлены следующим образом.
В 411 г. хан жуань-жуаней Хулюй подчинил себе на севере йегу (кыргызов) и хэвей (какое-то сибирское племя) [Гумилёв, 1967, с. 14 (?)]. Однако, после того как отделились его родственники («всего около ста человек»), «Хулюй пришёл в страх и начал остерегаться. Он не смел производить набегов на юг, и северные пределы были спокойны» [Бичурин, 1950, с. 188]. Это указание, следующее по времени за сведениями о завоевании хэгу Таньшихуаем в середине II в., интересно тем, что показывает стабильное и, несмотря на внешние завоевания, относительно спокойное состояние раннекыргызской общности, создающее наиболее благоприятные условия для её развития. Очевидно, такое положение сохранялось и позже, когда силы жуаньжуаней были отвлечены на борьбу с тюрками Ашина, появившимися в 460 г. в горах Монгольского Алтая. Как уже говорилось, созданное ими владение Цигу довольно быстро отделилось от древнетюркской социальной иерархии и, скорее всего, до середины VI в. сохраняло относительную самостоятельность.
После завоевания Цигу Мухан каганом (554 г.), судя по всему,
(26/27)
положение изменилось: енисейские кыргызы попали под протекторат Первого тюркского каганата. Об этом свидетельствуют, по крайней мере, два обстоятельства. Во время византийского посольства, красочное описание которого сохранилось у Менандра, Истеми каган подарил послу Земарху «пленницу из народа кыргыз» (569 г.). Нескоько позже (572 г.) при выделении наследственных наделов сын Мухан кагана, Торэмен (кит. Далобянь) «имел ставку на севере, может быть в земле кыргызов и чиков» [Гумилёв, 1967, с. 58]. Вряд ли эти совпадения, свидетельствующие о зависимом положении кыргызов по отношению к древним тюркам, можно считать случайными, хотя как долго продолжалась эта зависимость — сказать трудно.
После падения Восточного тюркского каганата государство енисейских кыргызов, по крайней мере, трижды подвергалось внешним вторжениям. Один из последних удельных князей Восточного каганата Чеби хан, бежавший от сеяньто на Алтай, «покорил на западе Гэлолу (карлуков — Д.С.), на севере Гйегу (кыргызов — Д.С.)» [Бичурин, 1950, с. 263]. Но вскоре войско Чеби хана было переведено в Хангай, так что завоевание кыргызов можно считать эпизодом в военной кампании Чеби. Некоторое время кыргызы входили в состав государства Сеяньто. По сведениям письменных источников, «прежде Хягасское государство зависело от Дома Сйеяньто, который имел там своего Гйелифу (наместника — Д.С.) для верховного надзора» [Бичурин, 1950, с. 354]. В это же время (641 г.) Дулу-хан совершил поход против племён, не вошедших в состав дулу и нушиби; при этом «он привёл под свою власть» два народа — цзюйше [Грум-Гржимайло, 1926, с. 259] (по другим источникам — сяоми [Бичурин, 1950, с. 287]) и йегу, то есть енисейских кыргызов. Однако все дальнейшие интересы Дулу-хана были связаны с событиями в Западном тюркском каганате, а государство Сеяньто вскоре закончило своё существование. Очевидно, что ни одно из этих вторжений не сыграло существенной роли в истории енисейских кыргызов, которые после выхода из-под протектората Первого тюркского каганата не только сохранили свою самостоятельность, но успешно противостояли завоевателям из соседних центральноазиатских владений.
Показательно, что именно с этого времени начинаются дипломатические отношения между кыргызами и Китаем, проявившим явную заинтересованность к развивающемуся государству на Енисее как потенциальному союзнику в борьбе Танской династии против тюрков-ту-
(27/28)
гю и впоследствии уйгуров. Первое китайское посольство к кыргызам состоялось сразу после гибели Восточного каганата, в 632 г. [Супруненко, 1963, с. 67]. Ответное посольство кыргызов к китайскому двору с подарками и «местными произведениями» было отправлено в 648 г. [Бичурин, 1950, с. 354-355; Нуров, 1955, с. 79]. В дальнейшем, до середины VIII в., посольства в Китай стали регулярными, что, естественно, имело стимулирующее значение в становлении кыргызской государственности. О развитии отношений с Китаем свидетельствует и количество китайских монет, найденных на Енисее: до начала династии Тан (618 г.) — 4 экз.; в начале эпохи Тан до середины VII в. — 45 экз. [Киселёв, 1947, с. 94-96]. К этому же времени относятся и первые находки раннесредневековых китайских зеркал в Минусинской котловине [Лубо-Лесниченко, 1975, с. 16].
Кыргызы периода Второго тюркского каганата — это уже сильное самостоятельное государство, играющее активную роль в политической жизни Центральной Азии. Основные сведения по истории енисейских кыргызов этого времени содержатся в памятниках орхонской рунической письменности [Батманов, 1960]. Отношения между тюрками Второго каганата и енисейскими кыргызами носили сложный и противоречивый характер. В надписи одного из крупнейших деятелей Второго тюркского каганата мудрого Тоньюкука говорится: «Каган народа табгач был нашим врагом. Каган народа „десяти стрел” был нашим врагом. Но больше всего был нашим врагом киргизский сильный каган» [Малов, 1951, с. 66]. Капаган каган и его племянник Могилянь, «перейдя через Кёгменскую чернь (Саянский хребет — Д.С.), ходили войной вплоть до страны киргизов». Позже Могилянь в честь своего дяди-кагана «поставил во главе (вереницы могильных камней) «балбалом» киргизского кагана» [Малов, 1951, с. 38-39]. В то же время посланники кыргызов в качестве «плачущих и стонущих» постоянно присутствовали на похоронах тюркских каганов. Предводитель кыргызов Барс-бег (тронное имя Ынанчу Алп [Кляшторный, 1976, с. 266]) был женат на младшей сестре Могиляня (Бильге кагана), что свидетельствует о заключении династийных браков между енисейскими кыргызами и тюрками.
Наиболее драматический характер отношения между кыргызами и Вторым тюркским каганатом приобрели в начале VIII в. Завоевательные походы Капаган кагана (кит. Мочжо) сильно беспокоили пограничные районы Китая. «Мочжо, упоённый славой побед, — сообщают китайские
(28/29)
источники, — низко думал о Срединном государстве (т.е. Китае — Д.С.) и даже гордился перед ним» [Бичурин, 1950, с. 270]. Естественно, в этих условиях Китай искал себе союзников среди народов Центральной Азии, враждебных Второму тюркскому каганату. Была создана антитюркская коалиция, в которую вошли Китай (табгач), остатки тюрков западного каганата (народ «десяти стрел») и енисейские кыргызы. «Эти три кагана, — говорится в памятнике Тоньюкука, — рассудив, сказали: да пойдём мы (походом) на Алтунскую чернь... да отправимся мы в поход на восток против тюркского кагана. Если мы не пойдем против него, как бы то ни было, он нас (победит)» [Малов, 1951, с. 66-67]. Упреждая эти события и желая обезопасить северные и западные границы своего государства для решающей войны с Китаем, тюрки Второго каганата первыми начали военную кампанию против кыргызов и их союзников тюргешей (западных тюрков). В 709 г. были завоёваны чики и азы, жившие на территории Тувы. Тюркские войска остановились у подножия Западных Саян. Дальнейшие события красочно описаны в памятниках предводителей похода, героев истории Второго тюркского каганата — Кюль-тегина, Могиляня (Бильге кагана) и Тоньюкука [Малов, 1951; 1959]. Памятник Кюль-тегина: «Мы предприняли поход на киргизов. Проложив дорогу через снег глубиной в копьё и поднявшись на Кёгменскую чернь, мы разбили киргизский народ, когда он спал; с их каганом мы сразились в черни Сунга... Киргизского кагана мы убили и племенной союз его взяли» [Малов, 1951, с. 41]. В том же году (711 г.) «поднявшись на Алтунскую чернь (Алтай — Д.С.)» тюрки дошли до Иртыша, переправились через него и разбили тюргешей. «Их кагана мы там убили, его племенной союз покорили. (Но) масса тюргешского народа вся откочевала в глубь (страны, т.е. подчинилась)» [Малов, 1951, с. 41]. Военная компания для тюрков оказалась победоносно законченной. События 709-711 гг. имеют для нас особо важное значение, так как они происходили непосредственно на территории севера Центральной Азии и в Южной Сибири — в Туве, на Алтае, в Минусинской котловине и в Прииртышье.
Об этих же событиях рассказывают енисейские надписи, найденные на озере Алтын-кёль на юге Минусинской котловины — единственный пока случай синхронизации сведений орхонских и енисейских рунических текстов. Одна из них (Алтын кёль I) является эпитафией Барс-бегу, павшему в неравной битве в черни Сунга, то есть тому
(29/30)
самому кыргызскому кагану, который погиб в 711 г. в результате похода тюркской армии за Саяны. Другая надпись (Алтын-кёль II) посвящена Эрен улугу, который по поручению Бар-бега «ходил послом к тибетскому кагану» и «не вернулся», то есть погиб на чужбине. Оба героя принадлежали к «доблестному народу булсаров», представлявших, таким образом, правящую элиту кыргызского общества [Кляшторный, 1976]. Упоминание о первом посольстве енисейских кыргызов в Тибет имеет чрезвычайно важное значение. Показательно, что Танское правительство, входящее с кыргызами в одну антитюркскую коалицию, не было поставлено об этом в известность: «В августе-сентябре 711 г. император Жуйцзун получил сообщение, что в Тибете находится прибывшее туда ранее кыргызское посольство, не желающее входить в Хань». Сведения о поведении кыргызов распространились среди северных соседей империи, что серьёзно обеспокоило Жуйцзуна [Кляшторный, 1976, с. 266]. Совершенно очевидно, что кыргызы, давно установившие связи с Китаем, искали для себя новых союзников. В дальнейшем это сыграло большую роль в победе кыргызов над уйгурами.
Поражение кыргызов в 711 г., очевидно, существенным образом не отразилось на развитии их государственности. Говоря: «пусть не останется без хозяина страна Кёгменская, — сообщается в памятнике Кюль-тегина, — мы завели порядок в немногочисленном (т.е. пришедшем тогда в упадок) народе киргизов. Мы пришли, сразились и снова дали (страну для управления киргизу?)» [Малов, 1951, с. 39]; иначе говоря — оставили у власти представителя местной аристократии. Существует мнение, что кыргызы после поражения в 711 г. распались на несколько племён [Гумилёв, 1967, с. 380], с которым вряд ли можно согласиться. Кыргызы сохранили политическую самостоятельность. Продолжались дипломатические отношения с Китаем: «В царствование государя Сюань-цзуна (713-755 гг.) были четыре посольства (кыргызов — Д.С.) с местными произведениями» [Бичурин, 1950, с. 355]. В 731 г. посланники кыргызов традиционно присутствовали в качестве «плачущих и стонущих» на похоронах Кюль-тегина. А в 742 г. среди военных округов, созданных Китаем против наиболее сильных потенциальных противников, второй округ с центром в Бишбалыке был учреждён против тюргешей и енисейских кыргызов [Бичурин, 1950, с. 307]. Вряд ли это могло иметь место, если бы речь шла о раздробленном и потерявшем самостоятельность государстве.
(30/31)
История изучения памятников енисейских кыргызов наиболее полно рассмотрена Ю.С. Худяковым [Худяков, 1982, с. 6-24]. В настоящее время сложилось три основных точки зрения по поводу периодизации культуры енисейских кыргызов во второй половине I тыс. н.э.:
1) основана на принципе выделения культур — культура чаа-тас (VI — первая половина IX в.) с подразделением на два этапа (утинский — VI-VII вв. и копёнский — VIII — первая половина IX в.); тюхтятская культура — вторая половина IX-X вв. [Кызласов, 1981, с. 46-52; 1981а, с. 54-59]; 2) основана на принципе выделения эпох — эпоха чаа-тас (VI-VIII вв.) и эпоха «великодержавия» — IX-X вв. [Худяков, 1982, с. 24-71]; 3) основанная на принципе выявления основных закономерностей истории развития кыргызской общности — «VI — первая половина IX в., когда они занимали ограниченную территорию на Среднем Енисее; середина IX — вторая половина X в. — время значительного расширения границ» [Длужневская, 1982, с. 118]. Принципиальных различий, за исключением самих дефиниций, в приведённых периодизациях нет — все они рассматривают одни и те же хронологические этапы развития культуры енисейских кыргызов (по Л.Р. Кызласову — древних хакасов); причём решающее значение в культурогенезе придаётся событиям середины IX в., положившим начало эпохе «кыргызского великодержавия», тюхтятской культуре или резкому расширению границ культуры енисейских кыргызов. Периодизация Л.Р. Кызласова была положена в основу переодизации, предложенной автором настоящей работы при характеристике культуры енисейских кыргызов, с разделением её на койбальский (VII-VIII вв.), копёнский (VIII — середина IX в.) и уйбатский (середина IX-X вв.) этапы [Савинов, 1984, с. 80-83, 94-96, 174]. Против выделения утинского этапа выступил Ю.С. Худяков, считающий, что подразделение «эпохи чаа-тас на «утинский» и «копёнский» этапы не может быть принято в виду отсутствия критериев для выделения каждого из них» [Худяков, 1985а, с. 92].
Вопрос о выделении и хронологической систематизации ранних памятников енисейских кыргызов остаётся дискуссионным. В свете предложенной выше датировки позднего этапа таштыкской культуры на уровне середины VI в., вполне возможно сосуществование (или взаимная инфильтрация) традиций позднеташтыкских и раннекыргызских. Скорее всего, учитывая относительно плавный характер развития общности енисейских кыргызов, они могут быть просто неотличимы друг от друга. Вмесе с тем, бесспорно, выделяется ряд ранних чаа-
(31/32)
тасов, в материалах которых прослеживаются ближайшие аналогии с памятниками кудыргинского этапа в культуре алтайских тюрков, по периодизации А.А. Гавриловой [Гаврилова, 1965, с. 58-61]; и в этом отношении выделение койбальского [=утинского] этапа культуры енисейских кыргызов (VI-VII вв.), синхронного кудыргинскому, оправдано. Памятники этого времени в Минусинской котловине характеризуются теми же признаками: отсутствием поясных наборов с бляхами-оправами, двукольчатых удил, эсовидных псалий, характерных для периода Второго тюркского каганата. Из ранних памятников енисейских кыргызов показателен Сырский чаа-тас, в погребениях которого найдены «кыргызские вазы»; однокольчатые удила с железными двудырчатыми псалиями, возможно копирующие форму роговых; крюк от колчана, нож; бронзовые пластины-амулеты со схематическими изображениями головок животных, продолжающие ташыкскую традицию [Кызласов, 1955, рис. 38-40]. Следует отметить, что в материалах ранних чаа-тасов (Койбальского, Абаканского, Сырского и др.) значительно слабее отразились связи с культурой южных районов Саяно-Алтая, чем в последующее время. Видимо, это объясняется тем, что в VI-VII вв. население Минусинской котловины, генетически связанное с таштыкцами, ещё сохраняло известную обособленность от других районов Центральной Азии, что соответствует и сведениям письменных источников.
Как долго существовали традиции койбальского этапа в культуре енисейских кыргызов — сказать трудно; и в этом отношении Ю.С. Худяков прав, не видя дифференцирующих признаков для выделения утинского и копёнского этапов (по периодизации Л.Р. Кызласова). Памятники VII-VIII вв., синхронные катандинскому этапу в культуре алтайских тюрков, по периодизации А.А. Гавриловой [Гаврилова, 1965, с. 61-66], в культуре енисейских кыргызов в самостоятельную группу погребений не выделяются. Поэтому можно предполагать, что в это время здесь продолжала развиваться традиционная культура ранних чаа-тасов, мало подверженная различного рода инновациям, и провести верхнюю хронологическую границу койбальского этапа на уровне середины VIII в., т.е. синхронизировать его в целом с периодом существования Древнетюркских каганатов. «Архаизм и обособленность кыргызской культуры от кочевых культур Азии» в VI-VIII вв. отмечали и другие исследователи [Худяков, Ким, 1990, с. 174].
Особую группу памятников представляют погребения с конём на
(32/33)
территории Минусинской котловины, вопросы датировки и культурной принадлежности которых неоднократно обсуждались в литературе. Л.А. Евтюхова и С.В. Киселёв относили их к енисейским кыргызам, перешедшим в IX в. к обряду трупоположения с конём [Евтюхова, 1948, с. 60-67; Киселёв, 1951, с. 603-604]. С этой датировкой согласилась В.П. Левашова, но считала «обряд трупоположения с конём на Енисее занесённым с Алтая, когда Алтай, зависимый от енисейских кыргызов, был тесно связан с Хакасией» [Левашова, 1952, с. 136]. Большинство исследователей, так или иначе, связывают появление погребений с конём на Среднем Енисее с проникновением сюда тюрков-тугю, но по-разному датируют и, соответственно, интерпретируют это событие. С.А. Теплоухов, относивший раскопанное им погребение на р. Таштык к VII в., отмечал, что «подобного рода могилы являются новым типом для Минусинского края. Они хорошо известны около урочища Кудыргэ на Алтае. Весьма возможно, что описанная могила принадлежит представителю турков (тюрков — Д.С.), появившихся в VII в. в Минусинском крае» [Теплоухов, 1929, с. 55]. Л.Р. Кызласов считает, что погребения с конём, как и другие нетипичные для хакасов (кыргызов — Д.С.) захоронения оставили представители «иных этнических групп — южносамодийских, кетоязычных и других племён, а также алтайские тюрки, выходцы из Горного Алтая или Тувы» [Кызласов, 1975, с. 206-207 (в библиографии нет)]. А.Д. Грач рассматривал погребения с конём как памятники «военных гарнизонов» древних тюрков на Среднем Енисее [Грач, 1966, с. 191]. Ю.С. Худяков датирует все погребения с конём в Минусинской котловине VIII-IX вв., считает их древнетюркскими и связывает с походом 711 г. тюрков-тугю за Саяны [Худяков, 1979; 1980, с. 20]. Такой же точки зрения придерживается С.П. Нестеров [Нестеров, 1980; 1985]. Таким образом, вопрос о датировке и культурной принадлежности минусинских погребений с конём окончательно не решён. Рассмотрение их с учётом хронологии алтайских памятников древнетюркского времени показывает следующее.
В общей сложности, по данным С.П. Нестерова 1985 года, в Минусинской котловине известно 47 погребений с конём [Нестеров, 1985, с. 111]. В настоящее время, благодаря открытиям последних лет, их исследовано значительно больше [Савинов, Павлов, Паульс, 1987 [1988]; Митько, 1992; Тетерин, 1992; Киргинэков, Поселянин, 1992], и факт их разновременности становится все более очевидным. Наиболее ранние из них — у с. Усть-Тесь и с. Кривинское [Киселёв, 1929,
(33/34)
с. 144-149; Евтюхова, 1948, с. 60-61] могут быть датированы VI-VII вв. и связаны с проникновением какой-то группы алтайского населения на Средний Енисей. Каменые выкладки на поверхности и меридиональное расположение могил сближает их с кудыргинскими. В погребениях найдены керамика, железные петельчатые стремена, однокольчатые удила с изогнутыми роговыми псалиями, железная квадратная пряжка с подвижным язычком, длинные костяные накладки лука, имеющие близкие аналогии в материалах кудыргинского этапа [Киселёв, 1929, табл. V; Евтюхова, 1948, рис. 109-111]. Здесь же находились погребения по обряду трупосожжения с таштыкской керамикой тепсейского этапа, глиняными масками и т.д. — свидетельство первого столкновения ранних кыргызов с пришлыми тюрками. Не исключено, что появление этих погребений с конём может быть связано с завоеванием владений Цигу Мухан-каганом в середине VI в.
К VII-VIII вв. относится группа погребений у г. Тепсей [Грязнов, Худяков, 1979, с. 150-155] и одиночное погребение на р. Таштык [Теплоухов, 1929, табл. II; Нестеров, 1982]. Для них по-прежнему, как и в VI-VII вв., характерна преимущественно северная или северо-западная ориентировка погребённых; однако предметы сопроводительного инвентаря — петельчатые стремена, трёхперые наконечники стрел, железные стержневые псалии, металлические поясные накладки, костяные и железные пряжки, срединные накладки луков и орнаментированные накладки колчанов [Грязнов, Худяков, 1979, рис. 88-90; Нестеров, 1982, рис. 2-5] сопоставимы с катандинскими. О сравнительно ранней (в пределах VII-VIII вв.) дате таштыкского захоронения говорят параллели между накладками колчана из этого погребения с аварскими из Подунавья [Кюрти, 1984, рис. 2-4]. Появление этих и подобных им погребений с конём, относящихся к периоду Второго тюркского каганата, может быть связано с приходом 711 года, однако вряд ли следует все их идентифицировать с этим событием. Часть погребений с конём, не имеющих чётких хронологических признаков, может относиться и к более раннему времени, когда государство енисейских кыргызов, хотя и номинально, зависело от Первого тюркского каганата.
С точки зрения этнической принадлежности погребения с конём в Минусинской котловине, скорее всего, оставлены алтае-телескими тюрками, как условно можно определить местное алтайское (телеское) население, входившее в состав древнетюркских каганатов [Савинов,
(34/35)
1984, с. 55-57]. Интересно, что на протяжении длительного времени это население не смешивалось с енисейскими кыргызами, сохраняя свои особенности погребального обряда. Какое место занимали алтае-телеские тюрки в социально-этнической иерархии енисейских кыргызов, сказать трудно; однако, присутствие родственных групп населения в горно-степных районах Саяно-Алтая и в Минусинской котловине могло играть «сдерживающую» роль в завоеваниях центральноазиатских тюрков, основной центр расселения которых находился в Монголии. Именно эти алтае-телеские племена должны были быть покорены (или каким-то иным способом приведены в покорность) прежде, чем тюрки могли форсировать Саяны. С этой точки зрения интересна одна подробность из истории похода 711 г., о которой сообщается в надписи Тоньюкука. Проводником для похода через Саяны тюрки взяли человека «из степных азов». «Моя родная земля — Аз... (Там) есть одна остановка, если отправимся по (реке) Аны, то до ночлега там (останется) ход одной лошади», — сказал (он)». Однако спуск через Саяны занял более десяти дней. «Местный путеводитель, сбившись с пути, был заколот» [Малов, 1951, с. 67]. История безвестного «Сусанина» начала VIII в. показывает, что по обе стороны Саян существовали родственные группы населения, занимавшие как бы «буферное» положение между енисейскими кыргызами и орхонскими тюрками.
§ 4. Енисейские кыргызы и уйгуры (до 840 г.). ^
В 745 г. власть в Центральной Азии захватили уйгуры. Образование Уйгурского каганата явилось результатом многовековой борьбы телеских племён, в первую очередь — самих уйгуров, за политическую независимость, доминирующую роль в центральноазиатских этносоциальных объединениях и создание собственной государственности. Уйгурский каганат был сложным этнополитическим объединением, в состав которого, помимо уйгуров (тогуз-огузов), входило большинство телеских племён (пугу, хунь, байырку, тонгра, сыгэ, киби), также в определенные периоды их истории покоренные уйгурами народы — татары, кидани, басмалы, карлуки, чики и др.
Начало истории Уйгурского каганата было ознаменовано широкой военной экспансией уйгуров под водительством кагана Моюн-чура (или Боян-чура). Подробные сведения об этом сохранились в трёх памятниках древнетюркской рунической письменности — Селенгинской
(35/36)
[Малов, 1959, с. 30-44], Терхинской [Кляшторный, 1980] и Тэсинской [Кляшторный, 1983] надписях, повествующих об уйгурских завоеваниях в середине VIII в., в том числе и на территории Южной Сибири. В 750 г. уйгуры покорили чиков, живших на территории Тувы. «Там я распорядился устроить свой боевой лагерь и дворец (с престолом), там я заставил построить крепостные стены (заборы), там я провёл лето, и там я устраивал моления высшим божествам. Мои знаки (тамги) и мои письмена я там приказал сочинить и врезать в камень», — горделиво сообщает Моюн-чур [Малов, 1959, с. 40]. После этого, как следует из Селенгинской надписи, образовалась антиуйгурская коалиция, в которую, наряду с другими племенами, вошли чики и енисейские кыргызы. Но Моюн-чур опередил союзников. «Смотрите, — сказал я, — хан киргизский проживает на краю Когменских гор в своём жилище, (говорят) он послал свои летучие отряды в сторону своих союзников, а на его летучие отряды мои люди уже напали (говорят), и его разведчиков задержали» [Малов, 1959, с. 41].
В 758 г. уйгуры завоевали государство енисейских кыргызов; «после сего хягасские посольства уже не могли проникнуть в срединное государство» [Бичурин, 1950, с. 355]. Разрыв традиционных связей с Китаем явился для кыргызов одним из наиболее ощутимых последствий уйгурского завоевания. Разбив кыргызов, уйгуры, так же как до них тюркские войска в 711 г., двинулись на запад, переправились через Иртыш и разбили карлуков. «Потом я повернул обратно и остался», — сообщает Моюн-чур [Малов, 1959, с. 41]. Ставка уйгурского кагана была учреждена в верховьях р. Тэс в Северо-Западной Монголии, в междуречье рек Каргы и Каа-Хем [Кляшторный, 1980, с. 94], где на озере Тере-Холь С.И. Вайнштейном была открыта дворцовая постройка уйгурского времени, возможно, принадлежавшая Боян-чору [Вайнштейн, 1964, с. 113-114]. В Терхинской надписи указаны северные и западные пределы Уйгурского каганата в середине VIII в. — «по... южную границу, по Алтунской черни западную границу, по Кёгмену северную границу защищай!» [Кляшторный, 1980, с. 92]. Страна енисейских кыргызов осталась за пределами Уйгурского государства. Как справедливо считает Л.Р. Кызласов, подчинение кыргызов уйгурам было кратковременным и номинальным, так как «управителем в древнем государстве хакасов (кыргызов — Д.С.) остался всё тот же хан» [Кызласов, 1969, с. 58].
В Тэсинской надписи, относящейся к более позднему времени
(36/37)
(761-762 гг.), никаких сведений о военных действиях между кыргызами и уйгурами не сообщается. Очевидно, в этот период наступила известная стабилизация отношений, вызванная равновесием сил, или, точнее — позиционная война. О том, как она проходила, можно судить по следующей ситуации. В источниках говорится, что «сие государство (енисейских кыргызов — Д.С.) было всегда в дружественных отношениях с Даши (Средней Азией — Д.С.), Туфанию (Тибетом — Д.С.) и Гэлолу (карлуками на Западном Алтае — Д.С.), но туфаньцы при сообщении с Хягасом (страной енисейских кыргызов — Д.С.) боялись грабежей со стороны хойху (уйгуров — Д.С.), вот почему брали провожатых из Гэлолу» [Бичурин, 1950, с. 355]. Приведённый отрывок чётко показывает расстановку политических сил в Центральной Азии во второй половине VIII в.: связи енисейских кыргызов с карлуками, помощью которых пользовались тибетцы; враждебные действия по отношению к ним уйгуров, через территорию которых проходили караванные пути, соединяющие страну енисейских кыргызов и Тибет. Уйгурский каганат оказался как бы «зажатым» между территориями дружественных государств: Тибетом на юге, карлуками на западе и кыргызами на севере. На востоке очень непросто складывались отношения Уйгурского каганата с Китаем. Призванные в Китай для помощи в подавлении восстания Ань Лушаня, уйгурские войска настолько разорили Китай, что из союзников превратились в одного из главных его противников.
В 795 г. прекратила своё существование уйгурская правящая династия Яглакар, и в Уйгурском каганате наступила пора междоусобиц. «Поразительный факт в истории дома хойху (уйгуров — Д.С.), — отмечал Д. Позднеев, — заключается в том, что по прекращении на его троне дома Иологэ (Яглакар — Д.С.) в 795 г. почти ни один хан не правил больше 3-4 лет» [Позднеев, 1899, с. 95].
Около 818 г., «только что хойху начали упадать (т.е. ослабевать — Д.С.)» [Бичурин, 1950, с. 355], кыргызский Ажо объявил себя каганом, что явно отражало интересы союзных с кыргызами государств: мать его была тюргешской княжной, а жена — дочерью тибетского полководца [Гумилёв, 1967, с. 429]. В ответ «хойхуский хан послал министра с войском, но сей не имел успеха» [Бичурин, 1950, с. 355]. Кыргызско-уйгурские войны продолжались двадцать лет. В течение этого времени, несомненно, кыргызы и уйгуры совершали военные походы через Саяны. Памятью об одном из них является руни-
(37/38)
ческая надпись из Мугур-Саргола в Саянском каньоне Енисея: «У тысячи героев на (реке) Ане славу мы сумели (уничтожить). Река Кем (Енисей). Написал Кулун» [Кызласов И., 1979, с. 280]. В конце этой войны кыргызский Ажо писал уйгурскому кагану Бао-и: «Твоя судьба кончилась. Я скоро возьму золотую твою орду, поставлю перед нею моего коня, водружу моё знамя. Если можешь состязаться со мною, то немедленно приходи; если не можешь, то скорее уходи» [Бичурин, 1950, с. 355-356]. В 840 г., пользуясь изменой уйгурского военачальника Цзюйлу Мохэ, вызвавшего нападение кыргызской конницы на столицу уйгуров г. Орду-Балык, енисейские кыргызы сокрушили Уйгурский каганат и захватили власть в Центральной Азии.
Падение Уйгурского каганата не было следствием только нашествия енисейских кыргызов, а явилось следствием целого ряда причин как внутренних, так и внешних. К внутренним причинам могут быть отнесены разложение элиты уйгурского общества; стихийные бедствия 839 г., когда «был голод, а вслед за ним открылась моровая язва, отчего много пало овец и лошадей» [Бичурин, 1950, с. 334]; присоединение уйгурами территории современной Тувы, до этого занимавшей своеобразное «буферное» положение между государствами Центральной Азии, не имевшими общих границ с енисейскими кыргызами. Внешние причины заключались в возросшей силе кыргызов, постоянных военных столкновениях Уйгурского каганата с Танским Китаем и заинтересованной политике Тибета, установившего договорные отношения с енисейскими кыргызами ещё в начале VIII в.
Выделение археологических пмятников уйгуров представляет собой одну из нерешённых проблем. А.А. Гавриловой было высказано предположение о принадлежности уйгурам памятников сросткинского типа на Алтае [Гаврилова, 1965, с. 72], которое сейчас не поддерживается никем из исследователей, хотя уйгурский компонент, как об этом будет сказано ниже, несомненно присутствует в сросткинском культурном комплексе. Сведения письменных источников о сооружении уйгурами при Боян-чоре «лагерей» и «дворцов» на р. Кем (Енисей) могут быть сопоставлены с серией городищ (точнее — укреплённых оборонительных сооружений), исследованных в Центральной Туве, принадлежность которых определяется С.И. Вайнштейном и Л.Р. Кызласовым как уйгурская [Вайнштейн, 1958, с. 227-229; 1959; 1964; Кызласов, 1959; 1960а, с. 147-149; 1969, с. 59-63; 1979, с. 145-158]. По Л.Р. Кызласову, уйгурами «была сооружена огромная система погра-
(38/39)
ничных укреплений, охранявшая каганат с севера. Эта система состояла из длинной пограничной стены, в которую были встроены крепости и опорные пункты. Вся система располагалась дугой, обращённой на север (т.е. против енисейских кыргызов — Д.С.)... На всём протяжении длинной стены располагалось 17 пограничных крепостей» [Кызласов, 1981б, с. 53]. К сожалению, материалы из городищ, считающихся уйгурскими, недостаточно выразительны: это фрагменты керамики, зернотёрки, отдельные металлические орудия и костяные поделки, имеющие широкий круг аналогий и поэтому мало информативные [Кызласов, 1969, рис. 13; 1979, рис. 97-115]. На некоторых городищах (Баажин Алак) встречается керамика с резным орнаментом, сопоставимая с хуннской [Миняев, 1981, с. 197]. Уйгурская принадлежность расположенных у Шагонарских городищ катакомбных могильников Чааты I и II у многих исследователей вызывает сомнение [Гаврилова, 1974, с. 180; Худяков, Цэвэндорж, 1982, с. 93-94; Варламов, 1987; Азбелев, 1991]. С.С. Миняев, подробно рассмотревший традицию подобных погребений в Центральной Азии, отметил «несовместимость уйгурской атрибутики тувинских захоронений в подбоях и катакомбах с гипотезой о центральноазиатском происхождении уйгуров» [Миняев, 1990, с. 80]. Как бы то ни было, проблема эта далека от своего разрешения.
Наиболее перспективным представляется отождествление с уйгурскими погребений по обряду трупоположения со шкурой коня, предложенное Л.А. Евтюховой [Евтюхова, 1957, с. 222-223] и затем аргументированное на материалах керамики и предметов торевтики, украшенных орнаментом с манихейской символикой, в ряде работ Ю.С. Худякова и его коллег [Худяков, Цэвэндорж, 1982; Худяков, 1983; 1985а; 1986; 1992, с. 14-19 и др.; Худяков, Нестеров, 1984; Худяков, Мороз, 1987; Худяков, Ким, 1990]. В дальнейшем «уйгурская погребальная обрядность, — считает Ю.С. Худяков, — включающая использование шкуры верхового коня при захоронении взрослых людей, оказала влияние на погребальную обрядность кыргызов, кыштымов, кыпчаков и др.» [Худяков, 1992, с. 4].
С периодом пребывания уйгуров на территории Тувы связано распространение здесь каменных изваяний, изображающих фигуру человека с сосудом в двух руках, среди которых выделяются тщательностью исполнения изваяния Центральнотувинской котловины, образующие отдельную стилистическую группу памятников. Нижняя дата су-
(39/40)
ществования изваяний с сосудом в двух руках определяется по изображениям на них поясов с лировидными пряжками с острым носиком — VIII-IX вв. [Евтюхова, 1952, рис. 20-26; Грач, 1961, с. 67-68, 91; Кызласов, 1969, с. 80-82, рис. 27]. Иконография этих изваяний также связывается с манихейской символикой [Ермоленко, 1990]. Известно, что манихейство было принято в Уйгурском каганате в качестве официальной религии в 763 году. На территории Горного Алтая, не входившей в состав Уйгурского каганата, подобные изваяния неизвестны.
Культура енисейских кыргызов, изученная в значительно большей степени, в VIII-IX вв. представлена различными видами памятников. Ведущим из них по-прежнему являются погребения типа чаа-тас с устойчивым обрядом трупосожжения, которые по характеру наземного сооружения делятся на две группы: 1) малые ограды (или курганы) с 4-8 стелами в основании (как правило, более «бедные»); 2) большие ограды (или курганы), имеющие 10 и более стел в основании, в которых, наряду с кремацией, представлены погребения по обряду трупоположения (как правило, более «богатые» — с тайниками, предметами торевтики, золотыми сосудами и т.д.) [Азбелев, 1990, с. 74]. Чаа-тасы первой группы продолжают традиции предшествующего, койбальского этапа; чаа-тасы второй группы, очевидно появляются относительно позже, генетически связаны с предшествующими и относятся к периоду расцвета культуры кыргызов на Енисее (копёнский этап — VIII — середина IX вв.). К этому времени относятся такие известные памятники как могильники Капчалы I и II [Левашова, 1952]; Джесос, чаа-тас за Ташебой, Кызыл-Куль и др. [Евтюхова, 1948, с. 14-18]; Копёнский чаа-тас [Евтюхова, Киселёв, 1940; Евтюхова, 1948, с. 30-53; Киселёв, 1951, с. 583-587], по которому было дано название этого этапа культуры енисейских кыргызов.
На копёнском этапе в культуре енисейских кыргызов происходят существенные изменения, связанные как с внутренним развитием кыргызского общества, так и усилением внешних культурных связей. Появляется целый ряд форм вещей, ранее не встречавшихся в Минусинской котловине: поясные бляхи-оправы и ременные наконечники, тройники с вырезными лопастями и уздечные бляшки с фестончатым краем, крупные сердцевидные бляхи-решмы, стремена с высокой пластинчатой дужкой, двукольчатые удила с эсовидными псалиями, серебряные сосуды на поддоне и др. Все они находят ближайшие параллели в материа-
(40/41)
лах курайского этапа (VIII-IX вв.), по периодизации культуры алтае-телеских тюрков [Савинов, 1984, с. 65-68]. Источником этих инноваций были южные районы Саяно-Алтая, а причина их появления на Среднем Енисее, скорее всего, заключается в сложном характере взаимоотношений между алтае-телескими тюрками, уйгурами и енисейскими кыргызами в период господства Уйгурского каганата.
В материалах VIII-IX вв. впервые встречаются приёмы оформления предметов, которые могут быть определены как этнически показательные для культуры енисейских кыргызов: витые стержни удил, петельчатые приплюснутые дужки и прорезные подножки у стремян, тройники с вырезными лопастями, фигурные петли на псалиях и др. Большинство деталей поясных и уздечных наборов копёнского этапа, а также золотые и серебряные сосуды, украшены сложным растительным орнаментом, наиболее характерным для культуры енисейских кыргызов, начиная с этого времени. По заключению специально исследовавших орнаментальное искусство средневековых хакасов (кыргызов — Д.С.) Л.Р. Кызласова и Г.Г. Король, оно отражает, в первую очередь, влияние со стороны изобразительного искусства Танского Китая. «Об этом свидетельствуют ряд мотивов, сюжетов, детали изображений, некоторые украшения... Влияние это могло распространяться как с территории самой Срединной империи, так и через Восточный Туркестан, с которым существовали не менее тесные связи и где в VIII-IX вв. наблюдается сильное влияние танского искусства» [Кызласов, Король, 1990, с. 170].
Особо следует остановиться на двух курганах Копёнского чаа-таса (№№ 2 и 6), исследованного Л.А. Евтюховой и С.В. Киселёвым в 1939 г. [Евтюхова, Киселёв, 1940] и до сих пор сохраняющего значение эталонного памятника в культуре енисейских кыргызов. Оба кургана относятся ко второй группе погребений типа чаа-тас, т.е. к наиболее «богатым» захоронениям этого времени. Центральные захоронения в них, два из которых — в кургане 6 — были обожжены, оказались ограбленными; однако в них были найдены несожжённые кости людей и животных, а также отдельные золотые вещи (обрывки листового золота; поясные бляшки, в том числе одна массивная с растительным орнаментом серьга с подвеской). Кроме того, в обоих курганах обнаружено по два «тайника» с остатками трупосожжений и наиболее ценными вещами, побывавшими в огне погребального костра. Именно отсюда происходит серия золотых и серебряных сосудов, многочислен-
(41/42)
ные предметы поясных и сбруйных наборов, представляющие прекрасные произведения средневековой торевтики; а также бронзовые украшения лук сёдел, в том числе знаменитые фигурки стреляющих всадников, ставшие символом культуры енисейских кыргызов.
По поводу погребального обряда больших курганов Копенского чаа-таса существует две точки зрения. Л.А. Евтюхова и С.В. Киселёв считали, что основные погребения здесь были совершены по обряду трупосожжения, а несожжённые кости принадлежали рабам или слугам, сопровождавшим знатных покойников, к которым относились также «тайники» с наиболее ценными вещами. Точки зрения о господстве обряда трупосожжения на всём протяжении существования культуры енисейских кыргызов придерживается большинство исследователей. Вместе с тем, противоречивые указания о характере погребального обряда в центральных погребениях больших курганов Копёнского чаа-таса позволили А.А. Гавриловой высказать предположение о том, что основные (ограбленные) захоронения здесь были совершены по обряду трупоположения, а так называемые «тайники» представляют собой помещённый таким образом инвентарь сопроводительных трупосожжений. Основанием для этого послужили аналогии с погребениями Курайского могильника того же времени на Горном Алтае и сохранившийся в литературе рассказ бугровщика по имени Селенга, ограбившего Копёнский чаа-тас [Гаврилова, 1965, с. 65-66]. По рассказу Селенги, в копёнских курганах помещались могилы, обставленные [с обставленными] каменными плитами остовами людей, в изголовье которых находились лошадиные головы с удилами и уздечными украшениями. Кроме того, по его сообщению, по углам или по бокам могил располагались другие остовы, т.е. скелеты людей, иногда сожжённые, и с ними — сосуды, пояса, слитки золота и другие вещи, иногда перемешанные с костями человека, что в целом соответствует картине погребального обряда, точнее — его следам, зафиксированным археологически. Предположение А.А. Гавриловой о том, что «это могли быть погребения вождя и его дружинников» [Гаврилова, 1965, с. 66] тем более интересно, что именно эта форма захоронения — подкурганные трупосожжения с помещёнными отдельно, «кучкой», предметами сопроводительного инвентаря — станет одним из наиболее распространённых видов погребений воинов в IX-X вв. [Савинов, 1984, с. 82-83]. Наиболее чёткое выражение эта гипотеза приобрела в изложении П.П. Азбелева, считающего, что «размещение погребений в пределах биритуальных комплексов на
(42/43)
больших чаатасах показывает социальное превосходство сравнительно небольшой группы носителей всаднического ритуала» [Азбелев, 1990, с. 74]. Если это так, то следует предположить, что в обществе енисейских кыргызов периода господства Уйгурского каганата произошли существенные изменения (смена правящей династии?), в результате которых пришли к власти носители традиции погребения с конём, то есть пришла группа населения, использовавшая кыргзов в качестве военной силы. При этом в среде кыргызов, судя по набору сопроводительного инвентаря в т.н. «тайниках», уже выделилась своя дружинная аристократия. Каково было «богатство» ограбленных центральных захоронений в больших минусинских чаа-тасах, в таком случае можно только догадываться.
Традиционную этносоциальную дифференциацию погребального обряда предлагает Ю.С. Худяков: «Характерным этнодиагностирующим признаком кыргызской заупокойной обрядности является сожжение трупа умершего на погребальном костре с последующим захоронением праха в могиле». При захоронениях знатных кыргызов соблюдался полный цикл погребальных обрядов, а «в отношении рядовых кыргызов обряд совершался не полностью». При этом «сложность конструкции погребального сооружения, наличие заупокойной пищи и сопроводительного инвентаря являются признаками социальной дифференциации общества». «Представители зависимого населения кыштымы хоронили по другим обрядам — в насыпях курганов чаа-тасов или в ямах под небольшими курганами без вещей... Тюрки и уйгуры хоронили умерших с конём или шкурой коня» [Худяков, Ким, 1990, с. 174-175].
Существование различных точек зрения по поводу этносоциальной оценки погребального обряда ведущего типа памятников енисейских кыргызов VIII-IX вв. весьма показательно: так или иначе (до появления новых материалов) оно свидетельствует об усложнении этнокультурных процессов, происходивших в кыргызском обществе в период решающего столкновения с уйгурами.
По поводу датировки курганов Копёнского чаа-таса также нет единого мнения. Л.А. Евтюхова и С.В. Киселёв датировали его VII-VIII вв., то есть периодом до начала кыргызско-уйгурских войн. Сомнение в правильности такой датировки возникло после выхода в свет работы Б.И. Маршака о согдийском серебре, в приёмах орнаментации которого имеется много созвучного с декором копёнских золотых сосудов. На основании тщательного анализа орнаментальных композиций
(43/44)
Б.И. Маршак установил датировку кургана 2 Копёнского чаа-таса — «около середины или даже второй половины IX в.» [Маршак, 1971, с. 55-56]. При этом Б.И. Маршак отметил некоторые особенности кургана 2 (окраинное положение, отсутствие вертикально установленных плит, обилие золотых вещей), которые «не противоречат датировке кургана 2 IX в. и даже частично подтверждают её» [Маршак, 1971, с. 57]. К этому следует добавить, что ни в одном памятнике енисейских кыргызов не ощущается столь сильное влияние восточного искусства (изображение драконов, фениксов, гусей со сплетёнными шеями и т.д.), как в Копёнах-2. Такое преобладание восточных мотивов могло иметь место в период завершения кыргызско-уйгурских войн, а, возможно, и победы енисейских кыргызов, вызвавших усиленный интерес к ним со стороны Танской династии, то есть в середине — второй половине IX в. Весте с тем, вряд ли можно предполагать большую разницу во времени сооружения кургана 2 и других захоронений Копенского чаа-таса, так как, во-первых, несмотря на характер орнаментации, большинство изделий из «тайников» этого кургана повторяют формы предметов, характерных для VIII-IX вв.; во-вторых, при более поздней датировке этого комплекса следовало бы ожидать аналогии копёнским материалам в кыргызских погребениях Тувы, Алтая и Восточного Казахстана IX-X вв., а этого не наблюдается.
Копёнский чаа-тас относится к периоду расцвета культуры енисейских кыргызов в Минусинской котловине. Материалы этого памятника отчётливо показывают высокую степень социальной дифференциации кыргызского общества. Найденные здесь предметы — золотые блюда и сосуды с руническими надписями и роскошным накладным орнаментом, бронзовые барельефы с изображениями всадников и животных в сценах охоты, детали поясных и сбруйных наборов, сплошь покрытые растительным орнаментом и зооморфными композициями — демонстрируют исключительно высокий уровень художественной культуры енисейских кыргызов. Усложнение социальной структуры гоударства должно было повлечь за собой изменения в военной организации, всё более укреплявшейся для предстоящей войны с уйгурами [Худяков, 1980а, с. 138-139]. Все эти процессы нашли непосредственное отражение в материалах Копёнского чаатаса и других памятников енисейских кыргызов VIII-IX вв.
К этомуже времени на территории Минусинской котловины отно-
(44/45)
сится и серия погребений с конём: из старых раскопок — Капчалы II [Левашова, 1952, с. 129-135], Батени [Теплоухов, 1929, табл. II] и др.; из новых — Маркелов Мыс I и II [Митько, 1992; Тетерин, 1992], Белый Яр III [Киргинэков, Поселянин, 1992] и др. Материалы этих погребений свидетельствуют о длительном проживании в Минусинской котловине отдельных родственных групп населения, связанных с алтайским этногенезом и хоронивших своих покойников в сопровождении коня. По характеру погребального обряда (преимущественно западная ориентировка и сопроводительные захоронения коней, расположенные в том же направлении) они генетически связаны с предшествующими, что не исключает усиления данных групп населения в результате похода 711 года. Вместе с тем, по материалам новых раскопок, явно прослеживаются следы ассимиляции этого населения с кыргызами. Так, на могильнике Белый Яр III рядом находились трупосожжения и погребения по обряду трупоположения с конём; на могильнике Маркелов Мыс зафиксировано частичное обожжение трупа; во всех случаях в погребениях найдена керамика типа «кыргызских ваз». «От классических образцов они отличаются лишь технологией изготовления. Подобная керамика встречается и в других погребениях, совершённых по обряду трупоположения с конём на территории Среднего Енисея, что указывает на определённые связи носителей данного обряда с енисейскими кыргызами» [Митько, 1992, с. 48]. Приведённые материалы, пока немногочисленные, свидетельствуют о том, что относительная изоляция, в которой находились алтае-телеские тюрки в Минусинской котловине, в период Уйгурского каганата была нарушена.
Особую группу образуют погребения с конём, сделанные в подбоях, происхождение которых отчётливо связывается с подбойными захоронениями Тувы, исследованными Б.Б. Овчинниковой и выделенными ею в центрально-тувинский вариант погребений с конём [Овчинникова, 1979; Овчинникова, Длужневская, 1980, с. 81]. По мнению Б.Б. Овчинниковой, подбойные погребения «отражают черты, характерные как для древнетюркских, так и уйгурских племён» [Овчинникова, 1982, с. 217 (в библиографии нет)]. Процессы аккультурации и этнической ассимиляции, отразившиеся в материалах подбойных погребений Центральной Тувы, должны были привести к образованию здесь смешанного населения, участие которого до сих пор не учитывалось в сложной системе взаимоотношений между алтае-телескими тюрками, уйгурами и енисейскими кыргызами. Большинство из исследованных подбойных погребений в
(45/46)
Туве принадлежит хорошо вооружённым воинам: «Ими могли быть люди, принадлежавшие высшему военному составу, то есть занимавшие более высокое положение в небольшой определённой племенной группе» [Овчинникова, 1983, с. 65].
Ещё до победы кыргызов над уйгурами часть этого населения переселилась в южные и отчасти центральные районы Минусинской котловины, где в это время появляются подбойные погребения с конём, типологически близкие тувинским — Уйбат I [Киселёв, 1939, с. 256; Евтюхова, 1948, с. 61-64], Перевозинский чаа-тас [Зяблин, 1969, с. 238], Ыбыргыс-Кисте [Худяков, 1985]. Серия таких же погребений, сооружённых в насыпях курганов тагарской культуры, открыта в Койбальской степи на юге Хакасии [Савинов, Павлов, Паульс, 1988]. Наиболее ранние из них (Сабинка I) датируются VIII-IX вв.; поздние (Кирбинский Лог) — IX-X вв. Вместе с погребениями мужчин-воинов, здесь были обнаружены одновременные им женские и детские захоронения, показывающие существование здесь своего рода военного поселения, создание которого имело смысл до победы кыргызов над уйгурами (Сабинка I), что не исключает возможности проживания здесь этой группы населения и после событий 840 г. (Кирбинский Лог). Таким образом, подбойные погребения с конём на территории Минусинской котловины оказываются разновременными, что признают и другие исследователи: «Состав сопроводительного инвентаря свидетельствует о принадлежности изучаемых памятников к различным хронологическим периодам: VII-IX, IX-X и XI-XII вв. Погребальная обрядность памятников принадлежит обособленной этнической группе, появление которой в Минусинской котловине авторы склонны связывать с событиями уйгурско-кыргызских войн конца VIII — первой половины IX века» [Худяков, Мороз, 1987, с. 188]. Непонятно, почему те же авторы склонны рассматривать все погребения с конём в Минусинской котловине, как появившиеся единовременно в результате похода 711 года?
В истории Уйгурского каганата можно отметить этнополитическую ситуацию, возможно, имеющую отношение к появлению подбойных погребений с конём на юге Минусинской котловины. В 751 г., когда была создана антиуйгурская коалиция, некоторые тюркские беги предали уйгуов и перешли на сторону кыргызов [Кызласов, 1969, с. 58]. О том, что на территории Хакасии были в это время представители западнотюркской администрации, находившейся на службе у енисей-
(46/47)
ских кыргызов, видетельствует руническая надпись на одном из немногих каменных изваяний VIII-IX вв. (с сосудом в двух руках) у с. Знаменки: «Я — Эзгене — внутренний (чин) Кара-Хана. Я был на двадцать шестом году своей жизни. Я умер внутри тюргешского государства, я начальник, надпись...» [Малов, 1952, с. 67]. Из среды союзных племён в середине VIII в. вполне могло было быть создано военное поселение, охранявшее южные подступы к кыргызскому государству.
Таким образом, сведения письменных источников периода господства Уйгурского каганата и материалы археологических памятников VIII — первой половины IX вв. из Тувы и Минусинской котловины не только дополняют друг друга, но и достаточно разносторонне характеризуют взаимоотношения между енисейскими кыргызами и уйгурами накануне эпохи «кыргызского великодержавия».
§ 5. Период «великодержавия» кыргызов (сер. IX-X вв.). ^
Определение «великодержавие», данное В.В. Бартольдом [Бартольд, 1963, с. 489-500], отрицается некоторыми исследователями по двум основаниям: во-первых, в виду явной кратковременности данного периода, по сравнению с предшествующими; во-вторых, из-за отсутствия данных о «державной» политике енисейских кыргызов по отношению к другим народам. И то и другое представляется не состоятельным. Хотя хронологические рамки т.н. «великодержавия» (после 840 г.) точно не определены, и сам период мог быть достаточно кратким, его внутреннее содержание и последствия настолько глубоки, что имеют полное право на определение в качестве самостоятельного исторического этапа. Что касается кыргызов, то, пользуясь словами Ю.С. Худякова, «это был поистине «звёздный час» кыргызской истории, время поразительных успехов кыргызского оружия, распространения кыргызской культуры по обширным пространствам степной Азии» [Худяков, 1989, с. 35]. Следует отметить, что экспансия енисейских кыргызов в середине IX в. не являлась обычным военным походом, вызванным «сиюминутными» политическими интересами (как, например, поход тюрков и уйгуров за Саяны), а была подготовлена всем ходом предшествующего развития государства и общества енисейских кыргызов. Само направление военной кампании середины IX в. принципиально отличалось от предшествующих: впервые народ северного происхождения, создавший высокую культуру в бассейне Среднего Енисея,
(47/48)
стал играть решающую роль в делах своих южных соседей.
Сведения письменных источников подробно характеризуют только начальный этап кыргызского «великодержавия». В 840 г. кыргызы разгромили столицу уйгуров г. Орду-Балык. Уйгурский каган погиб. «Ажо под личным предводительством предал огню ханское стойбище и жилище царевны (принцессы Тай-хэ, дочери танского императора Сянь-цзуна, жены уйгурского кагана — Д.С.)» [Бичурин, 1950, с. 356]. Ставка кыргызского Ажо была перенесена в Север-Западную Монголию, южнее гор Ду-Мань (Танну-Ола — Д.С.), «в 15 днях конной езды от прежнего хойхуского (уйгурского — Д.С.) стойбища» [Бичурин, 1950, с. 356].
Вслед за отступающими уйгурами, кыргызы заняли ряд районов Центральной Азии — Монголию, Джунгарию, Восточный Туркестан. В 841-842 гг. ими были захвачены крупные города Восточного Туркестана — Бешбалык и Куча; в 843 — Аньси и Бэйтин. В 847-848 гг. экспансия енисейских кыргызов была направлена в сторону Забайкалья, против племён шивэй, у которых укрылись остатки разгромленных уйгуров. В результате, уже к середине IX в. границы гоударства енисейских кыргызов резко расширились, что и нашло отражение в сведениях письменных источников, относящихся к этому времени. «Хягас было сильное государство; по пространству равнялось тукюеским владениям (очевидно, имеются в виду границы Второго тюркского каганата — Д.С.). На восток простиралось до Гулигани (страна курыкан в Прибайкалье — Д.С.), на юг до Тибета (в данном случае — Восточный Туркестан — Д.С.), на юго-запад до Гэлолу (страна карлуков, в VIII в. переселившихся в Семиречье — Д.С.)» [Бичурин, 1950, с. 354]. Таким образом, очерчивается огромная территория — от Пибайкалья на востоке до восточных отрогов Тянь-Шаня на западе, включая Монголию и оазисы Восточного Туркестана, власть в которых вскоре вновь захватывают бежавшие сюда уйгуры [Малявкин, 1983]. Родина енисейских кыргызов — Минусинская котловина — становится самой северной окраиной этого обширного государства.
Победа, одержанная енисейскими кыргызами, с которыми Китай и раньше поддерживал дипломатические отношения, над уйгурами, ставшими к этому времени одним из главных противников Китая, а также создание в Центральной Азии нового государства, вызвало огромный интерес при дворе Танского правительства. Возобновление отношений между енисейскими кыргызами и Китаем связано с историей принцессы
(48/49)
Тай-хэ, ярко описанной в источниках [Малявкин, 1974; 1975; Супруненко, 1974; 1975]. В 841 г. Тай-хэ, захваченная в плен при штурме Орду-Балыка, была отправлена кыргызами в Китай в сопровождении посольства и военного эскорта. Как отмечает Ю.С. Худяков, «это был повод для установления новых контактов с империей Тан и для демонстрации своей власти над Центральной Азией» [Худяков, 1989, с. 34]. Однако по пути отступавшие на юг уйгуры во главе с У-цзе тегином напали на кыргызов, отбили Тай-хэ и убили кыргызских посланников. После этого У-цзе перешёл Гоби, расположился у китайской пограничной крепости Тяньдэ и объявил себя каганом. Отсюда «принцесса Тай-хэ отправила посланника с письмом к императору и сообщила, что У-цзе вступил на престол и по традиции просит грамоты на титул (то есть признания его ханом). При дворе было решено оказать уйгурам помощь» [Супруненко, 1975, с. 62]. В 842 г. в Тяньдэ прибыл кыргызский посланник с письмом от кыргызского кагана, в котором сообщалось, что кыргызы не имеют сведений о предыдущем посольстве и принцессе Тай-хэ; поэтому «отправили на поиски военный отряд». В это же время У-цзе, не дождавшись окончания переговоров с Танским правительством, начал военные действия против Китая, но был разбит, что окончательно определило ориентацию внешней политики Китая по отношению к уйгурам и енисейским кыргызам в пользу последних. С их помощью Китай намеревался окончательно сокрушить своих давних противников уйгуров. В одном из писем император У-цзун обращался к кыргызскому кагану со следующими словами: «Поскольку Вы, хан, питаете ненависть (к уйгурам), следует полностью уничтожить (этих) варваров. Если оставить тлеющий пепел, то непременно возникнут последующие бедствия... Уйгуры являются изменниками нашего государства и Вашими врагами, хан. Нужно вырвать их с корнем, тогда установится мир» [Супруненко, 1975, с. 64].
В этой ситуации складываются наиболее тесные отношения между Танским Китаем и енисейскими кыргызами, прерванные на время господства Уйгурского каганата. В 843 г. к китайскому двору прибыл кыргызский посланник с письмом от кыргызского кагана. С ним был отправлен ответ «Письмо к кыргызскому вану». В течении последующих лет подобный обмен посланиями становиться регулярным. По указанию У-цзуна, китайский министр Ли Дэ-юй «точный приказ расспросить сяцзясов (кыргызов) об (их) владениях и обычаях, и соста-
(49/50)
вить описание... В связи с приездом ко двору иноземцев приказал с каждого написать их одежду, облик и сделать картину приношения дани... Повелел живописцу написать изображения и поместить перед описанием. Одновременно я, — отмечает Ли Дэ-юй, — не рассчитывая на поверхностные сведения, написал предисловие к описанию» [Супруненко, 1963, с. 79]. «А как хягасы (кыргызы — Д.С.) открыли свободное сообщение с Срединным государством, то надобно написать портрет их государя для показа будущим векам» [Бичурин, 1950, с. 356]. Все это показывает, насколько серьёзными были намерения Танского правительства относительно союза с енисейскими кыргызами. В этой связи интересно одно обстоятельство. В танских хрониках содержится очень подробное описание этнографии енисейских кыргызов, скорее всего, относящееся именно к данному времени. Об этом свидетельствует следующее сообщение: «Низшие (простолюдины) одеваются в шкуры и обнажают головы, как показано на картине [Кюнер, 1961, с. 58]. Совершенно очевидно, что имеется в виду именно та картина «приношения дани», которая была написана по повелению Ли Дэ-юя. К сожалению, эта картина, представляющая собой бесценный источник по культуре енисейских кыргызов, не дошла до нас, но уже сам факт, что она была написана, представляет огромный интерес. Именно к этому времени относится «рекордное» количество китайских монет чеканки 841-846 гг. — 237 экз. [Киселёв, 1947, с. 95]. То же самое касается китайских зеркал, найденных на Енисее — «в результате мощного притока зеркал в Минусинскую котловину этот район становится крупнейшим центром находок танских зеркал за пределами империи Тан [Лубо-Лесниченко, 1975, с. 22].
В 846 г. император У-цзун, главный инициатор договорных отношений с енисейскими кыргызами, скончался. «Сюань-цзун по вступлении на престол, хотел исполнить предначертания своего предшественника: но некоторые из вельмож представили ему, что Хягас (государтво кыргызов — Д.С.) есть небольшой род, который не в состоянии равняться с домом Тхан; почему дело сие предоставлено было рассмотрению министров... Общее мнение чинов было, что хойху (уйгурам — Д.С.) давались грамоты во время их могущества; к счастию, они теперь упали, а для устранения будущих беспокойствий не для чего усиливать хягасов (кыргызов — Д.С.). И так сие дело было оставлено». В течении периода 860-873 гг. кыргызские послы ещё три раза приезжали к китайскому двору, но обстоятельства этих по-
(50/51)
сольств неизвестны. «Впоследствии были ли посольства и были ли даваны жалованные грамоты, историки не вели записок» [Бичурин, 1950, с. 357].
Последнее замечание может быть поставлено эпиграфом ко всей дальнейшей истории кыргызов — сведения о них крайне немногочисленны и разрозненны, что составляет основную трудность изучения завершающего этапа кыргызского «великодержавия». В 916 г. власть в Северном Китае захватила могущественная династия Восточное Ляо (государство киданей), включившая в состав своих владений все северные районы Центральной Азии, вплоть до Алтайских гор. Известно, что в 924 г. кидани совершили поход в Монголию, на Орхон, где уже не встретили кыргызов, и император Амгабань предложил уйгурам вернуться на свои прежние земли. В хрониках династии Восточное Ляо (Ляоши) ни разу не упоминается о столкновениях между киданями и кыргызами в это время, которые, несомненно, должны были бы иметь место, если бы кыргызы по-прежнему занимали территорию Монголии. Другие сведения письменных источников позволяют предполагать как мирный, так и военный характер взаимоотношений между кыргызами и киданями. Вполне вероятно, что на каком-то этапе кыргызы были завоёваны киданями и находились в зависимости от них: ко двору императора Ляо «хягасы постоянно присылали посланников и дань» [Кюнер, 1951, с. 12]. В то же время в Ляоши сохранились данные о двух посольствах кыргызов к киданям (952 и 977 гг.), а под 931 г. указано, что «юго-западная граница (государства киданей) руководила приходом стремившихся к просвещению людей государства Хягясы» [Кызласов, 1969, с. 96]. Несмотря на весьма ограниченное количество приведённых сведений, они ясно показывают, что однозначное определение взаимоотношений киданей и кыргызов вообще вряд ли возможно: как и в истории отношений между кыргызами, тюрками и уйгурами они носили разнообразный и, скорее всего, противоречивый характер зависимости от конкретной ситуации того или иного исторического периода.
Последующие данные по истории кыргызов эпохи «великодержавия» содержатся в сочинениях мусульманских авторов. Так, в анонимном труде «Худуд ал-Алам», написанном в конце X в. (982-983 гг.) сообщается, что кыргызский каган живёт в короде Кемиджкет [Бартольд, 1963, с. 494], то есть городе на Енисее. Поскольку речь идёт явно не о Минусинской котловине, то следует предполагать, что
(51/52)
ставка кыргызского кагана в это время находилась в верховьях Енисея, на территории Центральной Тувы [Кызласов, 1969, с. 96]. У Гардизи, автора середины XI в., многие сведения которого относятся к предшествующему времени, даётся описание пути в ставку кыргызского кагана. «От Когмена (Западные Саяны — Д.С.), — сообщает Гардизи, очевидно, современник описываемых событий, — до киргизского стана семь дней пути; дорога идёт по степи и лугам, мимо приятных источников и сплетённых между собой деревьев. Здесь военный лагерь киргизского хакана и лучшее место в стране» [Бартольд, 1973, с. 47]. По общему мнению иследователей, это место находилось на севере Минусинских степей, на р. Белом Июсе, где и позже стоял «каменный городок» кыргызских князей. Таким образом, письменные источники фиксируют в конце X — начале XI вв. последовательное перемещение ставки кыргызского кагана с юга на север — из города Кемиджкет в Центральной Туве в верховья Чулыма на севере Минусинской котловины. От момента, когда ставка кыргызского Ажо была перенесена с севера на юг, из Минусинской котловины в Северо-Западную монголию, прошло около 150 лет.
Археологические памятники эпохи кыргызского «великодержавия» изучены в достаточно большом количестве, но не равномерно по всей территории своего распространения. При этом 840 г. является наиболее твёрдо установленной датой, фиксирующей появление погребений по обряду трупосожжения за пределами Минусинской котловины. Естественно, определение всех погребений этого времени по обряду трупосожжения, как кыргызских, обладает некоторой долей условности, так как подобного обряда могли придерживаться и другие группы населения, входившие в состав государства енисейских кыргызов. В литературе уже отмечалась необходимость дифференцированного подхода к обряду трупосожжения и выделения «в его составе этнографических особенностей, харатерных для кыргызской культуры» [Худяков, Кратко, 1987, с. 41-42], так как структурно обряд трупосожжения может быть не менее сложным, чем трупоположение. Очевидно, определяющим в данном случае следует считать не просто факт трупосожжения, а сочетание сожжения покойника «на стороне» с характерными деталями погребального обряда и формами предметов сопроводительного инвентаря, сложившимися в предшествующее время в культуре кыргызов Минусинской котловины.
В 1984 г. на основании имеющихся тогда материалов нами были
(52/53)
выделены локальные варианты культуры енисейских кыргызов IX-X вв. по всей территории их расселения — тувинский, минусинский, алтайский, восточно-казахстанский и красноярско-канский [Савинов, 1984, с. 90-97], а также соответствующие им субэтносы кыргызов, как носителей данных культурных традиций [Савинов, 1988б]. Крайние западные точки распространения элементов культуры енисейских кыргызов были зафиксированы на Тянь-Шане, в связи с чем на археологическом материале была подтверждена возможность проникновения части кыргызов на Тянь-Шань, что и послужило началом формирования киргизской народности [Савинов, 1989]. Не повторяя в целом содержания этих работ, следует акцентировать некоторые моменты, что связано как с появлением новых материалов, так и существующими в настоящее время точками зрения по истории и культуре енисейских кыргызов данного периода.
Кратковременность пребывания кыргызов в Монголии, Восточном Туркестане и других районах кыргызской экспансии, носившей характер завоевания, а не миграции этноса, не позволяет предполагать наличия здесь такого количества памятников, соотносимых с кыргызами, как, например, в Туве или Минусинской котловине. Впрочем, это может объясняться и очень слабой степенью изученности данных территорий в археологическом отношении. Погребений енисейских кыргызов в Восточном Туркестане пока не обнаружено; однако ярким подтверждением вторжения сюда кыргызов является «легендарная сцена» из Кум-Тура с изображением нападения кыргызских воинов в пластинчатых панцирях на «горожанина в его собственном доме», скорее всего, уйгура [Худяков, 1979а]. В Монголии с кыргызами могут быть связаны отдельные невыразительные погребения по обряду трупосожжения, открытые Г.И. Боровкой [Боровка, 1927, табл. III]. Факт пребывания кыргызской администрации на территории Монголии зафиксирован известной Суджинской надписью, в которой сказано: «Я пришелец на земле (уйгурской). Я сын киргизский. Я — бойла, высокий судия» [Малов, 1951, с. 77]. Несколько погребений по обряду трупосожжения открыто в Южной Туве, фактически на северной границе котловины Больших озёр Монголии. В одном из них найдены тибетские надписи на берёсте [Грач, 1980], что, несомненно, следует рассматривать в контексте договорных отношений между енисейскими кыргызами и Тибетом в начальный период кыргызской экспансии.
Наибольшее количество кыргызских погребений по обряду трупо-
(53/54)
сожжения исследовано в Туве. По данным Г.В. Длужневской, здесь «насчитывается около 290 погребальных и поминальных сооружений, ритуальных выкладок и «меморативных» курганов, относящихся к этому времени» [Длужневская, 1982а, с. 126], что значительно превышает количество их как в метрополии енисейских кыргызов — Минусинской котловине, так и во всех остальных районах расселения кыргызов в эпоху «великодержавия». Из всего многообразия памятников енисейских кыргызов в Туве в настоящее время опубликованы материалы нескольких могильников из которых наиболее представительными являются Шанчиг [Кызласов, 1969, с. 97-108; 1978], Тора-Тал-Арты [Нечаева, 1966], Хемчик-Бом II [Длужневская, Овчинникова, 1980, с. 88-91], Дагалганныг и Кускуннуг [Манай-оол, 1968, с. 324-326], серия правобережных курганов в Центральной Туве [Длужневская, Семёнов, 1990] и могильник Сарыг-Хая в Саянском каньоне Енисея [Длужневская, 1990].
Все кыргызские погребения в Туве — подкурганные. По своим конструктивным особенностям они подразделяются на несколько вариантов: 1) подкурганные захоронения в неглубоких могиьных ямах или на горизонте с «тайниками»; 2) юртообразные сооружения из горизонтально расположенных плиток с остатками захоронений в неглубоких ямах; 3) «пустые» или меморативные курганы, не содержащие остатков захоронений. Иногда встречаются коллективные (до 3 человек) трупосожжения с соответствующим набором предметов сопроводительного инвентаря. В некоторых случаях места захоронений обставлены вертикально вкопанными плитками, а сами курганы — обломками горных пород, что можно рассматривать как сохранение конструктивных особенностей минусинских чаа-тасов. С этой же традицией связаны обычай сооружения стенок из горизонтально положенных плиток и устройство «тайников» с наиболее ценными вещами. Однако точных повторений минусинских чаа-тасов нигде, в том числе и в Туве, неизвестно. Объясняться это может по-разному: нарушением этнической традиции, вызванным сменой политической ситуации в Центальной Азии; специфическим характером тувинских захоронений, представляющих, главным образом, погребения воинов; этнокультурными процессами, происходившими в инокультурном окружении в среде самих енисейских кыргызов на местах их нового расселения. Погребений по обряду трупоположения (биритуализма), как на копёнском этапе в Минусинской котловине, при раскопках кыргызских курганов в Ту-
(54/55)
ве не обнаружено. В этой связи заслуживает внимания предположение П.П. Азбелева, отмечающего, что, поскольку описание кыргызов в письменных источниках, в том числе и ставшее класическим описание погребального обряда — трупосожжения, относится, как уже говорилось, к середине IX в., то имеются основания «соотнести летописные сведения о кыргызском погребальном обряде именно с тувинскими комплексами IX-XI вв., а не чаа-тасами [Азбелев, 1989, с. 156].
Предметный комплекс из погребений енисейских кыргызов в Туве, наряду с вещами общераспространённых форм, характеризуют стремена с петельчатой приплюснутой дужкой и прорезной подножкой; витые удила с «8»-образным окончанием звеньев с кольцами, расположенными в различных плоскостях; трёхпёрые наонечники стрел с пирамидально оформленной верхней частью и серповидными прорезями в лопастях; круглые и «Т»-образные распределители ремней; гладкие лировидные подвески с сердцевидной прорезью и др. Особо следует отметить сложный растительный орнамент («цветочный», «пламевидный» в виде растительных побегов и т.д.), сплошь покрывающий поверхность поясных и сбруйных наборов. Подобный комплекс предметов и приёмов их оформления, который может быть назван с полным основанием — кыргызским, наряду с обрядом трупосожжения, является опорным при определении памятников енисейских кыргызов и в других районах их расселения.
Относительная хронология памятников кыргызского времени в Туве разработана больше, чем на других территориях. В работе 1984 года мы отмечали, что пока трудно отделить в Туве памятники второй половины IX в. (периода наибольшей экспансии енисейских кыргызов) от X в. (периода постепенного сокращения их государственных границ) и, что, наряду с типологическим анализом погребального обряда и предметов сопроводительного инвентаря, при этом должно быть учтено и географичекое положение того или иного памятника [Савинов, 1984, с. 91]. В настоящее время эта работа успешно проведена Г.В. Длужневской, выделившей семь групп памятников енисейских кыргызов в Туве в соответствии с тем или иным периодом кыргызской экспансии [Длужневская, 1985]. К этому можно добавить, что, очевидно, более ранними являются погребения с «юртообразными» намогильными сооружениями из горизонтально положенных плиток, типологически стоящие ближе к минусинским чаа-тасам. В одном из них (могильник Хемчик-Бом II в Саянском каньоне Енисея) были найдены
(55/56)
ажурные бляхи-оправы с фигурками стоящих друг против друга петушков, композиционно повторяющие изображения фениксов на копёнском блюде [Длужневская, Овчинникова, 1980, рис. 2]. Более поздними являются подкурганные погребения типа Тора-Тал-Арты [Нечаева, 1966], Дагалганныг, Тускуннуг [Манай-оол, 1968], в некоторых из которых найдены остатки трупосожжений нескольких человек, точнее так же как и в наиболее крупном могильнике начала XI в. Эйлиг-Хем III в Центральной Туве [Грач, 1966а]. Из этих погребений происходят стремена с пластинчатыми дужками и прорезными подножками, псалии с раскованными и декоративно оформленными концами, детали поясных наборов и пряжек, покрытые золотым или серебряным листком, характерные уже для начала II тыс. н.э. В целом, археологические материалы показывают, что именно Тува на долгое время стала одним из основных, если не основным, местом обитания кыргызов, что соответствует сведениям письменных источников о нахождении здесь, в городе Кемиджкет, ставки кыргызского кагана вплоть до конца X в.
В месте исхода енисейских кыргызов — Минусинской котловине — памятники этого времени определяются путём сравнения с материалами из кыргызских погребений за пределами Среднего Енисея, то есть относящихся ко времени после 840 г. По своим видовым особенностям и, по-видимому, этнокультурной принадлежности, они более разнообразны, чем на предшествующем, копёнском, этапе. Продолжается, но в ограниченных размерах, прежняя традиция сооружения чаа-тасов. Поздние чаа-тасы в культуре енисейских кыргызов представляет, в первую очередь, Уйбатский чаа-тас [Евтюхова, 1938; 1948, с. 18-30; 1948а], по которому этот этап может быть назван уйбатским — середина IX-X вв. [Савинов, 1984, с. 96]. Подкурганные захоронения представляют погребения с трупосожжениями могильника Капчалы II [Левашова, 1952, с. 129, рис. 5] и курганы около Минусинска [Николаев, 1972]. К этому же времени относится серебряная чаша, найденная на месте кыргызского могильника с трупосожжениями «Над Поляной» [Гаврилова, 1968; 1974], скорее всего, восточно-туркестанского происхождения, взятая кыргызами в качестве трофея. Надпись на ней, сделанная древнеуйгурским письмом гласит: «Держа сверкающую чашу, я сполна (или я — Толыт) обрел счастье» [Гаврилова, 1974, с. 178]. Этим же временем датируется и значительная часть вещей известного Тюхтятского клада [Евтюхова, 1948, с. 67-72; Киселёв, 1951, табл. XI-XIII], по которому культура енисейских кыр-
(56/57)
гызов IX-X вв. (по Л.Р. Кызласову — древних хакасов) была названа тюхтятской [Кызласов, 1978; 1981а (в библиографии нет)]. Одним из наиболее ярких проявлений тюхтятского комплекса (имея в виду Минусинскую группу памятников IX-X вв.) является исключительно высокое искусство декоративного оформления металлических изделий, главным образом, с использванием мотивов растительного орнамента [Кызласов, Король, 1990, с. 95-155], в котором одни исследователи видят отражение манихейской [Худяков, 1985]; другие — буддийской [Леонтьев, 1988] символики. В целом, количество памятников енисейских кыргызов в Минусинской котловине, по сравнению с копёнским этапом, незначительно, что, видимо, объясняется переселением значительной части их на территорию южных районов Саяно-Алтая и севера Центральной Азии.
В это же время в Минусинской котловине появляется довольно значительное количество захоронений со шкурой коня, которые идентифицируются Ю.С. Худяковым с уйгурами. Наиболее яркие из них — разрушенные погребения могильников Ник-Хая [Худяков, Нестеров, 1984] и Койбалы [Скобелев, Митько, 1988], из которых происходят серия предметов торевтики тюхтятского облика (Ник-Хая) и уникальные подвески с антропоморфными изображениями (Койбалы). Остальные погребения более бедные; комплекс предметов из них «сопоставим с набором вещей в погребениях кыштымов. Это свидетельствует о подчинённом положении уйгуров в кыргызском обществе» [Худяков, 1992, с. 20]. По наблюдениям Ю.С. Худякова, погребения со шкурой коня в Минусинской котловине расположены «в пределах узкой локальной зоны на левобережье Енисея, между устьями рек Тесь и Ерба» [Худяков, Нестеров, 1984, с. 140]. Если согласиться с предложенной идентификацией, то в таком средоточении нельзя не видеть отражения определённой закономерности: возможно, после победы над уйгурами кыргызы переселили часть их на север, в Минусинскую котловину, в качестве «вассального поколения».
Восточное направление миграции енисейских кыргызов фиксируется материалами некоторых памятников Прибайкальского региона. Так, в 1902 г. Ю.Д. Талько-Грынцевичем были опубликованы материалы Хойцегорского могильника, в одном из погребений которого в углу ямы в обрывках шёлковой ткани («тайник»?) находился поясной набор, включающий лировидные подвески с сердцевидной прорезью и антропоморфными изображениями, пряжки и другие украшения с растительным
(57/58)
орнаментом кыргызского облика [Талько-Грынцевич, 1902, рис. 60-61]. Позднее эти материалы были включены Л.Р. Кызласовым в состав выделяемой им хойцегорской культуры IX-X вв. в Западном Забайкалье [Кызласов, 1981в, с. 59-61]. В Восточном Забайкалье погребение по обряду трупосожжения с предметами сопроводительного инвентаря кыргызского облика открыто около г. Читы. В нём найдены набор бронзовых блях с растительным орнаментом; стремена с приплюснутой петельчатой дужкой и прорезной подножкой; удила с «8»-образными окончаниями звеньев и др. [Ковычев, 1985]. Погребение это, судя по другим находкам (бусы, серьги и т.д.), — женское и принадлежит, как считает автор, «одной из тех кыргызских женщин, которые могли быть уведены уйгурами из родных мест в период их военной экспансии против народов Южной Сибири» [Ковычев, 1985, с. 58]. Очевидно, что возможны и другие объяснения. Влияние культуры енисейских кыргызов далее на восток вплоть до Среднего Амура, где некоторые кыргызские формы вещей представлены в материалах мохэских могильников [Деревянко, 1975; 1977], а отдельные предметы кыргызского облика продолжают сохраняться и в чжурчженьскую эпоху [Медведев, 1982; 1986].
Распространение культуры енисейских кыргызов в западном направлении — в сторону Горного Алтая и Прииртышья — одна из наиболее сложных тем, так как оно фактически не нашло отражения в письменных источниках и целиком основывается на анализе археологических материалов. Погребений по обряду трупосожжения с предметами сопроводительного инвентаря кыргызского облика на территории Горного Алтая, Западного Алтая и Прииртышья (Восточного Казахстана) пока известно немного, но, взятые вместе, они достаточно показательны.
На Горном Алтае памятники енисейских кыргызов открыты в северо-западной — Яконур [Грязнов, 1940, с. 18], юго-восточной — Узунтал [Савинов, 1979а] и центральной — Кара-Коба I [Могильников, 1989] районах области. Такое распределение, несмотря на малочисленность памятников, показывает, что территория Горного Алтая практически вся вошла в сферу влияния культуры енисейских кыргызов [Худяков, 1990]. Из указанных погребений наиболее показательно захоронение по обряду трупосожжения из могильника Кара-Коба I, совершённое под курганом с крепидой (как в Туве). Остатки сожжения находились на площади кургана; среди них найдены типично кыргыз-
(58/59)
ские вещи — петельчатые стремена с петельчатой дужкой, витые удила с «8»-видными окончаниями и др. [Могильников, 1989; 1990, рис. 18-21]. «Примечательно, — отмечает В.А. Могильников, — что кыргызские погребения на Алтае находятся на одних некрополях с курганами местного населения, что указывает скорее всего на смешение осевших на Алтае пришельцев-завоевателей с местным населением» [Могильников, 1989, с. 139]. Факт сосуществования (и смешения) кыргызов на Алтае с местными телескими племенами, который отмечался нами и ранее [Савинов, 1984, с. 93], подтверждается руническими надписями из Мендур-Соккона, в одной из которых сказано: «Он тюрк...», а в другой — «Мой старший брат... герой и знаменитый киргиз» [Баскаков, 1966, с. 80-81].
На Западном Алтае, в районах, граничащих с Восточно-Казахстанской областью, погребения с трупосожжениями открыты на могильниках Гилёво, Карболиха VIII [Могильников, 1972, с. 39-42; Медникова, Могильников, Суразаков, 1976, с. 262] и Новофирсово VII [Алёхин, 1985, с. 190; 1990]. Из них полностью опубликован комплекс Новофирсово VII, где находились три захоронения: одно по обряду трупосожжения с кыргызским инвентарём и два по обряду трупоположения (одно из них детское). Нахождение трёх погребений с разным обрядом под одной курганной насыпью, по мнению Ю.П. Алёхина, позволяет «утверждать об этническом смешении местного (кимаки) и кыргызского населения» [Алёхин, 1990, с. 65]. По-видимому, степень ассимиляции кыргызов и местного населения на Западном Алтае было большей, чем на Горном Алтае, что вполне естественно — аналогичная ситуация наблюдается в соседних районах Верхнего Прииртышья, входивших в область расселения кимаков.
На территории Восточного Казахстана (Верхнее Прииртышье) погребения с трупосожжениями открыты в могильниках Зевакино, Камышинка, Ново-Камышинка [Арсланова, 1972]. По обряду погребения (трупосожжение на стороне, подкурганное захоронение остатков сожжения и предметов сопроводительного инвентаря на площади кургана или в неглубоких ямах) они аналогичны алтайским; по формам предметов ближе всего тувинским, в частности, найденным на могильнике Шанчиг (аналогичнае типы наконечников стрел, витые удила, стремена с прорезной подножкой, тройники, лировидные подвески с сердцевидной прорезью и т.д.). «Такая близость, — отмечает Ф.Х. Арсланова, — свидетельствует, по-видимому, о культурном и этническом
(59/60)
взаимовлиянии племён, оставивших памятники в Туве и Верхнем Прииртышье» [Арсланова, 1972, с. 75]. В то же время в некоторых курганах с трупосожжениями Верхнего Прииртышья найдена керамика, не характерная для енисейских кыргызов; характер орнаментации поясных наборов (например, широкое использование мотива «жемчужин») ближе к известному в предшествующее время в Средней Азии, чем в Сибири. Всё это свидетельствует о том, что оставившее их население — это кыргызы, но уже «вступившие в непосредственный контакт с аборигенами Прииртышья» [Арсланова, 1972, с. 75]; причём, процессы аккультурации, отражённые в археологических материлах, должны были занять определённый промежуток времени.
Следует отметить, что по вопросу этнической интерпретации погребений с обрядом трупосожжения в западных районах их распространения в настоящее время среди исследователей нет полного единства мнений. Ю.И. Трифонов склонен относить большинство восточно-казахстанских погребений с сожжениями (кроме безусловно кыргызских — Зевакино, кург. 97) к кимакам [Трифонов, 1989]. В.А. Могильников связывает погребения с трупосожжениями на Западном Алтае с кыргызами, «попавшими в этот регион в ходе своих военных походов». Однако, отмечает при этом, что погребения по обряду трупосожжения, но с вещами, не побывавшими в огне погребального костра, «не являются бесспорно кыргызскими», а могут относиться «к самодийскому этническому пласту, который к концу I тыс. в предгорьях Алтая и Верхнем Обь-Иртышье мог быть уже тюркизирован» [Могильников, 1989, с. 140]. С этой позицией в целом согласен Ю.С. Худяков, считающий при этом, что «этнокультурная ситуация в этих районах (новых местах расселения кыргызов — Д.С.) существенно отличалась от других направлений кыргызской экспансии. Если в Туву хлынула большая часть кыргызского населения из Минусы, то в Горный Алтай проникли сравнительно немногочисленные отряды кыргызов, расселившиеся среди древних тюрок, а в Прииртышье вместе с кыргызами пришли племена северных кыштымов, осевшие на землях кыпчаков» [Худяков, 1993, с. 52]. Развивая эту мысль, Ю.С. Худяков отмечает, что «памятники древних тюрок IX-X вв. в Горном Алтае отличаются богатством инвентаря, обилием предметов вооружения. Они очень не похожи на погребения «зависимого населния». По всей вероятности, в войне IX-X вв. тюрки выступили в качестве союзников кыргызов против уйгуров. И кыргызы «покорили» Горный Алтай без
(60/61)
боя, введя на его территорию небольшое количество воинов» [Худяков, 1990, с. 192].
Очевидно, следует иметь ввиду все эти точки зрения, отражающие отдельные проявления процесса, который мы обобщённо называем аккультурацией. Однако его конкретизация и компонентный анализ целиком ещё зависит от будущего накопления материала. Вместе с тем, несмотря на различные акценты, в работах всех исследователей так или иначе отмечается роль енисейских кыргызов, сфера влияния которых в эпоху «великодержавия» распространилась вплоть до восточных отрогов Тянь-Шаня. Другой исключительно важный вывод заключается в том, что политические события, вызвавшие отток кыргызов из Центральной Азии, как об этом сообщают письменные источники, не были адекватны содержанию этногенетического процесса. Исходя из анализа археологических материалов, имеются все основания предполагать, что весьма значительные группы енисейских кыргызов, подвигнутые к миграции событиями начального этапа «великодержавия», адаптировались на местах своего нового расселения, ассимилировались и продолжали жить и позже, когда центр государства кыргызов вновь переместился на Средний Енисей.
Одновременно археологические материалы фиксируют никак не отмеченное в письменных источниках распространение кыргызов и их культуры в северном и северо-восточном направлениях. Отдельные памятники енисейских кыргызов появляются в районе г. Красноярска. К ним, в первую очередь, относится известный Ладейский комплекс, откуда происходят витые удила, стремя с прорезной подножкой, зажимы для кистей, сбруйные наборы характерного кыргызского облика [Карцов, 1929, с. 51, рис. 26-29; 1961, рис. 24]. Возможно, к этому времени относятся и некоторые городища, служившие укреплениями на северных границах кыгызского государства [Карцов, 1928; 1932]. Типично кыргызское захоронение по обряду трупосожжения с характерным инвентарём (витые удила, палаш с напускным перекрестьем, стремя с петельчатой приплюснутой дужкой, отдельные сбруйные украшения) было открыто в Большемуртинском районе Красноярского края [Николаев, 1982]. Р.В. Николаев предполагает, что это «погребение принадлежало воину-кыргызу, участвовавшему в... набеге на таёжные племена Сибири» [Николаев, 1982, с. 134].
Погребения с трупосожжениями известны и в лесостепном Приобье (могильник Умна-3, Каменный Мыс и Красный Яр-I), в связи с
(61/62)
чем Т.Н. Троицкая отмечала «влияние культуры кыргызов, а возможно, и проникновение их самих на берега Оби» [Троицкая, 1973, с. 184]. Инвентарь этих погребений несколько отличается от кыргызского и датируется в пределах VIII-X вв. [Троицкая, 1978, с. 112-113], что предполагает возможность связи их с культурой кыргызов ещё до начала «великодержавия». В настоящее время, в связи с новой датировкой верхнеобской культуры, о которой будет сказано ниже, позиция относительно причин распространения обряда трупосожжения в Приобье несколько пересмотрена авторами: «Это был не внезапный переход, связанный с влиянием или перемещением кыргызов, а широкое распространение, возможно, не без влияния последних, того обычая, который был ранее доступен лишь определённой категории населения» [Троицкая, Адамов, 1991, с. 147]. «Погребения с трупосожжениями в Западной Сибири, — отмечают другие авторы, — всегда несут в себе черты кыргызской погребальной обрядности в сочетании с местными традициями»; причём, «подобная инфильтрация стала возможной не в результате единовременного завоевания в IX в., а длительного влияния и контактов на протяжении всей второй половины I тыс. н.э.». Однако, «несомненно, что с момента подъёма кыргызского государства это влияние усилилось, местные племена были включены в военно-административную систему каганата и приняли участие в завоеваниях кыргызов на Алтае и в Восточном Казахстане» [Худяков, Кратко, 1987, с. 42-43]. Таим образом, не зафиксированное письменными источниками распространение кыргызов и их культуры в северном и северо-западном направлениях имеют непосредственное отношение к событиям, происходившим на севере Центральной Азии и в западных районах Саяно-Алтайского нагорья: пополнение военного потенциала требовало присоединения и активного освоения северных территорий.
Появились и новые разработки в области хронологии памятников енисейских кыргызов периода «великодержавья». Традиционная дата археологических памятников енисейских кыргызов за пределами их основного расселения (Минусинской котловины) — IX (точнее — вторая половина IX) — X вв. Г.В. Длужневская, используя в качестве аналогий предметам енисейских кыргызов материалы культуры киданей, предложила иную и более дробную хронологию. Памятники енисейских кыргызов в Туве ею подразделены на три периода: 1) с преобладанием изделий общетюркского облика — середина IX — первая четверть
(62/63)
X в. (собственно «великодержавие»); 2) вторая четверть X — середина XI вв. (время распространения изделий кидане-тюхтятского облика в пределах владений или сферы влияния империи Ляо); 3) с преобладанием изделий аскизского облика (о которых будет сказано ниже) — XI-XII вв. [Длужневская, 1987, с. 181; 1990а, с. 78; 1992, с. 227]. При этом время датированных ляоских аналогий определяется 956-1046 гг. (округлённо 950-1050 гг.). Таким образом, датировка большинства кыргызских памятников Тувы, а к ним «привязываются» типологически близкие погребения на Алтае, в Восточном Казахстане и т.д., «сдвигается» по крайней мере на 75 лет, а предметы кыргызской торевтики определяются как ляоские. Эти выводы, основанные на анализе орнаментальных композиций [Длужневская, 1985; 1990а] несколько «обедняют» культуру енисейских кыргызов и «поднимают» значение киданей как создателей изделий кидане-тюхтятского облика, получивших, следуя этой гипотезе, повсеместное распространение в Северном и Западном Китае, в Центральной Азии и Южной Сибири. Говоря о находках подобных вещей, считающихся кыргызскими, на Енисее и Иртыше, Г.В. Длужневская считает, что они не связаны с распространением кыргызов, а «могли быть изготовлены ляосцами и из одного центра разойтись в два соседних государственных образования» [Длужневская, 1989, с. 173]. Исследование Г.В. Длужневской, несомненно является новым словом в изучении енисейских кыргызов; однако, в нём следует различать два аспекта: хронологический и этнокультурный. Если предложенная периодизация в целом соответствует приведённым выше сведениям письменных источников о перенесении ставки кыргызского кагана на север в начале — первой половине IX в., то определение большинства кыргызских изделий второго периода как ляоских вряд ли может быть принято безоговорочно. Как ещё раньше отмечалось исследователями, сходство между ними действительно велико. Но это сходство, а не тождество. При всей близости форм вещей и элементов орнаментальных композиций, кыргызские и киданьские материалы ощутимо отличаются друг от друга. Кроме того, многие элементы орнаментации тюхтятского типа были известны у населения Саяно-Алтая в предшествующее время и вполне могли иметь самостоятельный генезис, инкорпорируя при этом отдельные ляоские мотивы. Поэтому причины указанного сходства следует искать в процессах культурных контактов и взаимного влияния енисейских кыргызов и киданей, которые пока ещё мало изучены. Возмо-
(63/64)
жно, что ведущая роль в этих отношениях принадлежала киданям, занявшим после кыргызов обширные области севера Центральной Азии.
Не меньший интерес вызывает и вопрос о причинах, вызвавших возвращение кыргызов (или части их) в Минусинскую котловину. Большинство исследователей считает, что они были вытеснены обратно за Саяны киданями [Бартольд, 1963, с. 103 [?]; Потапов, 1953, с. 99; Батманов, Грач, 1968, с. 122]. Однако, как уже говорилось, в источниках нет прямых указаний о столкновениях между киданями и кыргызами. По мнению Ю.С. Худякова, «главной причиной кратковременности “кыргызского великодержавия”... было истощение людских ресурсов относительно немногочисленного кыргызского населения в длительной войне и их распыление на обширных территориях» [Худяков, 1980, с. 162]. Другую гипотезу, в связи с общей картиной расселения народов Центральной Азии в начале II тыс., высказал Л.Н. Гумилёв: «Равным образом не претендовали на степь и кыргызы. Они давно покинули её и ушли в благодатную Минусинскую котловину, где могли жить осёдло, заниматься земледелием, а не кочевать» [Гумилёв, 1970, с. 66]. Действительно, неоднократно подчёркнутое в письменных источниках преобладание земледельческого хозяйства в комплексной экономике енисейских кыргызов, о чём подробнее будет сказано ниже, могло иметь значение важнейшего фактора при «возвращении» кыргызов из Центральной Азии [Савинов, 1978]. Однако, скорее всего, учитывая протяжённость этого процесса во времени и широкую расселённость отдельных групп енисейских кыргызов, действовал взаимосвязанный комплекс различных, в том числе и указанных выше, причин. Перенесение ставки кыргызов далеко на север, возможно, указывает ещё на одну из них, а именно: необходимость удержания северных покорённых племён, вхождение которых в состав государства енисейских кыргызов в IX-X вв. подтверждается археологическими материалами.
В свете всего сказанного вряд ли возможно определить абсолютную дату конца кыргызского «великодержавия»: в различных районах распространения кыргызов связанные с этим этнокультурные процессы могли происходить по-разному. На севере Центральной Азии, в том числе и в Туве, господство енисейских кыргызов закончилось к концу X в. и основная их масса вернулась на Средний Енисей. Последовательное перемещение ставки кыргызского кагана можно рассматривать как прямое свидетельство сокращения границ государства
(64/65)
енисейских кыргызов. Кыргызский каган не мог из-за Саян, с верховьев р. Чулыма, управлять народами Центральной Азии: местоположение ставки должно было определять и политический центр самого государства, дальнейшая история которого теперь, как и раньше, была связана с территорией Южной Сибири. Период т.н. кыргызского «великодержавия» закончился.
|