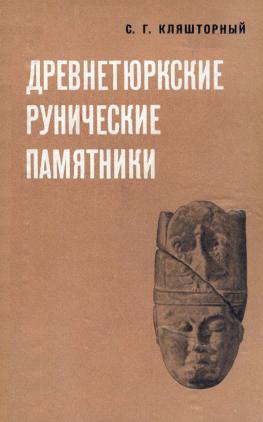 С.Г. Кляшторный
С.Г. Кляшторный
Древнетюркские рунические памятники
как источник по истории Средней Азии.
// М.: «Наука». 1964. 214 с.
Оглавление (расширенное)
Глава IV. Восточнотюркский каганат и Средняя Азия. — 136
Западный поход. — 136
Кäнгÿ Тарбан. — 155
Кенгересы. — 161
Использованная литература. — 181
Предисловие. ^
Древняя и раннесредневековая история Средней и Центральной Азии до сих пор остаётся одним из наименее изученных разделов всемирной истории. Между тем археологические открытия и историко-филологические исследования последних десятилетий дают право утверждать, что роль народов, населяющих глубинные области азиатского материка, в процессе исторического и культурного развития Евразии была большей, чем это представлялось ранее.
Трудность изучения истории Средней и Центральной Азии определяется прежде всего слабостью источниковедческой базы — число источников сравнительно невелико; круг событий, которые они отражают, чрезвычайно узок; большая часть дошедших до нас источников создана за пределами Средней и Центральной Азии, а время их написания не всегда близко ко времени описываемых событий. Поэтому трудно переоценить значение тех хотя бы и немногочисленных письменных памятников, которые обладают двумя существенными и неоспоримыми для историка достоинствами — автохтонностью и аутентичностью. К числу таких памятников относятся древнетюркские рунические надписи.
Настоящая работа содержит анализ и систематизацию относящихся к Средней Азии материалов, извлеченных из древнетюркских рунических текстов, сопоставление их с материалами других источников и обобщение достигнутых результатов в историографическом и в источниковедческом аспектах. [1]
(3/4)
* * *
Текст древнетюркских надписей цитируется преимущественно по изданиям С.Е. Малова. [2]
В работе приняты за основу переводы надписей, опубликованные в названных изданиях. Автор стремился цитировать эти переводы буквально. Однако в ряде случаев они подверглись изменениям и уточнениям терминологического и стилистического характера, которые не отмечены специально, если они не имеют определяющего значения для дальнейшего исследования.
Автор считает своим приятным долгом выразить глубокую признательность всем, кто прочитал в рукописи работу и оказал автору помощь консультациями и замечаниями.
[1] Предварительные результаты исследований опубликованы в 1951-1962 гг. в статьях: С.Г. Кляшторный, Кангюйская этно-топонимика, стр. 56-73; Яксарт — Сыр-Дарья, стр. 189-190; Из истории борьбы, стр. 55-64; Согдийцы в Семиречье, стр. 7-11; Историко-культурное значение Суджинской надписи, — ПВ, 1959, № 5, стр. 162-169; Древнетюркская руническая надпись на бронзовом перстне из Ферганы, — ТИИАЭ АН Тадж. ССР, т. 103, 1959, стр. 167-168; О подлинности древнетюркской надписи, стр. 173-175; Титул согдийского владетеля, стр. 133-135; Согдийцы в Центральной Азии, стр. 29-31; Уланкомская надпись, стр. 26-28; Kljaštornyj, A propos des mots, pp. 245-251; Sur les colonies sogdiennes, pp. 96-97; Chinesischen Nachrichten, S. 155-156.
[2] С.Е. Малов. Памятники: Памятники Монголии и Киргизии.
Сиглы памятников. * ^
БКб — памятник Бильге-кагану (большая надпись)
БКм — памятник Бильге-кагану (малая надпись)
КТб — памятник Кюль-тегину (большая надпись)
КТм — памятник Кюль-тегину (малая надпись)
КЧ — памятник Кули-чуру
МЧ — памятник Моюн-чуру
Тон. — памятник Тоньюкука
К — боковая сторона памятника Кюль-тегину
X — боковая сторона памятника Бильге-кагану
* Цифра, следующая за сиглом, обозначает соответствующую строку.
|