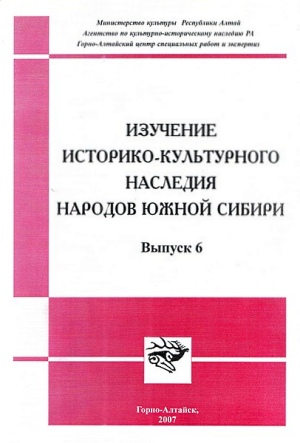 П.П. Азбелев
П.П. Азбелев
Об инновациях IX в. в южносибирских культурах.
(См. также на academia.edu)
1. Проблема. ^
Считается, что южносибирские погребения рубежа I-II тысячелетий с сожжениями, совершёнными вместе с инвентарём на стороне и размещёнными под тем или иным сооружением на древней поверхности, оставлены енисейскими кыргызами в т.н. «эпоху великодержавия». Эталоном служат безусловно кыргызские памятники второй половины IX-X вв. в Туве. Предметный комплекс таких погребений считается кыргызским и, «наряду с обрядом трупосожжения, является опорным при определении памятников енисейских кыргызов и в других районах их расселения в IX-X вв.» (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 268). Фактически это значит, что датирование сибирских материалов рубежа тысячелетий за пределами заведомо кыргызского ареала (Минусинская котловина и с середины IX в. Тува) проводится с опорой на кыргызские аналогии и данные летописей о разгроме кыргызами уйгурской столицы Орду-Балыка. Для большой серии памятников летописная дата 840 г. оказывается необсуждаемым terminus post quem.
Этот подход имеет право на существование лишь при том условии, что именно и только кыргызская культура могла быть источником датирующих инноваций. Чтобы считать тот или иной признак (или комплекс признаков) специфически кыргызским, нужно проследить его происхождение внутри кыргызской культуры; этот вопрос, однако, никем специально не исследовался; в результате хронология и интерпретация сотен памятни-
(106/107)
ков оказались в зависимости от трактовки одной письменной даты и отношения к концепции «кыргызского великодержавия», под которую, в сущности, и подгоняются археологические построения. Верно ли это? Единственно ли возможно привычное понимание летописных сообщений? Не предоставляют ли имеющиеся вещественные материалы возможностей для иной интерпретации?
Связанные темы «кыргызского великодержавия» и инноваций IX в. в южносибирских культурах рассматриваются здесь обзорно, на уровне постановки вопроса.
2. Исторические обстоятельства.
2.1. Концепция «великодержавия». ^
«Эпоха кыргызского великодержавия» — исходно публицистический образ; впервые он появился в научно-популярной брошюре акад. В.В. Бартольда о киргизах (1927; Бартольд В.В., 1963) и на несколько десятилетий предопределил тот угол зрения, под которым многие историки и археологи рассматривали южносибирские и центральноазиатские археологические памятники IX-X вв. Тезис о «кыргызском великодержавии» прижился в отечественной научной литературе настолько, что не обсуждается ни его историческая правомерность, ни рамки, задаваемые им для интерпретации археологических материалов. Положение, в котором кыргызы оказались в 840 году, создаёт все предпосылки для появления завышенных оценок кыргызского вклада в историю Центральной Азии на рубеже I-II тыс. Чётче всего такой взгляд на историческую ситуацию IX-X вв. выражен Ю.С. Худяковым: «Это был звёздный час кыргызской истории, период, справедливо названный В.В. Бартольдом “киргизским великодержавием”, время, когда кыргызы смогли подчинить обширные просторы степной Азии, оставить о себе память у многих народов и привлечь благодаря этому внимание позднейших историков. ... События IX-X вв. в Центральной Азии, активными участниками которых были кыргызы, изменили традиционную линию этнической истории в этом регионе, рассеяли уйгуров от Восточного Казахстана до Хангая, способствовали консолидации кимако-кыпчакского объединения, открыли путь кыргызам на Тянь-Шань, стали прелюдией для выхода на арену мировой истории монголоязычных кочевников. Всё перечисленное убеждает нас в необходимости вернуть изучаемому периоду прежнее название “эпоха (кыргызского) великодержавия”, сохранив его хронологию в пределах IX-X вв.» (Худяков Ю.С., 1982, с. 62-63). Лучшей иллюстрацией к словам Ю.С. Худякова служат карты, опубликованные Л.Р. Кызласовым (Степи Евразии..., 1981, с. 143, рис. 32) и в труде С.Г. Кляшторного и Д.Г. Савинова (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, цветная вклейка между с. 144 и 145, карта «Кыргызский каганат в IX в.»).
Однако следует иметь в виду обстоятельства, не вписывающиеся в логику концепции «кыргызского великодержавия».
2.2. События и их освещение в источниках. ^
Подробное повествование китайского хрониста о кыргызо-уйгурских коллизиях середины IX в. завершается на сообщении о том, что в 847 г. кыргызский правитель Ажо умер; летописец коротко упоминает несколько посольств, сожалеет о том, что кыргызы так и не смогли окончательно добить уйгуров, и добавляет, что о дальнейших событиях, связанных с кыргызами, «историки не вели записок». Возникает противоречие: с одной стороны — «великодержавие», с другой — «историки не вели записок». Достаточно вспомнить о том, как тщательно китайские хронисты фиксировали сведения о «северных варварах», представлявших собой ощутимую силу в Центральной Азии — о тюрках и сирах, об уйгурах и о тех же кыргызах (до определённого момента), чтобы понять: уж если китайские хронисты прекратили «вести записки» о енисейских кыргызах, то лишь потому, что к этому моменту никакой кыргызской «великой державы» не было, а роль этого народа была вовсе не такой значительной, как это представляется иным современным исследователям.
То же касается и самой «победы кыргызов над уйгурами». Интересно сравнить, как «Таншу» излагает эти события в повествованиях об уйгурах и о кыргызах.
Повествование об уйгурах гласит, что в 832 г. уйгурский «хан убит от своих подчинённых»; через семь лет, в 839 году, «министр Гюйлофу (Кюлюг-бег) (по А.Г. Малявкину — Курабир) восстал против хана (кагана Ху из племени эдизов), и напал на него с шатоски-
(107/108)
ми войсками. Хан сам себя предал смерти... В тот год был голод, а вслед за ним открылась моровая язва и выпали глубокие снега, от чего много пало овец и лошадей». «Синь Таншу» сообщает, что в тот год было много болезней, голод и падёж скота; ср. в энциклопедии «Тан хуэйяо» под 839 годом: «ряд лет подряд был голод и эпидемии, павшие бараны покрывали землю. Выпадал большой снег». Кюлюг-бег и его сторонники поставили ханом «малолетнего Кэси Дэле» (Кэси-тегина). В следующем, роковом для Уйгурского каганата 840 году «старейшина Гюйлу Мохэ (Кюлюг-бага-тархан из телеского племени эдизов), соединившись с хагасами (кыргызами), со 100 000 конницы напал на хойхуский (уйгурский) город (Орду-балык), убил хана, казнил Гюйлофу (Кюлюг-бега, Курабира) и сожёг его стойбища. Хойху поколения рассеялись». (Бичурин Н.Я., 1950, т. I: с. 334; Малявкин А.Г. 1983, с. 22).
Таким образом, Уйгурский каганат к концу 830-х гг. был крайне ослаблен, для развала каганата оказалось довольно одного набега на столицу, но роль кыргызов при этом сводилась к погрому в столице и к погоням за рассеявшимися в суматохе по степи уйгурскими отрядами. До того — двадцатилетние пограничные столкновения не привели к реальным успехам, а в 840 году уйгурские вельможи из племени эдизов просто использовали кыргызов во внутриуйгурской усобице — точно так же, как за год до того токуз-огузы использовали тюрков-шато. В погоню за Уге кыргызы отправились по настоятельной просьбе китайцев, о чём свидетельствует переписка китайского чиновника Ли Дэюя (Супруненко Г.П., 1963; 1974), где прямо говорится о том, что кыргызов нужно использовать для полного разгрома уйгуров; но вот о кыргызах как о самостоятельном факторе военно-политических игр источники не говорят вовсе.
Если в разделе об уйгурах летописец характеризует роль кыргызов как весьма скромную, то в повествовании о самих кыргызах акценты заметно смещены. Объявив себя ханом, Ажо отразил первый карательный рейд уйгуров, после чего, «надмеваясь победами» (кстати, непонятно какими; о каких-либо предшествующих военных успехах кыргызов в источниках нет ни слова), послал уйгурскому кагану хвастливый ультиматум: «Твоя судьба кончилась. Я скоро возьму Золотую твою орду, поставлю перед нею моего коня, водружу моё знамя. Если можешь состязаться со мною — приходи; если не можешь, то скорее уходи» (Бичурин Н.Я., 1950, т. I, с. 355-356). Через двадцать лет «хойхуский хан не мог продолжать войны. Наконец его же полководец Гюйлу Мохэ привёл Ажо в хойхускую орду. Хан был убит в сражении, и его Дэле рассеялись». В 847 году Ажо умер, что в период с 860 по 873 год кыргызы «три раза приезжали ко Двору. Но Хягас не мог совершенно покорить хойху. Впоследствии были ли посольства и были ли даваны и жалованные грамоты, историки не вели записок». Иными словами, как только выяснилось, что добить уйгуров кыргызы не в состоянии, интерес к ним пропал.
Бросается в глаза несоответствие двух повествований об одних и тех же событиях: в рассказе об уйгурах кыргызский набег — всего лишь эпизод многолетней внутренней уйгурской усобицы, дошедшей до привлечения обеими сторонами иноплеменников, которые вышли из-под контроля и разграбили столицу, а в повествовании о кыргызах их удача 840 года выставлена победным итогом двадцатилетней войны. На вторую версию и предпочитают опираться нынешние исследователи, игнорируя при этом её очевидные несоответствия (так, поставленный ханом в 839 году «малолетний Кэси Дэле» вряд ли уже через год мог быть убит в бою). Версия повествования об уйгурах, по которой и Кюлюг-бег, и его малолетний ставленник были убиты Кюлюг-бага-тарканом, выглядит более правдоподобной благодаря упоминанию конкретных имён и общей согласованности со всем ходом событий. Рассказ кыргызской версии как бы «подправлен» в пользу кыргызов — в тот момент союзников танского Китая; повествование же об уйгурах в целом более последовательно и логично, чем запутанные данные о кыргызах. Из сопоставления версий следует, что если кыргызы считали уйгуров злейшими врагами, то для уйгуров (да и для китайцев) кыргызы были не более чем одним из периферийных племён, которое считали возможным при необходимости использовать как инструмент.
После разгрома Орду-Балыка кыргызская активность в Центральной Азии на практике свелась к нескольким рейдам и грабительским набегам; базировались кыргызы, судя по всему, в Монголии, но данных об их закреплении ещё где-либо, о назначении наместни-
(108/109)
ков и т.п. нет, то есть эти походы не сопровождались ни захватами территорий, ни их административно-хозяйственным освоением, — а без государственного строительства о «великодержавии» говорить не приходится. Неясно, как долго кыргызы оставались в Монголии, но очевидно главное: кыргызы мелькнули в Центральной Азии, разрушили и разграбили всё, до чего могли дотянуться — и исчезли, ограничившись единственным приобретением — верхнеенисейскими котловинами, где их присутствие в последующие века зафиксировано как археологическими, так и письменными источниками.
Хроника сообщает: «Хягас было сильное государство; по пространству равнялось тукюеским владениям. Тукюеский Дом выдавал своих дочерей за их старейшин. На восток простиралось до Гулигани, на юг до Тибета, на юго-запад до Гэлолу» (Бичурин Н.Я., 1950, с. 354). Династические браки с тюрками имели место в период Второго каганата, и упоминание о них здесь — лишь экскурс в историю. Пространственные сопоставления летописей несущественны, а вот докуда кыргызское государство «простиралось» — это важно.
Гулигань — прибайкальские курыканы, от заведомо кыргызских земель их отделял Восточный Саян. В тех краях кыргызы оказались лишь однажды — около 847-848 гг., когда ходили в шивэйские земли в погоню за одним из уйгурских отрядов. Тибет даже в годы наибольшего могущества занимал земли не севернее Тяньшаня — но даже сторонники теории «кыргызского великодержавия» не включают в область кыргызского господства ещё и Притяньшанье. Гэлолу (карлуки) кочевали в Джунгарии и Семиречье, в Восточном Казахстане и, возможно, на Монгольском Алтае; но в IX-X вв. их отделяли от кыргызов владения кимаков и кыпчаков. Очевидно, что речь не может идти о границе в современном понимании. Фрагмент становится осмысленным лишь при том условии, что слово «простиралось» будет понято как указание на посольские связи или наиболее дальние набеги. Действительно, кыргызы имели контакты с карлуками и с Тибетом, есть и упоминания о столкновениях с курыканами. Таким образом, приведённый фрагмент говорит о том, что прежде кыргызы имели династические связи с тюрками, а теперь так или иначе контактируют с карлуками, Тибетом и курыканами. Не более того.
2.3. Другой взгляд на проблему. ^
В 1995 году Ю.А. Заднепровский в частной беседе со мной предположил, что термин «кыргызское великодержавие» нужно рассматривать как факт не столько истории IX в., сколько советской истории 20-х гг. прошлого столетия. Акад. Бартольд писал свою брошюру в пору становления национальной киргизской государственности в рамках СССР, в какой-то мере выполняя социальный заказ на поиск героических страниц в прошлом киргизского народа. События середины IX в. формально подходили на роль такой страницы; примечательно, что сам автор термина «киргизское великодержавие» не связывал пресловутую «победу над уйгурами» с дальнейшими событиями в истории киргизского народа, не пытался строить на ней теорий о «переселении енисейских кыргызов на Тяньшань» — словом, не более чем предложил красивую, но ни к чему не обязывающую публицистическую формулу, уместную лишь в популярной брошюре. Вряд ли он мог предвидеть, что впоследствии её поднимут на щит в академических построениях.
Далеко не все исследователи приняли концепцию «кыргызского великодержавия» и сам этот термин как нечто само собой разумеющееся. Так, Л.Н. Гумилёв, справедливо считая развал Уйгурского каганата важным событием в истории региона, не использовал это словосочетание, отводя кыргызам лишь роль разрушителей, которые после выпавшей им в 840 г. удачи «не претендовали на степь», а «ушли обратно в благодатную Минусинскую котловину, где могли жить осёдло, заниматься земледелием, а не кочевать» (Гумилёв Л.Н., 1970, с. 66; справедливости ради замечу, что Туву кыргызы всё-таки захватили и освоили, причём о кыргызском земледелии в Туве никаких серьёзных данных нет). Постоянный оппонент Л.Н. Гумилёва, синолог А.Г. Малявкин, автор важнейших работ по уйгурской истории, подчёркивал, что кыргызы ограничились разгромом единого уйгурского государства и не пытались ни добить уйгуров, ни расширить экспансию (Малявкин А.Г., 1983, с. 24). Авторитетнейший специалист по истории и этнографии тяньшаньских киргизов, С.М. Абрамзон в своём основном труде назвал «кыргызское великодержавие» — весьма преувеличенным (Абрамзон С.М., 1971, с. 21).
(109/110)
Концепция «кыргызского великодержавия» основана на однобокой, в сущности — произвольной трактовке источников; она не является ни общепризнанной, ни доказанной, ни даже сколько-нибудь основательной, — из чего и следует исходить при её приложении к археологическим материалам. Следует помнить и о том, что в источниках нет указаний на связь между событиями 840 года и постулируемой рядом исследователей активностью енисейских кыргызов на Алтае. При этих условиях привязывать хронологию и этнокультурную идентификацию алтайских памятников к дате разрушения Орду-Балыка весьма рискованно; куда более весомы выводы, основанные на независимом от летописей сравнительно-типологическом изучении вещественного материала.
3. Археологический аспект. ^
В большинстве публикаций кыргызы предстают главной движущей силой историко-культурного развития в Южной Сибири IX-X вв. Новые типы, распространившиеся тогда в этом регионе, считают свидетельствами кыргызского влияния; погребения с сожжениями, датируемые IX-X вв., обычно считают кыргызскими; именно с этого времени ряд авторов отсчитывает историю тяньшаньских киргизов, якобы поэтапно переселившихся в Среднюю Азию с Енисея.
Вместе с тем нужно обратить внимание на обстоятельство, игнорируемое большинством обращавшихся к этой теме авторов: типы, указываемые как кыргызские, ни по отдельности, ни в комплексе не имеют прототипов в самой культуре енисейских кыргызов. В то же время безусловные специфические черты кыргызской культуры предшествующего периода — круговые кыргызские вазы с зигзагообразными и волютовыми узорами, чаатасовские каменные конструкции, какие-либо признаки таштыкского происхождения — за пределы заведомо кыргызского ареала в IX в. как раз и не «выплёскиваются»; единственное достоверное исключение — шульбинские каменные конструкции типа чаатасовских (Азбелев П.П., 1994), оставленные небольшой группой стремительно ассимилирующихся переселенцев (возможно, беженцев).
3.1. Особенности погребального обряда. ^
При определении этнокультурной принадлежности памятников за пределами заведомо кыргызского ареала специфически кыргызским обрядом считают: сожжение с вещами на стороне; погребение останков на древней дневной поверхности; «тайники», то есть отдельные кучки инвентаря за пределами собственно погребения. Эти признаки действительно представлены в погребальных памятниках заведомо кыргызского ареала, но за его пределами они не определяют кыргызской принадлежности памятника.
Кремация практиковалась многими народами на протяжении всего I тыс. В.А. Могильников справедливо отмечал: «погребения с кремациями северных предгорий Алтая, Верхнего Приобья и Прииртышья, содержавшие инвентарь, который не был на погребальном костре (Сростки, Уень, Боброво), не являются бесспорно кыргызскими. Такой ритуал, особенно, когда вещи расположены в могилах, как при ингумации, напоминает погребальный обряд самодийских погребений с трупосожжениями Среднего и Верхнего Приобья (некрополи Рёлка, Архиерейская Заимка) и, возможно, восходят к самодийскому этническому пласту» (Могильников В.А., 1989, с. 140). К этому следует добавить, что у самих кыргызов на минусинских чаатасах по меньшей мере треть погребений — по обряду трупоположения, причём корреляции между погребальным обрядом и социальным статусом погребённых нет (Азбелев П.П., 1989). Более того, и сожжение вместе с вещами — также не определяющий признак; вещи, побывавшие в огне, в кыргызских могилах на ранних чаатасах не встречаются. Обычно инвентарь кыргызских погребений сводится к керамике, а сопровождавшиеся сравнительно обильным вещественным инвентарём редкие всаднические погребения старше IX в. содержат лишь несожжённые останки.
Наземные погребения и так называемые «тайники» до IX в. у енисейских кыргызов вообще неизвестны — это безусловные инновации в кыргызской культуре, по времени совпадающие с кыргызо-уйгурскими войнами, трансформацией структуры кыргызских похоронных ритуалов (появился устойчивый тип впускных подхоронений в южной половине комплекса, см. Азбелев П.П., 1992) и археологически фиксируемыми западными влия-
(110/111)
ниями (о них ниже). Нет причин думать, что эти признаки сложились в рамках самой кыргызской культуры; наоборот, можно с высокой долей уверенности считать, что они проникли на Енисей вместе с населением, восполнившим демографический урон после уйгурских набегов конца VIII в. А значит, за пределами заведомо кыргызского ареала этими признаками (в том или ином наборе) могут обладать и памятники старше 840 г., не имеющие к енисейским кыргызам никакого отношения.
3.2. Вещественные материалы. ^
В основе датирования алтайских памятников по кыргызским аналогиям — применявшийся на практике ещё С.В. Киселёвым и наиболее чётко сформулированный Д.Г. Савиновым тезис о том, что предметный комплекс тувинских памятников енисейских кыргызов «...наряду с обрядом трупосожжения является опорным при определении памятников енисейских кыргызов и в других районах их расселения в IX-X вв.»; это, по Д.Г. Савинову, «предметы, характеризующие культуру собственно енисейских кыргызов IX-X вв.: стремена с петельчатой приплюснутой дужкой и прорезной подножкой, витые удила с «8»-образным окончанием звеньев с кольцами, расположенными в различных плоскостях, трёхпёрые наконечники стрел с пирамидально оформленной верхней частью и серповидными прорезями в лопастях, эсовидные псалии с зооморфными окончаниями в виде головок горных баранов или козлов, различных типов бронебойные наконечники стрел, круглые распределители ремней, гладкие лировидные подвески с сердцевидной прорезью, поясные и сбруйные наборы со сложной системой орнаментации (растительный, «цветочный», «пламевидный» орнаменты и др.)», причём автор отделяет от специфически кыргызских, по его мнению, изделий — вещи «общераспространённых форм (детали поясных наборов, пряжки с язычком на вертлюге, панцирные пластины, топоры-тёсла, двукольчатые удила, эсовидные псалии, трёхпёрые и плоские ромбические наконечники стрел)» (Савинов Д.Г., 1984, с. 91).
Часть предлагаемых «маркёров» кыргызского влияния (или присутствия), прежде всего из области декора предметов фурнитуры и торевтики, относится к более позднему времени и должна рассматриваться как результат соприкосновения степняков с киданьской империей Ляо. Эта путаница неизбежна при механическом объединении памятников IX и X вв., свойственном работам сторонников концепции «великодержавия»; для их разделения удобно использовать в качестве ориентира хронологическую таблицу тувинских памятников, разработанную Г.В. Длужневской и содержащую ляоские даты (1994, с. 38, рис. 16). Положение осложняется тем, что престижный предметный комплекс киданьской культуры формировался, вероятно, не без уйгурского участия — ведь кидани в течение какого-то времени по крайней мере формально подчинялись Уйгурскому каганату. В результате обсуждаемый «инновационный пакет», обычно приписываемый кыргызам, оказывается дважды — ориентировочно на рубеже VIII-IX вв. и в первой трети X в. — как бы «прошит» признаками, однотипными по морфологическим основам, но разными по декору и нюансам оформления. По привычке рассматривая его нерасчленённо, исследователи лишают себя возможности корректно выстроить хронологические шкалы для южносибирских культур соответствующего времени.
Проблема дифференцирования «кыргызских» признаков не сводится к учёту позднейших ляоских влияний. Ряд обстоятельств указывает на то, что где-то в конце VIII — начале IX вв. как кыргызы, так и другие южносибирские (и шире — все центральноазиатские) народы испытали сильное воздействие с запада, не отражённое в письменных памятниках, но отпечатавшееся в археологическом материале. Мне уже приходилось писать о безусловно восточноевропейском происхождении пельтовидной лунницы из разрушенного уйгурского погребения под горой Увгунт в Монголии (Азбелев 2007а); западные связи центральноазиатских кочевников уйгурского времени прослеживаются и по другим категориям находок.
Так, например, стремена с прорезными подножками, считающиеся кыргызским типом, в среднеенисейских и в целом южносибирских памятниках древнее IX в. не найдены; более того — для центральноазиатских культур древнетюркского времени ажурный декор вообще нехарактерен (отдельные находки в погребениях кудыргинского этапа — слишком ранние;
(111/112)
кроме того, по крайней мере в одном случае речь должна идти не об ажурном декоре, а лишь о литейном браке). Зато стремена с прорезным декором подножек известны в поволжских раннеболгарских памятниках (см., например, Казаков Е.П., 1992, с. 55, рис. 14, 7). Это не массовые находки, но важно, что в восточноевропейских культурах этой эпохи прорезной декор — явление весьма распространённое, и его применение, среди прочего, ещё и к стременам закономерно, это не выглядит странным «чёртиком из шкатулки». Прорези европейских стремян имеют серийные параллели в ажурных узорах прочих изделий, а южносибирские — часто гипертрофированы и не имеют аналогов в традиционных местных системах декора. По контурам прорези подножек стремян сопоставимы с ажурными фигурами на изделиях восточноевропейского геральдического стиля (россыпи и сочетания округлых отверстий с прорезями — треугольными, серповидными, в виде «запятых»), и нет сомнений в том, что традиция украшать таким способом что бы то ни было сформировалась именно в типологическом контексте восточноевропейской «геральдики».
В том же ключе, возможно, следует рассматривать и прорези в лопастях наконечников стрел. По своим очертаниям они весьма схожи с некоторыми элементами ажурного декора восточноевропейских геральдических наборов, в ранних южносибирских материалах [ Дополнение веб-версии: непосредственно предшествующего времени. ] они неизвестны, и небезосновательно предположить, что они имеют то же происхождение, что и прорези стременных подножий.
Всего вероятнее, западного происхождения и т.н. «коленчатые» кинжалы. Их не включают в число инноваций «кыргызского» происхождения, но они дополняют общую картину этнокультурных связей уйгурского периода. Наиболее ранние известные экземпляры — в хазарских комплексах VII-VIII в., (Борисово, погр. 138; Вознесенка; Глодосы; Директорская горка, погр. 3; Тополи, собраны в статье: Комар А.В., Сухобоков О.В., 2000); в ряде случаев эти кинжалы имеют напускные перекрестья, вполне аналогичные более позднему уйбатскому. Появление этих кинжалов в хазарских комплексах иногда связывают с азиатским (тюркским) влиянием, но это маловероятно: в одновременных и более ранних памятниках древнетюркского мира этот тип не представлен (все известные кинжалы — прямые). В Центральной Азии «коленчатые» кинжалы появляются, судя по изображениям на изваяниях с датированными реалиями, не ранее VIII в., а может быть, и позднее, и по имеющимся данным считать их местным типом нельзя. Вместе с тем нужно подчеркнуть, что вопрос о происхождении соответствующего восточноевропейского типа остаётся пока открытым.
Там же, в салтовской и смежных с ней культурах, обнаруживаются и сравнительно ранние удила с 8-образными завершениями грызл. Как и в случае с «коленчатыми» кинжалами, происхождение данного восточноевропейского типа нельзя считать полностью выясненным, но хронологическое соотношение с сибирскими находками позволяет предварительно считать эту разновидность удил западной. А.А. Гаврилова называла появление 8-образных завершений технологической новацией: «Это усовершенствование было вызвано невозможностью соединять в одном кольце удил роговой псалий и железное кольцо для повода: кольцо разрушило бы псалий. Нужно было отделить псалий от кольца, и это было достигнуто изобретением двукольчатых удил. Теперь псалий помещался во внутреннее кольцо восьмерки, а кольцо для повода — в её внешнее кольцо» (Гаврилова А.А., 1965, с. 81). Однако это объяснение касается в основном самого принципа двукольчатости окончаний грызл и равно относится как к удилам с дополнительными кольцами, так и к 8-образным; но «слияние» колец в «восьмёрку» имеет отношение не к использованию, а к изготовлению удил данного типа, и определяется уже нефункциональными обстоятельствами.
Наконец, то же направление связей прослеживается по серии случайных сибирских находок иных категорий: цельнолитые имитации составных хазарских «самоварчиков» (типа ГЭ ОАВЕС 5531/1923), округлые ажурные амулеты т.н. «аланского» типа (например, ГЭ ОАВЕС 5531/1932-1934), воспроизводившиеся потом в Сибири вплоть до этнографической современности, мелкие наконечники ремешков с «карикатурными» изображениями бородатого лица (ГЭ ОАВЕС 1126/428, 1133/152-153) и др. (всё бронза).
На Среднем Енисее западное влияние маркируется не только изделиями нового облика, но и заведомо инокультурными памятниками типа впускных всаднических погребе-
(112/113)
ний на могильниках Сабинка I и Кирбинский лог (Савинов, Павлов, Паульс 1988), появившимися в рамках глубокой трансформации кыргызского общества и культуры после катастрофических уйгурских набегов конца VIII в. (Азбелев 2007б). Именно в этих могилах найдены наиболее ранние на Среднем Енисее гладкие лировидные подвески с сердцевидными прорезями, стремена с приплюснутой петлёй для путлища и удила с 8-образными завершениями грызл, также наиболее ранние из хотя бы приближённо датируемых находок соответствующего облика в минусинских степях. Ничего подобного в достоверно более ранних кыргызских памятниках нет, эти типы принесены сюда новым населением — а значит, находки подобных предметов в других регионах не могут датироваться по вторичным аналогиям из кыргызского ареала.
Того же происхождения и немногочисленные минусинские находки изваяний, похожих на древнетюркские. Многие авторы относили их к таштыкской традиции, но С.В. Панкова, опираясь на подробный разбор системы образов и реалий, заключила, что «нет оснований считать их таштыкскими»; эти изваяния «современны ряду тюркских памятников», причём их нужно признать «периферийными по отношению к большинству памятников» древнетюркской скульптуры, «их корректнее относить к “кыргызскому” времени» (Панкова С.В., 2000). Уточняя и конкретизируя этот вывод, следует подчеркнуть: минусинские изваяния вторичны, их создали не скульпторы, а петроглифисты; они пытались в привычной им технике воспроизвести виденные ими (или известные им по словесным описаниям) образцы древнетюркской круглой скульптуры, а заодно дополнили непонятную и потому «развалившуюся» композицию типовых элементов, свойственных изваяниям, знакомыми петроглифическими образами.
Каждый из пунктов приведённого обзора, безусловно, нуждается в особом тщательном изучении. Предстоит проверить как типогенетические связи по отдельным категориям инвентаря, так и событийную взаимоувязанность различных заимствований. Однако и общее перечисление вероятных западных прототипов южносибирских инноваций IX в. уже позволяет сделать ряд предварительных выводов.
4. Выводы. ^
Если в эпоху Первого тюркского каганата произошёл мощный «выплеск» центральноазиатских типов на запад (типогенетический анализ см.: Азбелев П.П., 1993), то в уйгурское время наблюдается обратный процесс. Вряд ли можно вести речь о каких-то широкомасштабных переселениях или завоеваниях — может быть, имело место что-то вроде «цепной миграции» периферийных групп (населения Хазарского каганата?), спровоцированной теми или иными событиями на западе горно-степного пояса Евразии. Упомянутые инокультурные погребения на юге Минусинской котловины маркируют один из финальных этапов этого процесса.
По крайней мере часть считающихся кыргызскими признаков, распространившихся в южносибирских культурах в конце I тыс., имеет на самом деле не кыргызское, а восточноевропейское происхождение; кыргызы усвоили их наравне с другими южносибирскими народами, и не обязательно раньше других — а значит, служить вещественными индикаторами кыргызского влияния или присутствия эти типы не могут. Ни по отдельности, ни в комплексе эти признаки сами по себе не служат основанием для привязки даты того или иного комплекса к 840 г. За пределами Минусинской котловины и Тувы (и руин Орду-Балыка, разумеется) дата 840 г. статуса terminus post quem не имеет.
Применительно к вопросам этнокультурной истории это значит, что памятники, характеризующиеся соответствующими признаками, не могут считаться кыргызскими без дополнительного анализа, методология которого должна выстраиваться отдельно, на основе детального изучения кыргызской хронологии, а также глубокого анализа типогенетических связей всех южносибирских культур.
Применительно к вопросам общеисторического плана приведённые выше обстоятельства означают, что расхожий термин «кыргызское великодержавие» — не более чем историографический казус, в сущности — недоразумение, которое можно и должно устранить, предложив иное, более фундированное освещение известных исторических событий и археологических фактов. Материалы, позволяющие пересмотреть интерпретацию
(113/114)
центральноазиатской истории IX-X вв., появились в основном позже, чем концепция «великодержавия», и не могли быть учтены её создателями, однако в настоящее время несоответствие идеи о «кыргызском великодержавии» известным историческим и археологическим данным уже очевидно. Всесторонний анализ развития южносибирских культур в IX в., основанный на конкретном вещественном материале и свободный от историографических штампов, представляется важной и увлекательной задачей будущих изысканий.
Литература. ^
Комар А.В., Сухобоков О.В. Вооружение и военное дело Хазарского каганата. // Восточноевропейский археологический журнал, № 2(3), март-апрель 2000 (интернет-издание; ссылка).
Могильников В.А. Новые памятники енисейских кыргызов на Алтае. // Проблемы изучения Сибири в научно-исследовательской работе музеев. Тезисы докладов научно-практической конференции. Красноярск, 1989. С. 138-140.
|