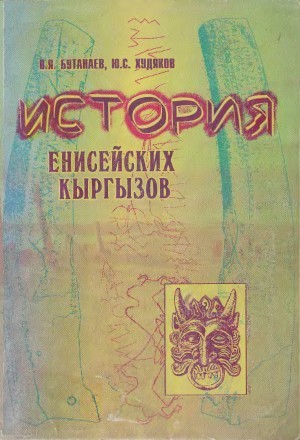 В.Я. Бутанаев, Ю.С. Худяков
В.Я. Бутанаев, Ю.С. Худяков
История енисейских кыргызов.
// Абакан: ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2000. 272 с. ISBN 5-7810-0119-0
Часть II. Кыргызское государство (VI-XII вв.).
[ 10 ] Торговые и культурные связи енисейских кыргызов.
Обмен и культурные связи между населением Южной Сибири, Центральной и Средней Азии существовали с глубокой древности, поскольку эти регионы входят в единый природно-географический степной пояс Евразии, в пределах которого сформировался культурно-хозяйственный тип кочевых скотоводов. Первые дорожные трассы сложились по путям миграций древнего степного населения в связи с развитием колёсного транспорта в бронзовом веке. С освоением верховой езды в раннем железном веке караванные дороги протянулись в отдалённые северные окраины кочевого мира. Отражением торговых и культурных связей населения Саяно-Алтая с южными странами являются находки импортных вещей из Китая, Средней Азии и Ирана в курганах кочевников скифского времени.
С началом функционирования, с конца I тыс. до н.э., Великого шёлкового пути, связавшего нити сухопутной караванной торговли в Евразии в единую трансконтинентальную магистраль, торговым связям Южной Сибири со Средней Азией и Восточным Туркестаном был придан новый импульс. Основными товарами, перевозившимися для продажи по Великому шёлковому пути были предметы роскоши: украшения из драгоценных металлов и камней, дорогая утварь и оружие, одежда и ткани, а также редкое сырьё и лекарства народной медицины. Южная Сибирь была поставщиком пушнины, мускуса и других видов сырья. Особое место среди товаров караванной торговли, благодаря своим высоким потребительским качествам, занимал шёлк, который до середины I тыс. н.э. производился только в Китае. Торговля шёлком широко использовалась китайской дипломатией в политических целях. Контроль над Великим шёлковым путем стал важным объектом борьбы между осёдло-земледельческими и кочевыми государствами Центральной, Передней и Восточной Азии в течение периодов древности и средневековья, поскольку он обеспечивал регулярный источник доходов. Важное место в этой борьбе занимал и контроль над северными ответвлениями Великого шёлкового пути, по которым в южные страны вывозилась пушнина. В конце I тыс. до н.э. определённый участок Великого шёлкового пути и торговлю с Саяно-Алтаем удалось поставить под свой контроль хуннской державе. Тор-
(126/127)
говые, культурные, этнические и политические связи населения Южной Сибири с Центральной Азией и странами, лежащими на великом шёлковом пути, значительно оживились. Вместе с хуннской администрацией в Саяно-Алтай хлынул массив центральноазиатского кочевого населения, поток культурных новаций и импортных вещей, в короткий срок изменивший этнокультурный облик региона. В Южной Сибири при посредстве хуннов появляются китайская архитектура, лаковая посуда, шёлк, бронзовые зеркала, бусы, нефритовые подвески, ханьские монеты, хуннская гончарная керамика, хуннская одежда и вооружение. Судя по археологическим материалам, наиболее интенсивные контакты в этот период были у населения Южной Сибири с хуннами и империей Хань. [1]
После падения хуннской державы и власти ханьской империи над бассейном Тарима, в сяньбийско-жужаньское время положение в трансконтинентальной торговле существенным образом изменилось. Китай утратил монополию на производство шёлка. [2] В первые века н.э. шёлковые ткани начали производить в оазисах Восточного Туркестана. В III века н.э. на Великом шёлковом пути значительно возросла активность согдийских купцов, взявших в свои руки торговлю в кочевых государствах Центральной Азии. [3] В этот период расширились контакты между Средней Азией и Южной Сибирью. В Саяно-Алтае появляются украшения полихромного стиля. Однако количество таких находок невелико. В степном Алтае обнаружено захоронение, близкое погребениям кенкольской культуры. [4] Влияние кенкольской культуры нашло отражение в вооружении населения Горного и Степного Алтая, Тувы, Восточного Казахстана. [5] В Туве получают распространение земляные курганы с катакомбным типом погребального сооружения. [6] Встречается в катакомбных памятниках Тувы привозная гончарная посуда. Однако связи с Китаем, по-видимому, ослабели. В южносибирских памятниках II-V вв. н.э. не обнаружено монет китайских династий этого периода. [7]
В середине VI века степные просторы Евразии, включая Саяно-Алтай, были покорены порками. [8] Большую активность в торговой деятельности на землях 1 Тюркского каганата проявляли согдийцы. [9] Тюркская знать, поставившая под свой контроль торговлю на участке Великого шёлкового пути через Восточный Туркестан и Притяньшанье, стала активным потребителем предметов роскоши, ввозимых согдийскими купцами в земли каганата. Огромные богатства, награбленные кочевниками в завоевательных походах, обменивались на импортные товары. По описаниям иноземных послов, тюркская каганская ставка утопала в роскоши. [10] В Тюркских памятниках в Саяно- Алтае встречаются остатки одежды из шёлковой ткани, пиршественная посуда из серебра, набор позолоченных и серебряных украшений пояса и сбруи; дорогое привозное оружие с чеканенным золотом надписями; золотые и серебряные серьги, бронзовое зеркала, перстни, бусы из полудрагоценных
(127/128)
камней и стекла. [11] Обычной находкой в тюркских памятниках являются китайские монеты танской династии. Реже встречаются монеты и жетоны из Тюргешского каганата, Сассанидского Ирана и Византии. Велико было влияние согдийцев на тюрок в культурном отношении. В I Тюркском каганате получила распространение согдийская письменность. [12] Во II Восточнотюркском каганате на её основе была создана древнетюркская руническая письменность, получившая распространение у уйгуров, кыргызов и других тюркоязычных кочевников. [13] К кочевникам через посредство согдийцев проникли мировые религии: буддизм, манихейство, несторианство. В Уйгурском каганате велика была роль согдийцев. [14] Уйгурские каганы заимствовали у согдийцев государственную манихейскую религию. Согдийцами были построены основные уйгурские крепости в Монголии и Туве. Заметным было влияние согдийских ремесленников на гончарное, кузнечное и ювелирное ремёсла уйгуров. В уйгурских городах проживало значительное количество согдийских торговцев, ремесленников, землевладельцев. По-видимому, засилье согдийцев в политической и экономической жизни уйгурского каганата способствовало недовольству телесских племён и привело к междоусобицам и падению каганата. В памятниках уйгурского зодчества прослеживается и танское влияние. [15] Широкое распространение получила торевтика с канонической манихейской и буддийской символикой у уйгуров, байырку и других телесских кочевников. [16] Согдийцы в конце I тыс. н.э. основали свои фактории даже на землях курыкан в Прибайкалье. [17]
Кыргызы в течение некоторого периода находились в зависимости от тюрок 1 каганата. Они были вынуждены поставлять им в качестве дани «оружие крайне острое». [18] Тюрки захватывали в кыргызских землях военнопленных, которые становились рабами. [19] Однако в VII веке н.э. кыргызы установили прямые дипломатические и торговые отношения с империей Тан. Кыргызские посольства и торговые караваны неоднократно пригоняли в Китай лошадей для обмена, выкупали своих плененных соплеменников в VII-VIII вв. н.э. Отражением этой торговли являются находки импортных предметов в кыргызских курганах чаатасах. В них обнаружена привозная лаковая посуда; золотые и серебряные блюда, кувшины, вазы, бронзовые зеркала, монеты, рельефы. [20] Многие из этих вещей попали на Енисей с торговыми караванами из Китая и Восточного Туркестана. Кыргызы вели активную торговлю и поддерживали дипломатические отношения с Тибетом, тюргешский и карлукский государствами. [21] Велико было также влияние тюрок и уйгуров на кыргызскую культуру, проявившееся во многих сходных элементах вооружения, сбруи и украшений. Между тюрками и кыргызами существовали династические связи. В VIII в. н.э. кыргызы заимствовали у тюрок руническую письменность. Велико было также влияние тюрок на кыргызов в военном, политическом и идеологическом отношениях. [22] Кыргызы заимствовали в Центральной Азии традиции гончарного про-
(128/129)
изводства. В VIII веке ими были восприняты многие мотивы орнаментации торевтики.
После разгрома уйгуров и образования Кыргызского каганата на просторах Центральной Азии в IX веке н.э. кыргызские каганы попытались поставить под свой контроль торговлю по великому шелковому пути и навязать даннические отношения империи Тан. [23] К 40-м годам IX века относятся наиболее интенсивные дипломатические контакты кыргызов с Китаем. [24] В это время кыргызские воины проводили военные операции против уйгуров в непосредственной близости от границ империи Тан, в Хэлочуани, Ордосе, южной Маньчжурии. В IX в. активные военные действия вели кыргызы в Восточном Туркестане, захватив ряд городов на трассе Великого шёлкового пути. [25] В этот период на Енисей было ввезено большое количество танских бронзовых монет, зеркал, лемехов и отвалов плугов, лаковой и фарфоровой посуды. Кыргызы поставляли в Китай лошадей и меха. Значительно оживилась торговля кыргызов с тибетцами, карлуками, среднеазиатскими мусульманами. [26] Караванная торговля из Тибета на Енисей шла в обход уйгурских земель через владения карлуков. Каждые три года к кыргызам направлялся «из Даши» караван из 20-и верблюдов, гружёных узорчатыми шёлковыми тканями. Из Тибета, Восточного Туркестана и Средней Азии в кыргызские земли ввозили серебряную посуду, украшения из полудрагоценных камней, раковины каури, зеркала, дорогое парадное оружие. Кыргызские женщины стали носить «платье из шерстяных и шёлковых тканей», полученных «из Аньси, Бэйтин и Дахя». [27] Часть предметов иноземного происхождения, полученных в результате торговли и в качестве военной добычи, осела в погребальных памятниках эпохи кыргызского великодержавия. Сами кыргызы продавали иноземным купцам меха соболей и других пушных зверей, мускус, «рог хуту», [28] древесину «худанг». Эти товары получали в виде дани с киштымов. Вместе с вещами в кыргызские земли проникало культурное влияние. В IX-X вв. н.э. в состав кыргызского этноса вошло и было ассимилировано большое число киштымов, тюрок и других племён, из-за чего кыргызская культура приобрела «общекочевнический» характер. В то же время кыргызские правители делали попытки развития градостроительства, земледелия, введения денежного обращения. [29] Проникали в кыргызские земли иноземные религии: бон, манихейство, буддизм.
После завоевания Центральной Азии киданями, а затем монголами, в первой половине II тыс. н.э. торговля между Саяно-Алтаем, Восточным Туркестаном и Средней Азией, входившими в состав монгольских государств, осуществлялась мусульманскими купцами. [30] Они ввозили на Енисей парчу, шёлк, хлопчатобумажные ткани, серебряную, стеклянную, фарфоровую посуду и лаковую посуду, зеркала, китайские монеты. Из Южной Сибири вывозились меха соболей и других пушных зверей. Торговые фактории существо-
(129/130)
вали в монгольских городах в Туве. Там же обнаружен мусульманский могильник. [31] Кыргызская культура первой половины II тыс. н.э. испытала на себе влияние монголоязычных кочевников в области конского снаряжения, вооружения, военно-политического устройства. На Енисей проникли монгольская письменность и буддийская религия, хотя они и не получили широкого распространения. Трансконтинентальная торговля продолжала сохранять своё значение для торговых и культурных связей енисейских кыргызов с Центральной и Средней Азией и в период позднего средневековья.
(/217)
[5] Арсланова Ф.Х. Курганы «с усами» Восточного Казахстана // Древности Казахстана. — Алма-Ата, 1975. — С. 124-129; Васютин А.С., Илюшин А.М., Елин В.Н., Миклашевич Е.А. Погребения предтюркского времени на могильнике Кок-Паш из Восточного Алтая // Проблемы охраны археологических памятников Сибири. — Новосибирск, 1985. — С. 32-35; Кызласов Л.Р. История Тувы в средние века. — М., 1969. — С. 72-76.
[8] Гумилёв Л.Н. Древние тюрки. — М., 1967. — С. 60-69.
[10] Гумилёв Л.Н. Древние тюрки... — С. 53-58.
[11] Кызласов Л.Р. История Тувы... — С. 48.
[16] Худяков Ю.С., Хаславская Л.М. О пламевидном орнаменте в южносибирской торевтике // Рериховские чтения. 1984 год. — Новосибирск, 1985. — С. 245-249.
[17] Окладников А.П. Новые данные по истории Прибайкалья в тюркское время // История и культура Бурятии. — Улан-Удэ, 1976. — С. 36-43.
[20] Евтюхова Л.А. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов). — Абакан, 1948. — С. 108-109; Лубо-Лесниченко Е.И. Дальневосточные монеты... — С. 157-160, 162-163; Он же. Привозные зеркала Минусинской котловины. — М.: Наука, 1975.
[29] Худяков Ю.С. Шаманизм и мировые религии в эпоху средневековья // Традиционные верования и быт народов Сибири. — Новосибирск, 1987. — С. 70-72.
|