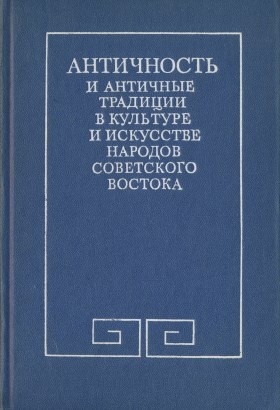 Б.И. Маршак
Б.И. Маршак
«Бактрийские» чаши.
Группа серебряных чаш в форме сегмента шара с рельефным декором снаружи [1] получила в литературе наименование греко-бактрийской. В этом определении, подробно обоснованном К.В. Тревер в 1930-е годы, [2] когда история среднеазиатского искусства только начинала изучаться, содержится локализация, которая была принята позднейшими исследователями. Надо отметить, что К.В. Тревер (как и те, кто позднее изучали эту группу чаш) отнюдь не ограничивала локализацию территорией собственно древней Бактрии, она считала, что такие сосуды происходят из более обширного региона, включавшего земли к северу от Амударьи и к югу от Гиндукуша.
Не вызывает сомнений, что в декоре чаш сочетаются местные и эллинистические элементы. Однако датировка подобных сосудов (как ранее известных, так и обнаруженных позднее) [3] потребовала уточнения.
Если ранее, до недавнего открытия греко-бактрийского города в Северном Афганистане, известного под современным названием Ай-Ханум, «варварские» особенности чаш можно было объяснить как проявление местной культуры Бактрии, отдалённой от основных центров эллинистического мира, то теперь, после раскопок в Ай-Ханум, стало ясно, что изобразительное искусство греков на крайнем востоке их владений оставалось близким к греческому искусству на Переднем Востоке и в Средиземноморье. [4]
Вместе с тем чаши с эллинизованным декором по форме, пропорциям и размещению рельефных изображений на наружной стороне аналогичны нескольким эфталитским и иранским чашам V-VIII вв. [5] Это заставляет предположить, что временной разрыв между обеими группами сосудов не может быть слишком длительным. Тем более что «эллинизованные» сосуды не выстраиваются в типологический ряд, который можно было бы растянуть от III-II вв. до н.э. до V в. н.э. Напротив, ни для одного из них не прослеживается ни предшествующего, ни
(258/259)
последующего звена в пределах «эллинистической» группы, но почти для любого из этих сосудов находится достаточно близкая аналогия в мотивах декора схожих по форме чаш V-VIII вв., а также других раннесредневековых памятников.
Не возвращаясь теперь к такому попарному сопоставлению, о котором нам приходилось писать, [6] отмечу только, что чашу с головами четырёх Тюхе [7] уже К.В. Тревер сопоставила с появившимся только около 300 г. известным позднеримским сюжетом четырёх городских богинь (по числу столиц четырёх частей, на которые разделилась империя). [8]
Наконец, многие сосуды включают в свой декор целые фигуры и композиции, твёрдо датирующиеся не ранее IV-VI вв. Так, на чаше галереи Фрир (ранее — в коллекции Кеворкьяна) в центре изображён орёл с характерными для позднего сасанидского искусства особенностями стилизации. Таковы не орлиные оголённые лапы, треугольник из перьев между лапами и хвостом, [9] завитки на наружном контуре крыльев. К сожалению, датированных сасанидских изображений орлов слишком мало, чтобы можно было установить, когда сложился такой образ, известный по памятникам VI-VII вв. В III в. на монетах Ардашира I орёл дан ещё без каких-либо признаков такой стилизации. [10] Л.И. Альбаум и Б.Я. Ставиский показали, что декор чаши с Гераклом включает сцену пира, персонажи которой одеты в среднеазиатские костюмы VI-VII вв. [11]
Недавно изданная чаша, приобретённая у тибетских эмигрантов, бесспорно относится к «бактрийским». Дата её происхождения также в пределах IV-V вв., о чём свидетельствуют как сасанидские черты в одежде персонажей и трактовке бассейна, так и амфоры типа Концешты (ок. 400 г.) в руках двух фигур. [12] Типологическое значение чаши и в том, что изображённые на ней шарфы фигур, деревья, бордюр из шариков под краем сосуда схожи с соответствующими деталями Бартымского кубка, [13] что подтверждает справедливость отнесения этого кубка к «бактрийскому» кругу. Однако деревья на чаше ещё более стилизованы.
Известная кустанайская чаша [14] — более античная по стилю, что, казалось бы, говорит в пользу более ранней даты, но сопоставление изображения сидящей богини с монетным материалом и здесь подводит к дате — около 400 г. [15] К. Вейцманн пишет, что эта богиня негреческая по своей иконографии. [16] Самой ранней можно считать, видимо, чашу из Бухары с кушанской (что отмечал уже Я.И. Смирнов [17]) фигурой воина.
Итак, почти через 70 лет мы возвращаемся к датировке всех чаш III-VII вв., предложенной Я.И. Смирновым. [18] Но возникает недоумённый вопрос: как же согласовать столь позднюю дату с античными сюжетами? К. Вейцманн, крупнейший знаток иллюстраций к мифологическим сюжетам, доказал (после безуспешных попыток нескольких учёных интерпретировать эти
(259/260)
сюжеты), что кустанайская чаша, чаша с Гераклом и чаша галереи Фрир украшены иллюстрациями к трагедиям Еврипида, причём изображения скопированы восточными мастерами с греческих чаш, близких к мегарским, но не глиняных, а серебряных. [19] Возможно, имел место процесс неоднократного перекопирования, но чаши промежутных [промежуточных] этапов до нас не дошли.
Надо отметить также, что еврипидовское повествование в декоре каждой вещи перебито вставкой с местной иконографией или даже целой местной сценой. Ф. Денвуд считает, что чаша из Тибета украшена иллюстрациями к «Илиаде» (II, 303-330): греки, совершая жертвоприношение у ручья, смотрят, как змея влезает на дерево, подбирается к гнезду птицы и пожирает по очереди восьмерых птенцов, а затем их мать. После этого Зевс превратил змею в камень. Калхас объяснил это знамение: девять птиц означают продолжительность войны ещё в течение девяти лет. [20] Однако на чаше нет упомянутых Гомером алтарей, добавлена фигура барабанщика и никак не выражено именно девятикратное пожирание птиц, что весьма существенно с точки зрения сюжета. Возможно, что сцены со змеёй и птичьим гнездом интересовали художника сами по себе, независимо от фигур людей. На среднеазиатской кружке VIII в. представлен этот же мотив, но уже без человеческих изображений. [21] Итак, исследователями установлено, что, с одной стороны, чаши изготовлены в среде, не понимавшей греческих сюжетов или плохо их понимавшей, а с другой стороны, не менее очевидно, что мастера стремились сохранить греческие изображения в их греческом виде.
Каковы возможные объяснения такого положения?
1. Иллюстрируемый рассказ дошёл до мастера, хотя и в искажённом виде.
2. Мастер знал другой (местный) сюжет, но использовал готовые греческие изобразительные формулы.
3. Мастер знал только сюжеты вставных эпизодов с местной иконографией и значение отдельных символов, а греческие изображения копировал с теми или иными искажениями, по большей части не понимая их смысла.
Первая гипотеза отпадает, так как на одной чаше бывают сведены вместе сцены из нескольких трагедий. [22] Здесь нет последовательности изложения фабулы, а поэтому, чтобы понять сюжет, мастера и заказчики должны были знать не просто тот или иной миф, который мог бы войти в местную литературу или фольклор, но всего Еврипида, что едва ли вероятно для тохаристанца или кабульца IV-VII вв. [23]
Вторая гипотеза также должна быть оставлена, так как никто не стал бы наряжать по-гречески персонажей местных повествований. На тех же чашах подобных персонажей изображали не в виде греков, а в соответствии с местной иконографией.
(260/261)
Остаётся как будто только третья гипотеза, но тогда, в свою очередь, возникает новый вопрос: какой же был смысл в течение пяти-семи веков копировать непонятное и к тому же делать это в стране, где существовало своё изобразительное искусство?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо учесть, что в искусстве средних веков [24] (и даже в неоаттическом искусстве [25]) роль изображений, восходящих к древним прототипам, отнюдь не сводится к иллюстрированию того или иного рассказа. Нередко происходило полное искажение смысла рассказа. Однако оно не делало изображение бессодержательным, происходила только замена повествовательного значения меморативным. Зритель в таких случаях не должен был понимать сюжет, но должен был знать, что подобные сюжеты типичны для той или иной страны или для того или иного периода и что ценность произведения этой страны или этого периода общеизвестна в момент создания нового произведения. Функция изображения в этом случае соответствует функции «географических» эпитетов в эпосе при описании сосудов, одежды, оружия и т.д. Имеется в виду, что «румийские», «китайские», «чачские» и т.д. изделия не просто происходят из соответствующих стран, но именно поэтому превосходны и достойны эпических героев. Понятие «содержание» в искусстве настолько многообразно, что повествовательный сюжет предстаёт лишь как частный случай «содержания», причём в очень многих случаях отнюдь не главный. [26] Нельзя навязывать памятникам искусства непременно иллюстративную роль. Поэтому такими наивными представляются модные теперь попытки расшифровки понятий, будто бы вложенных в тот или иной мотив орнамента. Если даже изобразительные мотивы могут сменить повествовательное значение на меморативное, то для орнамента меморативное значение (наряду с его основным декоративным смыслом) часто оказывается весьма существенным. Потеря первоначального смысла изображений не делает произведение бессодержательным, а лишь придаёт ему содержание другого рода. Множество иконических знаков, передававших содержание сюжета, превращается в один знак, обозначающий близость данной вещи к изделиям какой-то страны и или какого-то периода.
В этой связи интересны серебряные блюда с триумфом Диониса. Одно из них хранилось в сокровищнице владетеля Бадахшана, [27] другое найдено близ станции Алкино в Приуралье, [28] а третье происходит из Ирана. [29] Если третье блюдо представляет собой лишь упрощённую и несколько огрублённую копию второго, то второе и первое могут служить примером переработки едва ли не каждого мотива композиции. Бадахшанское блюдо ещё довольно точно передаёт античный сюжет. Дата и место его изготовления устанавливаются по незначительным отклонениям от прототипа в трактовке таких деталей, как деревья внизу, похожие на деревья Бартымского кубка, и крыло Эрота,
(261/262)
который держит кувшин в руке, похожее на крылья сасанидских корон. [30] По этим признакам бадахшанское блюдо примыкает к «бактрийским» чашам.
Алкинское блюдо можно рассматривать как параллель к сасанидским чашам, по форме аналогичным «бактрийским». В обоих случаях мы видим далеко зашедшую переработку декора в иранском стиле. Однако, если на иранских чашах тематика сменяется сасанидской, то в данном случае старый сюжет сохранён, хотя и с весьма существенными искажениями. Характерная для изображений на нескольких «бактрийских» сосудах (отличная от сасанидской) трёхчастная форма концов шарфов и плащей на алкинском блюде заставляет думать, что между ними и бадахшанским блюдом было какое-то промежуточное звено, более близкое к «бактрийским» чашам, чем бадахшанское блюдо. Однако все остальные отличия между сосудами можно целиком отнести за счёт сасанидской переработки.
Был ли при этом и сюжет переосмыслен в духе иранских представлений? Есть небольшая деталь, на которую не обратили внимания исследователи, но которая показывает, что мастер сознавал иноземный характер сюжета. На одежде «Диониса» дважды показан равноконечный крест с расширяющимися ветвями в венке двойного плетения. В данном случае это добавление к прототипу нельзя понимать как простую попытку изобразить реально существовавшую ткань. Ни для иранского, ни для ранневизантийского текстиля такой орнамент не был сколько-нибудь характерен. В то же время подобный крест, окружённый венком, был хорошо известен как христианский символ. Мастер поместил здесь этот символ, чтобы подчеркнуть, что изображённый персонаж не свой, а «румийский», т.е. греко-римский. Здесь перед нами не попытка приспособить чужую иконографию к своему сюжету, а сознательный интерес к чужой культуре. Такое тождество христианского и «румийского» в сознании иранского мастера едва ли могло сложиться уже в IV в., когда христианство только что восторжествовало в Римской империи. Поэтому датировку А.П. Смирнова (не позднее IV в.) [31] приходится отвергнуть. Блюдо относится к V-VI вв., что соответствует и позднесасанидской трактовке растений в его декоре.
Надо отметить, что Р. Эттингаузен, специально исследовавший вопрос о византийско-иранских связях, пришёл к выводу, что дионисийские мотивы были перенесены в Иран в готовом виде без адаптации и тем более без интеграции этих занесённых извне мотивов. [32] Если даже иногда переосмысление и происходило, то в данном случае, как, видимо, и во многих других, понимание сюжета теряло религиозный аспект. Важно было, что вещь «румийская» и что на ней изображён пир, не имеющий отношения к иранской официальной религии и к иранскому официальному царскому пиру. [33]
(262/263)
Светскость и неофициальность искусства достигались с помощью обращения к традициям иной культуры.
Подобным образом в аббасидское время доисламская культура персов и христианско-византийская культура воспринимались не только сами по себе, но и по контрасту с официальным исламом. Изображения персидских царей и христианских священников в равной мере ассоциировались с запретным для мусульман вином. [34] Конечно, существовали и иные аспекты восприятия этих культур, но декор пиршественной посуды, скорее всего, отражал именно тот греховно-гедонистический, не лишённый бравады взгляд на мир, который ярко отразился в известных стихах Абу Нуваса. [35]
В более раннее время дионисийские мотивы мозаик дворца Шапура I, проявлявшего интерес к культуре иных земель, не относились к официальному сасанидскому стилю, оставаясь в сфере неофициальной жизни двора. [36] Эти образы не получили дальнейшего развития в искусстве сасанидского Ирана. Известны только две античные композиции на сасанидских серебряных блюдах: триумф Диониса и Беллерофонт с Пегасом и нимфой (или Диоскуры) на блюде музея Метрополитен. [37] Обе композиции дополнены очень схожими между собой маленькими фигурками музыкантов в иранской одежде, никак не связанными с основным сюжетом, но вполне соответствующими обстановке на тех пирах, для которых предназначались блюда. Дискуссия по поводу даты изготовления блюда музея Метрополитен представляет интерес с точки зрения методики. Г.А. Кошеленко отверг датировку IV-V вв., предложенную П.О. Харпер, [38] и отнёс сосуд к парфянскому времени. [39] Не найдя в сасанидском Иране культа божественных близнецов и зная о почитании Диоскуров парфянами, исследователь считает возможным не проводить какого-либо изучения стилистических особенностей и деталей. Эта ограниченность подхода характерна для большого числа работ очень многих исследователей.
Между тем достаточно сопоставить хотя бы трактовку фигур коней с трактовкой их на сасанидских царских серебряных блюдах IV и особенно V в., [40] чтобы признать невозможность датировки сосуда временем ранее IV в. Но если правильны исходные посылки обоих авторов, т.е. Сасаниды не почитали Диоскуров, а блюдо сасанидское, то остаётся считать, что художник изобразил не своих богов, но персонажей чужого мифа. Крупнейший знаток восточной символики Р. Эттингаузен как раз и приходит к такому выводу. [41] Он доказал, что юноша с крылатым конём и нимфа с сосудом, показанная внизу, восходят к какому-то позднеримскому памятнику с изображением Беллерофонта. Этим образцом могла быть не серебряная чаша, а скорее какая-то скульптура, пьедестал которой изображён в рельефе на сосуде. Удвоение фигур едва ли было чисто композиционным приёмом. Возможно, здесь отразилось влияние ико-
(263/264)
нографии Диоскуров, сохранившейся на территории кушанской Бактрии, в IV в. присоединённой к Ирану. [42]
Надо отметить, что в трактовке юношей на «бактрийской» чаше из Тибета и на блюде с «Близнецами» настолько много общего, что их сходство нельзя объяснить только общностью античного прототипа.
Две культуры на границах Ирана, римско-византийская и «бактрийская», воспринимались как чуждые, но заслуживающие самого пристального внимания. Если в значимости римско-эллинистического мира, основного противника и партнера Ирана на Западе, не приходится сомневаться, то и Бактрия, родина авестийских Кеянидов, в борьбе за которую сасанидские цари как бы продолжали овеянную легендами борьбу Ирана против Турана, также должна была вызывать интерес. В конце IV-VI вв. наблюдается проникновение иранских мотивов на Восток и, правда, в меньшей мере, проникновение бактрийских мотивов в Иран.
В сасанидском Иране, с его отработанным до деталей официальным искусством и обладающей развитой символикой государственной религией, сознательно ориентированное на чужие светские и неофициальные образцы искусство было тем более независимым, чем более подражательным кажется оно по форме. Отметим, что сасанидские мастера никогда не доходили до прямого копирования, сохраняя свою трактовку и фигур, и деталей, в отличие от «бактрийских» торевтов, стремившихся воспроизвести не только композицию, но и весь облик античного образца. Кроме того, установившееся при Сасанидах преобладание изображений с чёткой символикой сказалось в том, что в Иране было сделано лишь немного вещей, подобных алкинскому блюду и блюду с «Близнецами». Тем не менее роль подобных подражаний, видимо, была значительной. На них появились первоначально чуждые персам образы, подобные танцующей менаде или Пегасу, для которых привыкший к символическому истолкованию изображений иранец сасанидской эпохи находил новое, уже своё, культовое содержание. То, что Балх был городом Кеянидов, могло повлиять на отношение персов к мотивам, пришедшим с Востока: эти мотивы можно было ассоциировать не с чужой культурой, а со своей древней культурой, образы которой нуждаются в символическом объяснении. Так, на сасанидском рельефе, высеченном в честь победы над Кушанами, под ногами бога Митры был помещён заимствованный на Востоке мотив — цветок лотоса. [43] Мы не знаем во всех деталях, как появились связанные уже не с Дионисом, а с иранским культом плодородия фигуры жриц на сасанидских кувшинчиках и как сложился сасанидский мотив крылатого коня. [44] Но существенно, что главные фигуры композиций, подобные Дионису или Беллерофонту, не были при этом адаптированы, поскольку именно они прочно ассоциировались с чуждой культурой, зато
(264/265)
второстепенные фигуры людей и животных оказались возможным переосмыслением на свой лад.
Так обстояло дело в сасанидском государстве, но там, где изготовлялись «бактрийские» чаши, положение было, видимо, иным. Ни при Кушанах, ни при Эфталитах тенденция к созданию династийного искусства [45] не привела к такому преобладанию официального стиля, которое наблюдается в Иране. «Бактрийские» чаши — эти реплики с древних оригиналов — отнюдь не были исключением. Их сюжеты так разнообразны, что приходится допустить, что эллинистические сосуды, с которых копировали мастера III-VII вв., сохранялись вплоть до раннего средневековья в довольно большом количестве. При этом образцы были именно эллинистические (типа мегарских чаш), а не римские. Позднекушанский или эфталитский мастер плохо понимал и искажал стиль подлинника, в который невольно или осознанно вносил подчёркнутую характерность и даже гротеск, но сюжеты, иконография и отчасти композиция «бактрийских» чаш действительно восходят к эллинистической эпохе. К.В. Тревер, не имея возможности при тогдашнем уровне накопления материала точно датировать чаши, сделала, однако, большое открытие, определив форму и набор мотивов и композиций греко-бактрийской торевтики. Сейчас становится очевидным, что изученные ею чаши не непосредственно относятся к Греко-Бактрии, а лишь отражают некоторые черты более древнего, чем они, греко-бактрийского искусства.
Припамирские правители ещё в XIX в. пытались объявить себя потомками Александра Македонского, а владетели Бадахшана даже хранили в своей сокровищнице древние серебряные чаши. Возможно, что и сохранение древних чаш, и их непрекращающееся более или менее точное копирование затянулось (с перерывами?) почти на тысячу лет, скорее всего именно потому, что обладание древними греческими чашами имело престижное значение как своего рода «патент на благородство».
До нас не дошла литература раннесредневекового Тохаристана и его южных соседей, но в произведениях торевтики этих некогда сильно эллинизированных земель заметно, что в исторической памяти населения временам греческого господства было отведено почётное место. О греках помнили как об искусных мастерах, но наряду с этим могли сохраняться и какие-то исторические предания.
Светская эллинистическая традиция в торевтике лишь одна из нескольких традиций искусства начала средних веков в Иране, на юге Средней Азии и на территории Афганистана. Её роль в развитии искусства была достаточно скромной. Однако она представляет большой интерес, поскольку на её примере видно, как в ходе истории менялись не только набор сюжетов и мотивов, не только манера исполнения, но и содержание одних и тех же сюжетов. Явление, которое обычно называют потерей
(265/266)
содержания, оказывается не полной потерей, а лишь переменой характера значения, которое из иллюстративного превращается в меморативное, приобретая при этом целый спектр новых оттенков, подобных неофициальности, изысканности, престижности и т.д.
Изучение этих процессов только начинается. Поэтому сейчас ещё нельзя найти окончательное решение всех проблем. Я попытался только наметить круг вопросов и указать на представляющееся перспективным направление исследования. При разработке этого направления надо избегать датирования и локализации памятников на основании заранее известных данных о времени и территории распространения сюжетов. Напротив, получив атрибуцию по минимально связанным с сюжетом признакам, [46] можно не только уточнить, когда и где знали данный сюжет, но иногда и попытаться выяснить, как могли понимать композиции с тем или иным сюжетом в те эпохи и в тех странах, в которых он не был засвидетельствован письменными источниками и заведомо местными вещами с датами, не требующими доказательства.
Примечания. ^
[1] См.: К. Тревер. Проблема греко-бактрийского искусства. — III Международный конгресс по иранскому искусству и археологии. Доклады. Сентябрь 1935. М.-Л., 1939, с. 267-269; К.В. Тревер. Памятники греко-бактрийского искусства. М.-Л., 1940, табл. 15-26.
[3] См.: Ph. Ackerman. Guide to the Exhibition of Persian Art. N.Y., 1940, c. 325; K. Weitzmann. Three «Bactrian» Silver Vessels with Illustrations from Euripides. — «The Art Bulletin». Vol. XXV. 1943, №4, c. 307-320, fig. 13-16, 20-23; Ph. Denwood. A Greek Bowl from Tibet — «Iran». Vol. XI. 1973, c. 121-127, pl. I-IV.
[4] См.: Fouilles d’Aï-Khanoum. I. — MDAFA. T. XXI, 1973; P. Bernard. Aï-Khanoum on the Oxus: A Hellenistic City in Central Asia. — «Proceedings of the British Academy». Vol. LIII. L., 1967, c. 90-91, pl. XVIII-XX; он же. Campagne de fouilles 1969 à Aï-Khanoum en Afghanistan. — CRAIBL. 1970, c. 339-345, fig. 31; он же. La campagne des fouilles de 1970 à Aï-Khanoum (Afghanistan). — CRAIBL. 1971, c. 433-435, fig. 25; он же. Fouilles d’Aï-Khanoum (Afghanistan): Campagne de 1974. — «Bulletin de l’Ecole Française d’extrême-orient». T. LXIII. P., 1976, c. 16-24, pl. VIII-X; D. Schlumberger. L’Orient hellénisé. — L’Art Grec et ses héritires dan l’Asie non Méditerranéenne. P., 1970, c. 26-31, ill. 1-3.
[8] См. там же, с. 94; О четырёх Тюхе в искусстве IV в. см.: Н. Stern. Le calendrier de 354. Étude sur son texte et ses illustrations. Institut français d’archéologie de Beyrouth, Bibliothèque archéologique et historique. T. LV. P., 1953, c. 124-144.
[9] Об этом мотиве см.: Д.А. Хвольсон, Н.В. Покровский, Я.И. Смирнов. Серебряное сирийское блюдо. — MAP. №22, 1899, с. 29;
(266/267)
В.Ю. Лещенко. Сасанидское блюдо Пермской художественной галереи. — СА. 1966, №2, с. 318.
[11] Л.И. Альбаум. Балалык-тепе. Ташкент, I960, с. 176-178; Б.Я. Ставиский. О датировке и происхождении эрмитажной серебряной чаши с изображением венчания царя. — СГЭ. XVII, 1960.
[12] См.: L. Matzulewitsch. Byzantinische Antike. В.-Lpz., 1929, с. 123-134, Abb. 41-42, Taf. 36-43.
[16] См.: К. Weitzmann. Three «Bactrian» Silver Vessels..., с. 320.
[17] См.: Я.И. Смирнов. Восточное серебро. Атлас древней серебряной и золотой посуды восточного происхождения, найденной преимущественно в пределах Российской империи. СПб., 1909, с. 7.
[19] См.: К. Weitzmann. Three «Bactrian» Silver Vessels..., с. 289-290.
[20] См.: Ph. Denwооd. A Greek Bowl from Tibet, c. 122.
[22] См.: К. Weitzmann. Three «Bactrian» Silver Vessels.... с. 292-318.
[23] Примером освоения античного сюжета художниками Средней Азии является роспись с капитолийской волчицей в Шахристане, которая соответствует не только иконографии, но и содержанию римской легенды. См.: В.Л. Воронина, Н.Н. Негматов. Открытие Уструшаны. — Наука и человечество. М., 1975, с. 68-69; H.H. Негматов. Эмблема Рима в живописи Уструшаны и древневосточная мифологическая традиция. — ИАН ТаджССР. Вып. I (71), 1975.
[24] См.: К. Weitzmann. Greek Mythology in Byzantine Art. Princeton, 1951.
[25] Б.А. Литвинский связывает с влиянием неоаттического искусства бессмысленные сочетания мифологических фигур па фризах ритонов Нисы. См.: Б.А. Литвинский, Н.О. Турсунов. Ленинабадский кратер и луврская ваза Сосибия (Неоаттическое искусство и Средняя Азия). — ВДИ. 1971, №3, с. 106.
[26] См.: Е. Panofsky. Meaning in the Visual Arts. N.Y., 1955.
[27] См.: Я.И. Смирнов. Восточное серебро..., №35; О.М. Dalton.The Treasure of the Oxus with other Examples of Early Oriental Metalwork. L., 1964, c. 49-51, pl. XXVII.
[28] См.: А.П. Смирнов. Новая находка восточного серебра в Приуралье. М., 1951.
[29] См.: R. Ettinghausen. A Persian Treasure. — Arts in Virginia. Vol. 8. 1967-1968, fig. 17; W.T. Chase. The Technical Examination of Two Sasanian Silver Plates. — «Ars Orientalis». Vol. VII. 1968, c. 85-93, pl. 9-14.
[31] См.: А.П. Смирнов. Новая находка..., с. 25.
[32] См.: R. Ettinghausen. From Byzantium to Sasanian Iran and the Islamic World. Leiden, 1972, c. 1-10.
[34] См.: И.Ю. Крачковский. Сасанидская чаша в стихах Абу Нуваса. — Избранные сочинения. Т. II. М.-Л., 1956; он же. Абу Нувас о сасанидской чаше с изображением. — Там же; D.S. Rice. Deacon or Drink. — Arabica. Vol. V. 1958; О. Grabar. An Introduction to the Art of Sasanian Silver. — Sasanian Silver. Late Antique and Early Mediaeval Arts of Luxury from Iran. Michigan, 1967, c. 66-67.
[35] См.: И.Ю. Крачковский. Абу Нувас о сасанидской чаше...
(267/268)
-V вв. Очерки по истории культуры). М., 1969, с. 94-95; R.М. Ghirshman. Bîchâpour. Vol. 2. Les Mosaïques sassanides. P., 1956.
[37] См.: P.O. Harper. The Heavenly Twins. — «Bulletin of the Metropolitan Museum of Art». Vol. 23. 1965, c. 186-195; O. Grabar. An Introduction to the Art of Sasanian Silver..., pl. 25. 66.
[38] См.: P.O. Harper. The Heavenly Twins, c. 187, 189-196.
[39] См.: Г.А. Кошеленко. Серебряная «ваза с Диоскурами». — СА. 1968, №2, с. 266-269.
[40] См., например, известное блюдо Пероза в музее Метрополитен, которое неоднократно издавалось: SPA. Vol. IV, pl. 213; К. Erdmann. Die Kunst Irans zur Zeit der Sasaniden. Mainz, 1969, c. 101, Abb. 63; O. Grabar. An Introduction to the Art of Sasanian Silver, pl. 2, c. 93 (приведена библиография).
[41] См.: R. Ettinghausen. From Byzantium..., c. 12, 14-15.
[42] См.: И.Т. Кругликова. Дильберджин (раскопки 1970-1972 гг.). Ч. I. М., 1974, с. 22-27, табл. 2-3. О завоевании территории Бактрии см.: В.Г. Луконин. Культура сасанидского Ирана..., с. 125-151.
[44] См.: К.В. Тревер. К вопросу о храмах богини Анахиты в сасанидском Иране. — ТГЭ. Т. X, 1969; Р.О. Harper. Sources of Certain Female Representations in Sasanian Art. — «La Persia nel Medioelo. Accademia Nazionale dei Lincei. Anno CCCLXIII. Roma, 1971; R. Ettinghausen. From Byzantium..., c. 6-16.
|