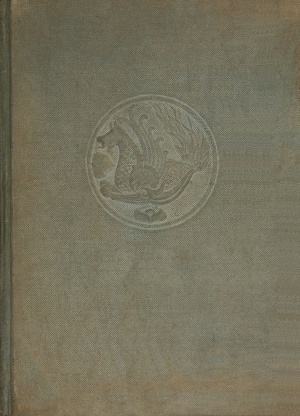 И.А. Орбели, К.В. Тревер
И.А. Орбели, К.В. Тревер
Сасанидский металл.
Художественные изделия из золота, серебра и бронзы.
// М.-Л.: Academia. 1935. XLVIII с. + 85 табл.
Скачать полностью: .pdf, 32,35 Мб. Сканировал khaa_alec.
[ Текст. ] — XI-XXVI
I. — XI-XVI
II. — XVI-XIX
III. — XIX-XXII
IV. — XXII-XXVI
[ по-русски ]. — XXXI-XXVIII
[ по-французски ]. — XXXIX-XLVII
1935. III международному конгрессу по иранскому искусству и археологии. Ленинград.
Предисловие. ^
Уже задолго до Революции одной из достопримечательностей Эрмитажа являлась его сасанидская коллекция даже несмотря на то, что эти выдающиеся памятники искусства средневекового Ирана в старом Эрмитаже были искусственно разобщены.
Передача в Эрмитаж в 1913 году целого ряда великолепных памятников, хранившихся до того в Риме в собрании одного из Строгановых, значительно обогатила коллекцию Эрмитажа.
Решающим моментом в деле накопления и постановки исследования сасанидских памятников явилось создание в 1920 году в составе Эрмитажа первого востоковедного подразделения Музея — Отделения Кавказа, Ирана и Средней Азии. Освобождённый Революциею от необходимости рассматривать памятники восточного искусства лишь как испорченные разновидности искусства великих средиземноморских народов, как вспомогательный материал для истории античного искусства, искусства Византии и искусства претендовавшей на роль её естественной, законной и бесспорной наследницы — царской России, Эрмитаж положил начало развитию нового отдела, Сектора культуры и искусства Востока. Это обеспечило осуществление тех прав и обязанностей, которые были возложены на музей Октябрьской Революцией: охранения в Эрмитаже художественных памятников из национализованных частных собраний и сосредоточения в Эрмитаже разбросанных поодиночке в различных местных музеях особо выдающихся произведений искусства, хранение, изучение и экспозиционное использование которых лучше обеспечены в центральном государственном музее, чем в музеях местных.
Всё это и покупки отдельных предметов из новых находок в земле и в бытовом скарбе саклей горных аулов Дагестана привело к колоссальному росту как собраний Сектора Востока в целом, так, в частности, и его сасанидской коллекции.
Вот почему в том, что касается сасанидских художественных предметов из металла, Эрмитаж в несколько раз богаче всех музеев мира вместе взятых, вот почему научное исследование этих предметов искусства нигде в мире так не обеспечено материалом, как в Ленинграде.
(IX/Х)
Если ко всем сокровищам сасанидского искусства, хранящимся в Эрмитаже, прибавить те, что находятся в других музеях Советского Союза, то в общей сложности мы получаем такой подбор, который обязывает к надлежащей широкой и углублённой постановке исследования художественных изделий из металла в сасанидском Иране, в широком смысле этого слова, именно у нас, в Советском Союзе.
Работа эта ведётся и уже привела к результатам, которые могут быть опубликованы в виде специального исследования. Но отягощать этим по необходимости обширным текстом выпускаемый сейчас альбом нам казалось нецелесообразным.
Сасанидские памятники слишком выразительны, насыщены и доступны для восприятия, чтобы издание блестящего собрания Эрмитажа считать неотделимым от научного исследования, и независимо от которого эти воспроизведения памятников могут быть использованы и нашими художниками, и теми, кто отдаёт свои силы изучению искусствоведческих проблем. Мы имеем в виду не только специалистов по искусству Востока. Круг проблем, связанных с сасанидским искусством так широк, что памятники сасанидского искусства не могут не привлекать к себе внимания и занимающегося искусством Запада, будь то романское искусство или готика, и занимающегося искусством скандинавских стран, не говоря уже о тех, кто изучает многоликое искусство Византии или искусство древней Руси или вообще русское искусство.
Мы не даём здесь детального описания каждого предмета, с техническим анализом и с восполняющими это описание рисунками тех предметов, фотография которых не способна передать тонкости гравировки и пунктира (которые поэтому и не вошли в настоящий альбом); не даём и соответственного исторического освещения эпохи и среды, создавшей эти памятники, и тех условий, в которых они сохранилось и впитывались новой средой, воспроизводившей их, вводя новые элементы; не даём и ряда карт районов бытования и случайного заноса этих памятников, и тех торговых, — а следовательно и культурных — путей, по которым шло их распространение. Всё это, как и изложение ряда других вопросов, освещающих с нашей точки зрения этот материал, найдёт себе место в особом томе, который мы надеемся предоставить в распоряжение искусствоведов и историков Востока в самом близком будущем.
Мы надеемся посильным выполнением этой задачи воздать хотя бы в ничтожной доле наш долг учителям, так много, каждый в своей области, сделавшим для того, чтобы подготовить нас, прямым учительством или передачей в устной традиции, к изучению искусства ирано-кавказского мира — Н.Я. Марру, С.Ф. Ольденбургу, Я.И. Смирнову.
Этому альбому мы предпосылаем лишь краткое напутствие, которое, быть может, введёт читателя в круг тех вопросов, вне выяснения которых исследование сасанидского искусства невозможно.
Хронологическая таблица. ^
Арташир I Папакан. — 220-211
Шапур I. — 241-272
Ормузд I. — 272-273
Варахран I. — 273-276
Варахран II. — 276-293
Нарсе. — 293-302
Ормузд II. — 302-309
Шапур II. — 309-379
Шапур III. — 383-388
Варахран V (Бахрам Гур). — 420-438
Кавад I. — 488-531
Хосров I Ануширван. — 531-578
Хосров II Парвез. — 590-627
Иездегерд III. — 632-651
|