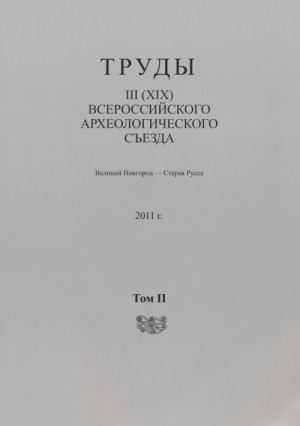 А.Н. Мухарева
А.Н. Мухарева
Изобразительные традиции первой половины I тыс. н.э.
в наскальном искусстве Саяно-Алтая.
Степень изученности наскального искусства Саяно-Алтайского региона такова, что вопрос о разграничении изображений гунно-сарматского времени и древнетюркского периода всё ещё остаётся дискуссионным. Уже в конце XIX — начале XX в. исследователи стремились не просто копировать рисунки, но и определять время их создания. По мере открытия изобразительных материалов в археологических комплексах их активно привлекали для сопоставления с петроглифами, благодаря чему были определены основные стилистические приемы, характеризующие наскальное искусство древнетюркской и гунно-сарматской эпох. Для датировки целых серий петроглифов древнетюркским временем принципиальное значение имело открытие плит с рисунками на средневековых поселениях (Хороших, 1949; 1951; Окладников, 1959; Асеев, 1980 и др.), а также изображений на плитах древнетюркских оградок и каменных изваяниях (Руденко, Глухов, 1927; Грач, 1958; Кубарев, 1984 и др.). Культурная принадлежность таштыкских рисунков была достоверно произведена после того, как М.П. Грязновым в одном из склепов таштыкской культуры были найдены деревянные планки с изображениями, датированные им III-V вв. н.э. (Грязнов, 1971. Рис. 3-7). По аналогии с ними к гунно-сарматскому времени стали относить петроглифы Саяно-Алтайского региона, выполненные в схожей стилистической манере (Савинов, 1995; Дэвлет, 1995; Соёнов, 2003 и др.).
Однако чётко отделить гунно-сарматский пласт наскальных изображений от средневекового не всегда представляется возможным. Например, значительное количество динамичных композиций, включающих различных зверей, фигуры всадников и пеших воинов получают распространение в гунно-сарматское время и продолжают сохранять своё значение в древнетюркскую эпоху. Известны целые серии петроглифов (Шишкино, Улазы), сочетающие в себе элементы таштыкской и древнетюркской изобразительных традиций. Подобное сочетание имеет место и в декоре предметов из археологических комплексов (ташебинские планки).
Вопрос о сочетании разнокультурных элементов в изображениях, датированных I тыс. н.э., неоднократно поднимался в работах Д.Г. Савинова и некоторых других авторов. Особенно много неясностей и спорных моментов вызывает завершающая стадия таштыкской культуры и начальный этап культуры енисейских кыргызов на территории Минусинской котловины. Предлагая периодизации таштыкской культуры, С.А. Теплоухов, C.B. Киселёв, Л.Р. Кызласов, М.П. Грязнов и др. верхнюю её дату определяли IV-V вв. н.э. По мнению Э.Б. Вадецкой, в определённый период таштыкские склепы и кыргызские чаатасы могли функционировать одновременно (Вадецкая, 1999. С. 200). Развитие таштыкской культуры вряд ли могло быть прервано образованием в середине VI в. Первого тюркского каганата; отдельные таштыкские традиции в искусстве населения Саяно-Алтая могли существовать и во второй половине I тыс. н.э. (Савинов, 1994. С. 21-22). Наличие общих элементов в таштыкской культуре и культуре енисейских кыргызов отчётливо прослеживается при анализе целой серии петроглифов, представляющих своеобразную изобразительную традицию и относящихся вероятно к раннему этапу истории енисейских кыргызов, когда прежние таштыкские традиции ещё сохраняли своё значение.
Окладников А.П., 1959. Шишкинские писаницы – памятник древней культуры Прибайкалья. Иркутск.
Соёнов В.И., 2003. Петроглифы Горного Алтая гунно-сарматского времени // Древности Алтая. Горно-Алтайск. №10. (текст в сети)
Хороших П.П., 1949. Писаницы на горе Манхай // КСИИМК. Вып. XXV.
Хороших П.П., 1951. Наскальные рисунки на горе Манхай II (Кудинские степи) // КСИИМК. Вып. XXXVI.
|