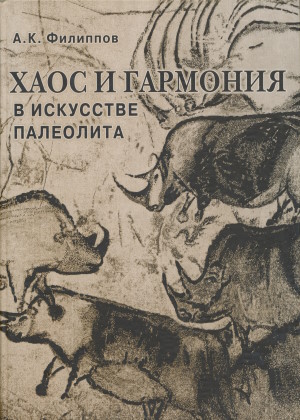 А.К. Филиппов
А.К. Филиппов
Хаос и гармония в искусстве палеолита.
// СПб: ЛООО «Сохранение природы и культурного наследия». 2004. 222 с. ISBN 5-9900353-1-4
Глава 7. Происхождение искусства.
На первый взгляд, миф кажется только хаосом — бесформенной массой бессвязных идей. Искать «основания» этих идей представляется зряшным и безнадёжным делом. <…>
Проблема предстаёт, однако, в совершенно ином свете, как только мы решаемся изменить точку зрения.
Эрнст Кассирер
^ Условия возникновения фигуративной деятельности.
Опираясь на структурные особенности археологических артефактов и их связи, можно выделить информационные стадии существования палеолитического человека: а) Олдувай — ранний ашель — с элементарной, но универсальной технической системой «ядро — скол», которая воспроизводит саму себя на новом уровне «вторичной» обработки и имеет свою внутреннюю цель. Необходимо отметить, что именно здесь осуществляется символизация оптимальной формы рабочих кромок с эффективностью остроты в зависимости от естественного удобства и массы; стихийно возникают самые различные технологические приёмы заострения краевых участков каменных орудий. Кроме того, в таком комплексе усматривается генетически исходная, целостная производственно технологическая система, позволяющая предположить существование актуальных представлений, выходящих за сиюминутную ситуацию; б) ашель — мустье — с появлением целостно оформленных изделий, вольно или невольно символизирующих тот или иной класс универсальных предметов и класс кинематически сгруппированных операций. В этот период «предметно-схемный код» усложняется: в конечном итоге происходит ускоренное формирование условных знаков на таких материалах, как кость и, по всей вероятности, дерево; в) верхнепалеолитическая стадия — с развитой каменной и костяной индустрией, сложной знаковой системой и изобразительным искусством.
Что же происходит в конце мустье — начале верхнего палеолита, когда появляются указанные знаки и символы? Ограниченность интеллекта человека указанного времени относительна. В той языковой реальности, которую мы охарактеризовали, искусственный мир вещей в некоторой степени уже мог представляться самодействующим в виде реальности аниматической. Во всяком случае, в конце мустье можно предполагать существование у человека неких догадок — образных «представлений порождения»: вещь порождает вещь. Думается, человек не считал вещи живыми,
(188/189)
но он вообще не понимал живого как качественно отличного от неорганических предметов. Общие признаки представлений «порождения» связаны с мыслительными комплексами, которые у нас совсем иные и которые в наших понятиях трудно определить. Не исключено, что эта смутная «идея порождения» была первым подобием общего представления, в котором возникала неясно осознаваемая бинарная оппозиция активно действующего и рождающего; отсюда — качества мужского и женского впоследствии легко переносятся на предметный мир. Может быть, «представление порождения», если оно действительно существовало в это время, и было протоформой первого мифа.
В это же время, видимо, возникает комплекс таких же догадок — представлений некоего инобытия. Некоторые неандертальские достаточно хорошо раскопанные захоронения, кажется, свидетельствуют именно об этом. В структуре деятельности человека в конце эпохи происходят существенные изменения. Конечно, мало известно о процессах, происходивших в этих обществах. Их можно представить только в предельно схематической форме. Если внимательно отнестись к фактам, связанным со значительным, с нашей точки зрения, накоплением материала с различными условными начертаниями, то можно понять, что в конце этого переходного периода — нефигуративной знаковой символизации — происходят существенные изменения в системе «деятельность — общение». Результатом этого ускорения преобразований и явилась некая новая деятельность со своим качественно иным вербальным языком и языком фигуративных и абстрактных условных символов. В связи с этим предположением встаёт ряд проблем. Как можно объяснить в этом сравнительно кратком переходном периоде процессы столь высокой интеллектуализации, исходя хотя бы из общих социопсихологических соображений?
Конкретно мы не знаем, по каким причинам сам человек, его стабильное общежитие оказались в конце мустье в состоянии перехода в новое качество. Здесь мы вступаем в область слабо обоснованных гипотез. Витальные свойства природы и генетические истоки наследственности человека ещё далеко не изучены. Казалось бы, интеллект ашело-мустьерцев при достаточно примитивном укладе жизни был весьма устойчивым и не мог подняться над уровнем своего типового штампа мышления. Вспомним хотя бы человеческих детей, воспитанных в волчьей семье, они оставались на уровне животного, а ведь биологически они были Homo sapiens sapiens. Нужен был не только какой-то экстраординарный внутренний или внешний толчок, но и, главное, — появление принципиально новых отношений, интенсивной самоорганизации этих отношений и, соответственно, обогащение и разделение значений и смыслов в языках разной природы.
Иногда допускают в качестве активизирующей стороны какое-то природное давление. Хорошо известно, что охотничья удача связана с определёнными обстоятельствами и что природная обстановка может резко нарушить поведение животных, изменить состав стада, стать причиной неожиданных миграций; в результате чего и независимо от воли человека жизнь первобытной общины может оказаться на грани вымирания. В большинстве палеостратиграфических схем, в том числе и западноевропейских, отмечено, что после риссвюрмского (микулинского) межледниковья для мустьерского человека наступили суровые переменчивые времена. Становятся типичными резкие изменения хозяйственных зон, разрушение ландшафтно-биологических единств.
(189/190)
Предполагается, что в подобных экологических условиях, как нам кажется, создавалась тупиковая ситуация, поскольку производственный комплекс и довольно примитивные общественные структуры оказались неспособными сохранить жизнь и единство общины. Видимо, не случайно возникла в этот трудный период потребность в изменении общественных структур. В начале верхнего палеолита происходит развёртывание его новых психических свойств и отношений совместно с мощным расширением информационного поля социальности, в котором, как мы предполагаем, происходит быстрый рост словарного состава языка, появляются разные социально-практические знаковые системы, порождается множество значений одного слова и масса слов с одним значением, начинается мощная ритуализация поведения. Всё это проявляется сразу как взаимосвязанный комплекс. Таким образом, возникает третья информационная стадия, идёт рождение духовной сферы; возникает «проблема смерти», то есть — отношение к себе. Смерть осознаётся как уход к предкам, как другая жизнь: в предчувствии, образе, понимании ближайшей среды начинает интенсивно проявляться интуитивная забота о цельности, гармонизации отношений двух миров — Актуальной реальности и Инобытия. Мир удваивается, образуя замкнутый человеческий космос со своими ритуалами и социальными нормами. Изобразительная деятельность верхнепалеолитического человека свидетельствует, по нашему мнению, именно об этом.
Примерно 50-40 тысяч лет назад господствующим типом человека становится Homo sapiens sapiens. Как казалось бы, нельзя сбрасывать со счетов и мнение Ф. Либермана об отсутствии у ашело-мустьерца возможности быстро и чётко артикулировать гласные звуки в связи со специфическим строением его голосового аппарата [Lieberman, 1977]. Это ограничение существенно мешало бы преодолению информационного рубикона между узкопрактическими знаниями и удвоением мира через развитую словесную символизацию. Но это чисто биологические трансформации, относящиеся к очень далёкому периоду антропогенеза. Второго биологического взрыва, теперь уже внутри единого вида Homo sapiens, с нашей точки зрения, не было. Мы думаем, что больших кардинальных взрывоподобных скачков в социогенезе, который продолжается и в настоящее время, было много с изобретением всё новых и новых средств организации производства и мышления. В качестве таких последних революционизирующих средств является мировая искусственная компьютерно-информационная система.
Удивительно, но вся материальная деятельность, отношение к природе как к своему телу, присвоение почти готовых предметов потребления, формы общежития — всё вроде бы не претерпевает принципиальных изменений при переходе от мустье к верхнему палеолиту. И вместе с тем такой колоссальный качественный разрыв в символической деятельности! Факты заставляют нас признать и то, что в верхнем палеолите добыча животного сырья для производства пищи, одежды, жилищ поднимается на более высокую организационную ступень. В полном смысле слова господствующим видом деятельности становится охота на крупных, средних и мелких животных; почти весь животный мир, в том числе рыбы и тюлени, оказался втянутым в орбиту охотничьего хозяйства. Охотники оснащают себя эффективным, а на более позднем этапе и дальнобойным оружием. На это могут указывать выпрямители древков копий, копьеметалки, ранние великолепные по аэродинамическим качествам костяные
(190/191)
наконечники дротиков, а позже — гарпуны. Имеются убедительные доказательства, что в верхнем палеолите уже существовали луки. Существуют каменные остроконечники небольшого размера со специфическими сколами и сломами. В одних случаях это резцевидный скол от острия по ребру, в других — слом на какую-либо сторону. Как показали эксперименты, такая утилизация свойственна наконечникам стрел или дротиков. На совершенство орудий лова и оружия косвенно указывают и сложные составные конструкции, найденные на поселениях, наверное, в это время уже существовали деревянные «пасти» с приманкой и приспособлением в виде падающего на животное бревна. Наличие ловушек предполагается на основании наскальных изображений в пещерах Фон де Гом и Бернифаль. Изображенные «конструкции» так называемых ловушек связаны только с крупными животными — бизонами, и особенно мамонтами. Обоснование этого рода охоты дано в ряде работ, в частности, в труде Карла Линднера «Доисторическая охота» [Lindner, 1941], на которую при своём анализе охотничьей магии ссылается А. Ляминь-Амперер [Laming-Emperair, 1962: 108].
Человек этого времени употреблял загонную охоту с поджогом сухой травы или леса, с ловчими ямами или использованием естественного рельефа. Такие облавы у обрывов рек хорошо реконструируются по костищам лошадей в местонахождении Солютре и бизонов в Амвросиевке. Впрочем, в настоящее время характер загонной облавы, связанный с Амвросиевским местонахождением, оспаривается. В Амвросиевке выделяют охотничий лагерь, площадки для разделки туш и мест забоя и делается предположение, что они использовались круглогодично (?) [Леонова, Миньков, 1987: 44-46].
Массовая охота производилась также у переправ при сезонных перекочёвках животных, например северных оленей. Присутствие среди археологических находок флейт позволяет предположить охоту с манком. В верхнем палеолите практиковалась и индивидуальная охота путём «скрадывания», скрытого подхода к дичи. Об этом недвусмысленно свидетельствует гравюра сцены охоты на бизона из Ложери Ба и остатки изображения верёвки (?) вокруг шеи лошади, изображённой в Комбарелль. Последняя, по мнению А. Ляминь-Амперер и других, является изображением лассо [Laming-Emperair, 1962: 112].
Перед нами представлено всё богатство практического опыта. Это важнейший факт, который, конечно, сам по себе не объясняет ни эстетического феномена, ни изобразительной деятельности палеолитического человека. Орудия охоты — в основном это костяные наконечники — почти не имеют украшений в начале эпохи, но после 15 тысячелетия до н.э. «украшение» наконечников, гарпунов, особенно выпрямителей стержней в виде куска рога с отверстием, а также копьеметалок становится правилом.
Видимо, с самого начала верхнего палеолита происходит некоторое обособление собирательства и разных видов домашних хозяйственных работ. На поселениях встречаются землекопалки из бивня мамонта, покрытые символическими знаками в виде орнаментальных поясов и частично имеющие заполненную поверхность (Маркина Гора в Костёнках, Костёнки-1, Костёнки-15 и другие).
Возможно, правы те исследователи, которые считают, что в это время возникла дуальная, а может быть, и более усложнённая организация, где нельзя было обойтись без особой стратификации отношений. Прямых
(191/192)
данных для подобного утверждения нет. Однако, если предполагаемое выделение действительно имело место, то переход от заботы о мёртвых сородичах, что наблюдается в ашело-мустьерское время, к заботе о ближайших предках в более чётком и одновременно более абстрактном плане представляется вполне реальным.
Может быть, в это время произошло, наряду с выделением предводителя охотничьих экспедиций, то есть организатора практической жизнедеятельности, осознание значения главной родовой единицы — матери всех кровных родственников. Думается, не ради забавы изготавливали и носили «украшения». Видимо, в это время осознаётся или начинает осознаваться деятельность личности. Ниже мы коснемся роли граветтийских «венер».
Итак, от этих естественно развивающихся представлений — один шаг к представлению «инобытия» в целом, инобытия для живой реальности, инобытия, которое является субъективным отражением главных родовых и производственных связей, инобытия, в котором встречаются прошлое и настоящее. С другой стороны, инобытие, связь прошлого и настоящего, память о предках подразумевают представления о творении жизни, о первых демиургах и круговороте через смерть и возрождение.
Для развития этих представлений не нужны сотни и тысячи лет — это цепная реакция. В своеобразном порождении этих социопсихологических реальностей и заключалось начало мифологического миросознания. Здесь несомненный интерес представляет психологическая характеристика человека верхнего палеолита. И в этом отношении небезынтересна реконструкция формирования у него функциональных систем мозга, определяемых качественно новым уровнем деятельности.
Стратификация отношений, более разнообразный обмен деятельностями должны были привести к бурному процессу номинизации невербальных языковых следов и образов («функционального базиса речи») в левом полушарии мозга. Любопытно отметить, что правое полушарие ответственно за анализ чувственной информации без привлечения вербально-логических кодов. В этой части мозга фиксируются прежде всего конкретные, детальные образы предметной среды в непосредственно воспринимаемом пространстве и времени [Грановская, Березная, 1981: 80-84]. Разумеется, речь идёт только о доминировании тех или иных функций. «Можно допустить, что в процессе преобразования в правом полушарии первичные образы претерпевают последовательные трансформации по пути к формированию схемы» [Грановская, Березная, 1981: 96]. Когда нарушается работа левого полушария, человек рисует целостности очень схематично, примитивно [Грановская, Березная, 1981: 96]. Как тут не вспомнить мустьерцев с их предельно схематичными метками. С отключённым правым полушарием человек рисует более детально, стремится сделать нечто вроде буквальной копии объекта, и вместе с тем теряет пространственную ориентацию; «…левое анализирует и классифицирует те различительные признаки изображения, которые получают названия, и объект может характеризоваться перечислением его признаков (их наименований)» [Грановская, Березная, 1981: 87-88, 96]. Поэтому интерес к деталям, к подробностям формы, который виден в наскальном искусстве уже 29-20 тысяч лет до н.э., и соответственно развитие наблюдательности и навыков в этом плане находятся в прямой за[ви]симости от способности описывать, расчленять, сравнивать, типизировать и вообще объяснять целостное взаимоотношение зримых признаков формы при
(192/193)
помощи универсальных словесных конструкций [Люблинская, 1954: 16; Игнатьев, 1961: 32-35; Ермаш, 1982: 217]. Конечно, при повторении достигнутое умение закреплялось, и в дальнейшем изображения воспроизводились на основе образной и кинетической памяти и не требовали обязательного словесного анализа форм. Здесь мы коснулись только одной стороны проблемы возможности изобразительной деятельности, а именно психолингвистической 1, [1] но существует и другая сторона, связанная с процессом образования коллективных представлений.
^ Возникновение сложных представлений о двух равноправных мирах. Развитие разного рода языковых явлений в конце мустье — начале верхнего палеолита имеет прямое отношение к более сложному распределению деятельности между людьми и расчленению значений и смыслов. Забота об отдалённых во времени нуждах, усложнение в обмене деятельности, увеличение временных разрывов между взаимосвязанными действиями, безусловно, способствовали переводу элементарного планирования «в уме», касающегося практической жизни, на новую более сложную ступень. Всё это вызвало к жизни так называемое «думание про себя» с потенциальной возможностью комбинаций объяснительных, в том числе и общих представлений, с умением связывать ту или иную ситуацию с относительно далёкими во времени и пространстве аналогиями. Представление длинной производственной цепочки становится «свободным». Такое развёртывание мыслей могло осуществляться только в относительно развитой языковой форме.
«Произвольность» в мысли вначале теснейшим образом связана с привычным способом практического примитивно-рецептурного мышления, как бы по аналогии с утилитарной деятельностью по преобразованию вещей. Мысль «копирует» реальные действия. Рецептурность характеризуется последовательностью приёмов в трудовых операциях с выходом к продуктивному результату. Однако на уровне относительно независимых действий «в уме» с самого начала феномен последовательности (теперь уже сложных образов и наглядных связей) порождает воображаемое, иллюзорное, якобы причинное объяснение явлений «по сопричастию» примерно так, как это описал в своё время Л. Леви-Брюль. «Последовательность представлений… является для них (первобытных людей. — А.Ф.) достаточной гарантией того, что предметы связаны между собой и в действительности: говоря точнее, первобытные люди даже не помышляют о том, что эта связь нуждается в какой-нибудь гарантии, проверке» [Леви-Брюль, 1930: 46]. Так мы понимаем первичный механизм неосознанного разъединения реальности и фантазии, открывший путь первобытному фетишизму и магии.
В описанной ситуации у палеолитического человека не было понимания сущности реального и нереального, всё было относительно, тем более что среди так называемого нереального было много реального, и в
(193/194)
этом сказывалась интуиция первобытного человека. В субъективном отношении для первобытного сознания всё находилось в сфере реальных действий и отношений, в связи с чем материальное и идеальное не различалось, хотя и не отождествлялось буквально. На этой основе любое объяснение отношений между необычными для практического сознания явлениями невольно становилось мифом, превращаясь в процессе общения в так называемые коллективные представления. Определённо можно сказать, что уже в начале верхнего палеолита существовало мифологическое объяснение некоторых жизненно важных явлений в человеческом обществе и природе; существовали также обряды и ритуалы, служившие «посредниками» между двумя хорошо распознаваемыми мирами: видимым и скрытым от глаз, существовала и магическая практика. «Предметы» невидимого мира, по представлению первобытного человека, были не менее реальны и действенны, чем видимого. Это подтверждает символика пещерных пространств, намёки на которую существуют в предполагаемой разрисовке сводов в пещере Ферраси, во всеобщности «фигуративных» сюжетов мужских и женских знаков, в их типологическом сходстве в разных регионах мира, например в Ляско и Каповой пещере. К тому же следует вспомнить верхнепалеолитические погребения, в которых можно увидеть заботу о сородичах при переходе в иной мир. И здесь необходимо обратить особое внимание на сопровождающий инвентарь.
Уже в первой половине верхнего палеолита мы встречаемся с развитой вариативностью погребального обряда. Любопытно, что ни в верхнем палеолите, ни в мустье, в могильную яму рядом с умершим никогда не клали пищу (!?). В целом, за исключением этого факта, обряд не претерпел принципиальных изменений на протяжении последующих тысячелетий независимо оттого, на какой территории он осуществлялся. Так, в погребении из ориньякского слоя Грота детей в Гримальди (Италия) были обнаружены скелеты пожилой женщины и молодого мужчины в положении на правом боку; перед захоронением умершие, видимо, были связаны. На черепе мужчины находились раковины, свидетельствующие, скорее всего, об «украшении» головного убора. Из раковин же состоял браслет женщины. В могилу было положено несколько кремнёвых орудий [Елинек, 1982: рис. 162]. Погребение из Костёнок-15 (Городцовская стоянка, около 20-19 тысяч лет до н.э.) представляется нам имитацией упрощённой землянки. В яме, незасыпанной землёй и прикрытой лопаткой мамонта, был похоронен мальчик пяти-шести лет в сопровождении богатого инвентаря, дно ямы посыпано красной охрой. Труп мальчика при захоронении был посажен на специально изготовленное сиденье [Рогачёв, Синицын, 1982: 163].
Умерший на поселении Костёнки-14 (Маркина Гора) был предварительно связан (?) и захоронен без какого-либо инвентаря. Дно могилы было покрыто красной охрой. Связанным (?) был также и погребённый из Костёнок-2 [Борисковский, 1963: 55-59]. Особый интерес представляет погребение на стоянке Сунгирь. Здесь мы видим поразительное богатство сопроводительного инвентаря. Обряд захоронения восстанавливается, по О.Н. Бадеру, в следующем виде. Дно могилы покрывалось поочередно углем, известью и ярко-красной охрой. Затем умершие укладывались в богато «украшенных» одеждах. Одно из интереснейших погребений в Сунгире — захоронение двух подростков, мальчика и девочки, которые прижаты друг к другу теменными частями голов. Покойников сопровождал инвентарь, состоявший из бесполезных в охоте длинных тяжёлых копий,
(194/195)
сделанных из бивня мамонта, браслетов, других предметов, в том числе игл и заколок, а у мальчика — изображения лошади и мамонта [Рогачёв, 1984: 232-233].
Человек верхнего палеолита, естественно, не понимал сущности смерти, но то, что живой и умерший не одно и то же, он осознавал совершенно ясно. Умерший представлялся ему «живым», но особого рода, со скрытой внутренней опасной способностью к действию и силой. По нашему представлению, на таком уровне понимания явлений мифология включилась в отражение природы и общественных отношений, симбиоза человека с животным миром и миром предков. Мы думаем, что здесь небезынтересно коснуться верхнепалеолитического искусства малых форм.
В настоящее время справедливо считается, что роль небольших женских палеолитических статуэток была различной, хотя и связанной единой идеей — «женщины-матери». Реконструкция действий, в которых участвовали скульптурные женские изображения, не может обойтись без воссоздания самих статуэток, какими их видели палеолитические люди.
В 1964 г. М.П. Грязнов опубликовал статью «О так называемых женских статуэтках Трипольской культуры», где, резюмируя сказанное, отметил две особенности: 1) статуэтки изображают нагих женщин; 2) обычно они без рук, ног, а иногда и без головы. С точки зрения М.П. Грязнова, такие особенности не могли быть поняты, если считать статуэтки законченными (!) скульптурными антропоморфными изображениями [Грязнов, 1964: 72-79(78)]. Но всё становилось понятным, если эти статуэтки, своего рода манекены, куклы или болванки, были одеты в одежды и к ним были приделаны руки, ноги и головы. Как мы уже говорили, руки и ноги из мягкого материала обычно пришивались, голова, также из другого материала, или пришивалась, или приделывалась на штифте. Можно предполагать, что аналогичные изобразительно-конструктивные средства, существовали уже в палеолите. В конце мустьерской эпохи встречаются составные изделия, а в позднем палеолите целесообразное соединение разных материалов и форм в единых целостных конструкциях становится всеобщим законом всех сфер материально-созидательной деятельности [Филиппов, 1983: 40-41].
Некоторые палеолитические статуэтки, как мы уже отмечали в главе 4, имеют следы потёртости, окрашенности (находки со стоянок Мальта, Костёнки, Мезин, Межиричи, Дольни Вестонице и других). Несомненно, статуэтки были по какому-либо признаку более приближенными к натуре, видимо, одеты или раскрашены красками, с нарисованными лицами. Если они одевались в одежды, то определённо сопровождались украшениями, возможно из раскрашенного дерева, не исключено, что пришивались руки из мягкого материала. Этнография народов Сибири подсказывает нам, что изобразительную продукцию палеолитических людей мы представляем себе крайне обеднённой, и это естественно: археологический источник имеет свой информационный предел. Однако то, что до нас дошла малая палеолитическая скульптура из «вечных» материалов — камня и кости, косвенно свидетельствует, что различные «куклы», «болванки», «резные изображения» из дерева, коры, кожи и сделанные из необожжённой глины, травы, снега — исчезли бесследно. Более того, есть основания предполагать, что антропоморфные изображения из более стойких материалов на некоторых поселениях намеренно уничтожались. Таким образом, палеолитический человек в сфере своего взаимодействия с природными неодушевлёнными объектами, особенно когда их форма напоминала
(195/196)
живые объекты, не различал «живое» и «неживое». Во всяком случае, не исключено, что изображения человека рассматривались как живые. Поэтому такие изображения могли казаться опасными. «Положение было иным, если ту или иную фигуру изготовляли с заранее намеченной практической целью… Такие изображения также могли оказаться опасными, но человек знал… как надо с ними обращаться и как в случае необходимости от них избавиться» [Иванов, 1970: 282]. На существование подобных опасений уже в палеолите указывает хорошо известное погребение на стоянке Маркина Гора в Костёнках: поза умершего с подтянутыми к груди коленями свидетельствует о том, что в момент захоронения покойник был связан.
У некоторых северных народов со смертью члена семьи изготавливали изображение умершего как вместилище души. Когда, по представлениям данного народа, мёртвый уже не нуждался в помощи родственников или рождался ребёнок — «наследник» души умершего, куклу хоронили или уничтожали [Окладников, 1955; Кулемзин, 1984: 150-151].
Структуру похожих действий, как нам думается, можно усмотреть в некоторых формальных параллелях позднего палеолита. Большинство палеолитических статуэток костёнковско-авдеевского круга можно представить лежащими на спине в позе умершего со склонённой к груди головой и с чуть-чуть оттянутыми по оси тела и соединёнными носками ступнями. Руки обычно сложены на груди или на животе. Впрочем, положение статуэток в обряде не обязательно было горизонтальным. Практически все целые статуэтки этого типа находят захороненными в ямках, а намеренно попорченные, фрагментированные — бессистемно разбросаны на площади стоянок. Думается, «…что женские статуэтки, зачастую изготовленные с большим искусством и любовью, имели для первобытного человека важное значение только до определённого момента выполнения своей миссии в каком-то ритуале. После этого они теряли значение, разбивались, а их крупные куски подходящей формы использовались для других утилитарных целей» [Праслов, 1987: 206; Филиппов, 1953 (?)]. По мнению М.Д. Гвоздовер, в двух случаях со статуэтками в ямах №77 в Авдееве и №123 в Костёнках-1 в каждой наблюдается два разновременных акта, связанных с ритуальным действием [Гвоздовер, 1985: 52-57; Гвоздовер, 1983: 48].
Итак, костёнковско-авдеевские женские статуэтки, видимо, иногда одевались в одежды, лица разрисовывались красками. Они вырезались очень тщательно, что указывает на их большое значение. Хранились они определённое время, и с ними совершали какие-то ритуальные действия (первый акт), а затем их «хоронили» или «уничтожали» (второй акт). Причём «захоронение» происходило, по всей вероятности, без засыпки грунтом всей ямы: статуэтка оказывалась закупоренной как бы в своём маленьком жилище. Этим может объясняться разнообразное положение статуэток в ямках. Наряду с этим существовало и другое отношение к женским изображениям. Так, цельные статуэтки из Мальты, некоторые с вырезанными деталями лица, хотя и были спрятанными, но не были «захороненными» в ямках, и никогда намеренно не разрушались. Представления о «жизни» погребённых составляли миф «инобытия», изоморфно отражающий реальный образ жизни.
Никогда намеренно не разрушались и мезинские статуэтки. Их функции ещё в большей степени остаются пока в области догадок. Интересны они тем, что разделяются по половозрастному типажу и довольно чётко локализуются на стоянке (Рис. 108; см. также рис. 43).
(196/197)
Среди них мы выделяем четыре чётких типа. Кроме второго типа все фигурки орнаментированы. К первому

Рис. 108. Комплексы Мезинского поселения: а — очаги; б — местоположение костей животных и типы статуэток из Мезина.
(Открыть Рис. 108 в новом окне)
относятся удлинённые фигурки со слабовыраженной ягодичной частью; ко второму — фигурки без орнамента, но имеющие более или менее тщательную обработку поверхности, то есть те, которые можно считать законченными [Шовкопляс, 1965: 234, табл. 50]; к третьему относятся все округлые толстые фигурки с женским треугольником, обычно обведённым гравированной линией; пропорции лицевой стороны, как правило, не превышают 1:2; к четвёртому относятся все фигурки с сильно уплощённой надпоясничной частью; нижняя часть имеет чрезвычайно рельефную седалищную сторону с чётко выраженным отгибающимся кверху элементом, на уплощённой передней стороне — женский знак в виде треугольника, в большинстве случаев очерченный двумя параллельными линиями.
Наибольший интерес представляет анализ статуэток первого типа. На рис. 43 показаны только намеренно проведённые линии, некоторые из них усилены.
Линии «д» и «г» оконтуривают (рисуют) существенные детали. В верхней части статуэтки, очевидно, изображено лицо, обрамлённое меховым капюшоном; детали лиц, видимо, рисовались красками (следы краски обнаружены на фигурке 2). Ниже подбородочной части лица фигурки 1 изображён фаллос [Obermaier, 1925: 222], или борода, то есть мы видим в них изображения мужчин 1. [2] Мы не рассматриваем внутреннее заполнение мужских и женских символов в виде свободной штриховки как особый знак выражения жизненных сил, но само сочетание изобразительных и знаковых форм говорит о тесной связи этих двух линий символизации.
Интересно, что группировка статуэток в культурном слое позволяет сделать предположение более широкого плана. Хозяйственно-бытовые комплексы Мезинского местонахождения располагаются цепочкой с северо-запада на юго-восток почти вдоль берега реки Десны. В жилище первого комплекса найдены крайне схематические антропоморфные поделки; на одной из них имеется вырезанный шеврон, который обычно принимается за знак женского пола. Первый и третий типы стилизованных статуэток обнаружены только в жилище третьего комплекса. К сожалению, не удалось установить местонахождение находок, относящихся ко второму типу [Филиппов, 1983: 34-38].
(197/198)
Такая группировка статуэток, как мы считаем, подтверждает нашу типологию с той лишь поправкой, что первый и третий типы по каким-то признакам одновременно образуют общую группу; не исключено, что эта группа и другие типы отражают возрастные различия. Видимо, не случайна у так называемых «птичек» ярко выраженная уплощённость надпоясничной части (молодой тип женщины). На более или менее близкие аналогии указывают Г. Бозински и Г. Фишер. Описав гравированные на сланцевых плитках изображения человека из раскопок в Геннерсдорфе в 1968 г., они выделили пять типов женских образов (силуэтов) по верхней надпоясничной части — от обводки контуром до изображения одной вертикальной линией. В работе среди аналогов они упоминают и мезинские фигурки [Bosinski, Ficher, 1974: 115-125, табл. 72, S1a, 73, S2a, 74, S10a; Абрамова, 1986 (1966): 90].
В своих догадках мы не рискуем идти дальше сказанного, хотя путь поисков может быть связан с гипотезой об отражении в палеолитическом искусстве моделей социальной организации наших далёких предков, в частности, структурных особенностей общины, связанных с разделением по полу и возрасту, с иерархией отношений между поколениями.
К этому следует добавить интересные наблюдения С.Н. Бибикова [Бибиков, 1981]. Жилище №1, по мнению С.Н. Бибикова, было использовано в мезинской общине для «идеологической» деятельности. На полу жилища, кроме небольшого количества костяных проколок, не было производственного инвентаря, технологических отходов, сырья, заготовок орудий. В помещении обнаружены расписанные красной краской кости, в основном мамонта, среди которых особое место занимает атрибутированный С.Н. Бибиковым комплекс ударных музыкальных инструментов: лопатки и челюсти мамонта со следами ударов, «молоток» из рога северного оленя, две колотушки, интерпретируемые иногда как антропоморфные фигурки, «шумящий» браслет [Бибиков, 1981: 46-85]. Против функциональной интерпретации жилища №1 С.Н. Бибиковым имеются серьёзные возражения [Сергин, 1987]. Тем более что раскопки Мезинского поселения были выполнены не на очень высоком уровне. Но если всё же согласиться с его идеей существования помещений, где проходила «идеологическая» деятельность, то, следовательно, во второй половине верхнего палеолита на поселениях открытого типа уже были функционировавшие по мере надобности «центры общественной жизни», где требовался синтез коммуникативно-выразительных средств. Вышесказанное в определённой степени подтверждается наличием более древних святилищ в пещерах. Совершенно ясно, что материальная и духовная деятельность охотничьих общин при определённых условиях не только усложняется, становится более развитой, но и включается во взаимодействие достаточно сложных общественных интересов, которые, видимо, уже в это время были связаны с интересами не только общины, семьи, но и различных социальных групп; в это время, по логике вещей, уже начали проявляться тенденции разных путей развития властно организационных структур общин: от аморфных до временно возникающих авторитарных.
В верхнем палеолите наверняка существовали определённые классификационные единицы объяснения социальных отношений как данности. Хорошо известно, что сложные формы поведения животных, в том числе естественное временное распределение «ролей» достались человеку в наследство. Поэтому в человеческой общности изначально существуют взрослые и дети, женщины и мужчины, слабые и сильные. Эти природные
(198/199)
связи, вовлечённые в социальную сферу, без сомнения, отражались в языковых формах, где впервые происходило разведение значений и смыслов различных вещей и отношений. Так, происходит мысленное выделение объектов, как можно предположить, по бросающимся в глаза признакам, которые мы не всегда бы восприняли как существенные. Их группировка определялась сопричастием целостных предметов или свойств в той или иной типичной группе практических ситуаций. «Предметы, подлежащие отнесению к определенной категории, либо отбираются по практическому принципу “нужности”, либо вводятся в практическую ситуацию, в которой они все соучаствуют (каждый на своём основании)» [Лурия, 1974: 79]. И если в форме и структуре изображений или их комплексов мы хотим увидеть конкретное содержание, то надежд на продуктивность здесь не так много. Слишком большой разрыв в понимании реальности первобытным человеком и современным учёным. Впрочем, когда удается раскрыть неслучайность организации изобразительных ансамблей и реконструировать некие мифологические фрагменты искусства палеолита, то уже это можно считать большим продуктивным выходом. Ведь представления об «ином мире» отражают повседневные реалии. Вольно или невольно оказываются отражёнными или, скажем, должны быть отражёнными социальные структуры, то есть отношения людей, их главные заботы по организации и продолжению жизни. Человек не может жить без осознания связи поколений, без культа предков, без заботы об умерших. Форма же понимания отношений, естественно, связана с определёнными психолингвистическими реальностями.
^ Возникновение первых форм искусства. Существенное усложнение и изменение деятельности человека в начале верхнего палеолита не только открыло двери словесно обусловленной фантазии и обострило «сверхчувственную» область примитивного сознания, но и породило или развило языки другой природы: язык наглядного моделирования, язык звуковых и других конвенциональных сигналов, передающих сведения на большие расстояния, язык жеста, позволявший, не нарушая тишины, руководить действием, или язык мимики, телодвижения, наглядно представляющий события, и, наконец, язык изобразительно-фигуративных и абстрактно-схематических символов. Речь идёт не о знаках (жестах, звуковых сигналах), отнесённых к отдельным ситуациям, действиям и так далее, а о языке, дающем возможность через жест или слово сообщить об объекте или субъекте и о последовательности определённых действий. «Предметно-схемный код» подвергся массовой номинизации. «Ритмические акты, словесные и действенные, интерпретируя одинаковой семантикой одинаковые впечатления действительности, с самого своего возникновения идут параллельными друг другу рядами, как изначальные различия смыслового тождества; нет такого исторического периода, в котором они были бы слиты воедино, как нечто первородное само по себе… Другими словами, и ритм, и движение, и слово [а мы добавим — и изображение на твёрдом материале. — А.Ф.] проходят пути исторического изменения как самостоятельные и параллельные отложения одного и того же смыслового значения» [Фрейденберг, 1936: 134]. Следует обратить внимание на то, что одновременно и параллельно с внеэстетическими языками репрезентации и общения возникали их эстетические аналоги со специфической выразительностью средств и высоким уровнем цельности. А если быть более точным, то все языки (символические формы)
(199/200)
разной материальной природы получили дополнительную эстетическую функцию; и в зависимости от конкретной актуализации, а при необходимости при определённой мотивации они воспринимались как целостно выразительные. Основные формы зависели от конкретной задачи, представления и общения в типичных ситуациях. Пантомима, например, в одних условиях была, по преимуществу, простым сообщением, а в других — сообщением выразительным с высоким уровнем совершенства целостно организованных коммуникативных средств. Обыденный вербальный язык, утилитарно необходимые символы и знаки, а также звуковая и жестовая символизация, помогая осуществлять продуктивную функцию воображения и общения, не могли существовать, например, в комплексе мифологических представлений, да и в обыденной жизнедеятельности без особых выразительных языковых средств воздействия на человека, таких как удивление, восхищение, потрясение, искусство не существовало.
В поисках начала начал искусства всегда встречаешься с рядом вопросов, связанных с эстетической характеристикой самых ранних изображений. Эту проблему в своё время поставил Б.Б. Пиотровский [Пиотровский, 1932]. Вряд ли мы можем сказать, к какому тысячелетию относится вообще первая материальная «запись» эстетического отношения человека к окружающему его миру. Вопрос о такой «первой записи» вообще не может стоять. Совсем недавно считали, что к наиболее древним изображениям относятся схематические фигуры, в частности, из Абри Селлье. Это блок известняка с изображениями вульвы, может быть, антропоморфа без верхней части (?) и головы лошади. Одна фигура частично перекрывает другую, и обе вписываются в изобразительное поле неровной по контуру основы из известняка. Конечно, человек культуры конца XX века, скорее всего, пройдёт мимо такого предмета, и сердце его не дрогнет в приятном созерцании. Он примет изображение в качестве чисто утилитарной информации. Видимо и человек каменного века эстетическую информацию улавливал не всегда. Конечно, хотелось бы понять первоформу этого искусства. Указанная грубая гравюра содержит регулярность и намеренность композиции фигур. В древности это изображение, несомненно, считалось удивительным неординарным символическим событием. То же самое можно сказать об изображении козла в Белькэр, выбитого на блоке с использованием трудоёмкой пикетажной технологии.
Необходимо упомянуть и сравнительно большую (длина 28 см) женскую (?) фигурку из Холенштейна (Юго-Западная Германия), датируемую временем, синхронным французскому ориньяку I-II. Это одна из наиболее древних скульптур в искусстве малых форм. Она сделана из бивня мамонта, фрагментирована, но объёмы, ноги выражены достаточно чётко и совершенно. Вместо человеческого лица вырезана львиная голова. Появление в нижнем ориньяке среди предметов искусства изображений фантастических существ, своеобразных зооантропоморфов ярко подтверждает существование воображаемого «иного мира» и соответствующей обрядовой практики. Чрезвычайно интересна ориньякская статуэтка женщины с поднятой рукой, недавно обнаруженная неподалеку от города Кремса, в нижнем слое стоянки Гальгенберг. Она датируется по стратиграфической аналогии, имеющей радиокарбоновую дату 31790±280 ВР. [Neugebauer-Maresch, 1989, с. 551-559]. Выше уже описаны ориньякские фрагменты камней со следами живописи, в которых предполагаются сложные знаково-символические декоративные структуры на стенах и сводах пещер. Нет никаких оснований исключать эти
(200/201)
предметы из круга рассматриваемых явлений как не несущие какой-либо эстетической информации. На этом фоне уже не так и удивительны открытия гравированных и живописных изображений во французских пещерах Коскер, Шове и Арси-сюр-Кюр. Наиболее древние изображения отнесены к периоду 34-27 тысяч лет тому назад. Говоря о технике нанесения рисунков в пещере Шове, Жан Клотт с полным основанием замечает: «Все наблюдатели отметили естественность изображений и правдоподобие поз. По большей части животных легко можно узнать. Это не стереотипные изображения, которые выполнены для передачи понятия “лев” или “носорог”, но это живые создания, воспроизведённые с большой точностью. Это получилось, благодаря различным приёмам изображения, которыми замечательно владели и которые систематически практиковали авторы рисунков» [Клотт, 2001, с. 26]. И действительно, здесь мы видим, ощущаем, переживаем ту избыточную информацию, по понятиям некоторых учёных, «лишний шум», которая вдруг становится сутью вещей, отражающей во фрагменте голографическую целостность бесконечного мира в гармонично согласованных деталях. Изображения животных, человека, фантастических существ в палеолите — не рисование картин, а творение.
Само восприятие целостных форм (знаков и образов) является процессом: сегодня одни формы кажутся совершенными, а завтра они нам безразличны, так как появляются более совершенные символические изделия того же типа. Поэтому эстетическая оценка меры совершенства, с одной стороны, относительна, так как всегда связана с закодированной в сознание шкалой эталонов выразительности, действующей в культурной среде на каком-то определённом отрезке времени; а с другой — она абсолютна, поскольку существуют постоянные признаки, как бы отчуждённые от высокого мастерства исполнителя и живущие своей жизнью, являющиеся отсветом эстетики мироздания. Они проявляются в фактуре и текстуре материала, строении, пропорциях, ритме, различного рода контрастах, связанных с организацией единства в многообразии. К сожалению, мы вынужденно опускаем, может быть, самую суть эстетических оценок. Это ощущение нюансов при восприятии целостностей, их ауры, выходящей далеко за пределы кажимости. Но такова природа археологических источников с утраченным значением.
«Знаковое» искусство, то есть различное орнаментально-декоративное творчество, подчинено тем же законам целостности. Удивительно, простейший орнамент рождается, если не раньше фигуративного искусства, то, во всяком случае, одновременно с ним. Он вырастает, с одной стороны, из позднемустьерского знакового символизма и необходимости как-то структуировать [структурировать] поверхность предмета и сами знаки; с другой — из схематизации и стилизации деталей конкретно-чувственных объектов.
Некоторые изображения в элементах оформления поверхностей получают своеобразно упорядоченную организацию выразительных средств, где ритм и симметрия несут основную эстетическую нагрузку. Это изображения шерсти в виде ритмических чёрточек (нарезок) или зигзагообразные линии границы между тёмной и светлой частями поверхности на корпусе животного; это очень схематичные ожерелья и браслеты, причёски и одежда у статуэток; наконец, это изображения меховой одежды в форме перекрывающих поверхность шевронов и меандров, полулунных вырезок или точек. В организации поверхности и всей архитектоники изделия участвуют самые различные элементы и мотивы: квадраты,
(201/202)
ромбы, круги, спирали и их сочетания, в которых также можно увидеть стилизацию натуральных объектов. Тем не менее «мустьерский символизм» давно сломал привычную схему формообразования орнамента, который якобы мог возникнуть только на пути от реалистического изображения через редукцию целого (или деталей) к абстрактному образу. Развитие оказалось с самого начала гораздо более сложным, чем это думалось, например А. Брейлю.
Таким образом, первобытное искусство как лучшая в своём роде и, соответственно, лучшая по выразительной форме знаково-символическая деятельность, создающая мир образов, связанных с эмоционально-духовной ориентацией человека в обществе, возникло в самом начале верхнего палеолита. Оно органически слито как с технологией изготовления совершенных вещей, так и с мифопорождением. Его поиски в более раннем времени не привели к успеху, если не считать предметно-архитектоническую форму эстетической деятельности в ашеле ‒ мустье. Подобное заключение можно сделать и в отношении так называемого «натурального» творчества. В верхнем палеолите оно, видимо, существовало наряду с другими символическими формами и имело свою эстетическую сторону или аналог.
^ Мифологические фрагменты искусства палеолита. Итак, мы показали, что хронология ранних памятников искусства, анализ технологий гравюры, лепки, ваяния, рисунка углем и краской свидетельствуют об их практически одновременном возникновении на пороге верхнего палеолита. Родившаяся вместе с вербальным языком мифология в качестве мировоззрения человека того времени составляла главное звено в цепи общих представлений. С ней были связаны посвятительные и календарные обряды, различные поверья и магические способы изменения реалий. Виды искусства как своеобразные языковые явления оформились сразу и вместе с возникновением потребности в их функциональных свойствах в коллективно-обрядовой деятельности.
Е.М. Мелетинский, возможно, прав, утверждая относительно позднее происхождение словесного искусства [Мелетинский, 1972]. Эта точка зрения восходит к идее А.Н. Веселовского о разных формах обрядового синкретизма, в процессе эволюции которого выделяются словесные формулы, переживаемые в эстетическом плане. Основанием для такого вывода вряд ли может служить синкретизм. И хотя естественные языки осознаются очень поздно, их определённое существование в разнообразном, прежде всего эмоциональном общении, должно было порождать в связи с целевыми установками специфические сочетания слов с ритмическими повторами или противопоставлениями. Хорошо известно, что существовали песни и не обрядовой природы, то же самое было и в изобразительной деятельности.
Мы не утверждаем, что в верхнем палеолите обряд и миф составляли абсолютное соединение со всеми сферами жизни. Постоянно существующие семантический и синтаксический аспекты мифа, как и всякого другого сообщаемого представления, связаны с определённым набором средств и правил, со способностью, с одной стороны, нести, а с другой — воспринимать информацию; тогда как эстетический аспект мифологической трансляции определяется другим — чаще всего непроизвольным выбором средств выражения (по качеству условностей выше среднего уровня), когда чётко проявляется их относительное совершенство.
(202/203)
Однако чистого и узко направленного информационного языка в палеолите не существовало. Языковая многозначность, интонированность, экспрессивность рождаются вместе с членораздельным вербальным языком. По существу, одновременно в одном и том же слове возникают смысловые наслоения и оно превращается в исторический феномен. На этом основании А.А. Потебня различает «внутреннюю» и «внешнюю» формы слова [Потебня, 1913: 145-151]. В нём проявляется естественная поэтичность. Можно сказать, что вначале первобытный человек не компонует, ритмически не обыгрывает фразу или изображаемую сцену, осознанно не создаёт симметричных оппозиций, не гипертрофирует лики антропоморфов, намеренно не следит за выразительностью архитектоники образных и абстрактных символов (кроме натуральных вещей?). Поэтическая сторона речи, танца или рисунка в своих истоках абсолютно проницаема. Она как будто не только не замечается, но порождается как вещь и как жизнь. Ну а по сути, объективно мы фиксируем символическую деятельность, которая самоорганизуется, особенно в ритуале, как условно выразительное и совершенное в своём роде общение.
Коллективный обряд генерирует творческую активность, освящает, нормирует, делает устойчиво традиционными производственные и другие функции коллектива. Обрядово-ритуальная деятельность способствует сохранению соционормативных обычаев через общение с мифическим миром, предками и теми силами, от которых зависит целостность и благополучие общины [Путилов, 1980: 91-93]. Так что миф — это не простой пересказ; с ним и с обрядом рождается символическая комплексность, синтез средств, в том числе и магических.
В условиях коллективной обрядности мифологическая реальность, требовавшая чрезвычайной яркости эмоционального восприятия, не могла адекватно восприниматься без концентрации, сгущения чувств и, следовательно, непроизвольно возникающей образной формы эстетического отражения и внушения. Коллективность обрядов и появившаяся целостная система социальных норм с традиционным социальным наследованием, с нашей точки зрения, требовали как визуальной материализации основных идей и объясняющих человеческий мир представлений, так и определённой формы их эстетической выразительности [Филиппов, 1977].
«Чистое “мифологическое мышление” есть некая абстракция, что неудивительно, если мы учтём разнообразные импульсы, идущие от производственной практики и технического опыта в архаических общностях» [Мелетинский, 1976: 167]. «В комплекс знаний, передаваемых в мифах, — пишет Н.А. Бутинов в приложении к “Структурной антропологии” К. Леви-Стросса, — входят помимо географии материальная культура племени, обычаи и обряды, характер отношений с соседними племенами и т.д., и всё это преподносится не в виде абстрактных рассуждений (“надо делать так-то”), что было бы недостаточно авторитетно, а в форме мифа о предках (“предки делали так-то”)» [Бутинов, 1983: 462-463]. Но посмотрим, что говорит об этом О.М. Фрейденберг. А она утверждает, что мифологическое миропонимание, мифотворчество «…первобытного человека непроизвольно; оно не соуживается ни с какой иной познавательной системой». Казалось бы, трудно с этим не согласиться, ибо «…неверно, что существовали мифы сами по себе, только в одной области — в области воображения, а в другой — практический человек трезво осознавал опыт и житейские акты, ел ради утоления голода, женился ради семьи и потомства, защищался от холода одеждой и выбирал правителей для охраны своих
(203/204)
интересов» [Фрейденберг, 1978: 28]. Конечно, жёсткое тотальное объединение всего и вся под эгидой мифологического созерцания — явная абсолютизация идеи мифотворчества и обеднение многообразия форм деятельности. При господстве мифологического мироощущения, где-то на границе между ним и реальностью непроизвольно оставались временные островки иных видов отношений и стихийно возникающих познавательных процессов. Но, в принципе, О.М. Фрейденберг права.
Здесь мы встречаемся с одной очень важной проблемой, и обойти её или оставить без внимания никак нельзя. Для нас несомненно, что языки разной материальной природы при своём рождении получают комплекс функциональных свойств, в том числе и эстетических. Однако существует устойчивая традиция, с одной стороны, противопоставлять миф и поэзию, миф и искусство, с другой — чуть ли не отождествлять их. И главное заключается в том, что для архаического сознания мифические персонажи, как бы фантастично они ни выглядели, представляют собой не меньшую реальность, чем окружающие человека природные реалии в своих обычных казуальных связях.
Можно задаться вопросом, какое же может быть искусство, если представление принимается за реальность, если в мифе словосочетание, кажущееся сейчас нам метафорой, на самом деле метафорой не являлось. К тому же сами изображения, вылепленные или нарисованные, для первобытного человека не условности, не символы, не типажи, а реальные живые персонажи. Правда, персонажи особые, непроизвольно обобщённые до символа. Миф не несёт в обычном пересказе никакой эстетической информации. Миф является языком, но более высокого порядка, образуя вторичную моделирующую семиотическую систему со своей, как пишет К. Леви-Стросс, неумолимой логикой [Леви-Стросс, 1983: 187, 20]. И тем не менее, миф метафоричен в словах, вещах, описанных поступках, и мы не можем его, как и всю человеческую деятельность, лишить качеств цельности, выразительности, словесной или изобразительной «архитектоники». У нас нет оснований придумывать для вербального языка особую стадию, на которой возникла такая форма, как метафора. В простейшем виде метафора появилась внутри вербального языка и вместе с ним в сменяющемся разнообразии его функций.
Вопросы об отношении первобытного человека к своей деятельности-общению, к воздействию на слушателя и зрителя, к формам убеждения требуют более объективного подхода и конкретизации на определённом фактическом материале. Нам следует обратиться к изобразительным структурам, произвольным целостным комплексам наскального и другого искусства, различного рода приёмам и условным формам, которые не могли оставаться неосознанными, например в плане мастерства. Именно в этом плане отмеченная А. Брейлем, А. Леруа-Гураном и А. Ляминь-Амперер связь искусства с топографией пещер имеет исключительное значение.
Указанная связь топографии пещеры с изображениями хорошо наблюдается в наскальном искусстве франко-кантабрийского района. Новые важные наблюдения в этом отношении сделаны К. Барьером, М. Лорбланше, Д. Виалю и другими. И если в Каповой пещере такая связь не очень чётко прослеживается, то в пещерах Ляско, Руффиньяк, Труа Фрэр, Портель, Нио, Фон де Гом она достаточно ясна и, несомненно, играла важную организующую роль. Французы удачно называют наиболее глубокие участки той или иной пещеры и различные провалы и колодцы «преисподней»,
(204/205)

Рис. 109. Символика в виде «лент» и шалашеобразных фигур:
1 — Гаргас; 2, 3 — Ляско; 4 — Романелли.
(Открыть Рис. 109 в новом окне)
или «подноготной». Подчеркнём ещё раз: колодцы Ляско, Руффиньяка и некоторых других пещер в смысловом отношении, безусловно, связаны с ближайшими группами изображений. Не исключено, что существовала и более широкая связь символической деятельности человека с пещерой в целом. В исключительных случаях это можно как-то проследить. Достаточно вспомнить уже представленную нами сравнительно небольшую Абсиду пещеры Ляско: огромное количество животных, в том числе массу, казалось бы, беспорядочных переслоений. Однако это не так: порядок движения — к колодцу и от него — всё же хорошо улавливается. Плотность фигур и знаков не идёт ни в какое сравнение с остальными частями пещеры. В Абсиде наблюдается искажение пропорций фигур и намеренный показ мечущихся животных.
Среди этого спрессованного нагромождения фигур животных имеется множество знаков стрел, гарпунов, решеток, но только в Абсиде отмечены удивительные «знаки-шалаши» (Рис. 109, 2, 3). В своё время А. Брейль в некоторых из них увидел изображение колдунов [Breuil, 1952: 130, 146; Leroi-Gourhan etc., 1979: 245, 280]. В одном случае чётко нарисованная лапа хищника — льва или медведя — зафиксирована виднеющейся из-под такого знака (Рис. 109, 3). В шестой главе мы достаточно подробно останавливались на организации изобразительных комплексов в пещерах.
Здесь остаётся только кратко повторить некоторые факты и выводы. Знаки в виде шалашей можно интерпретировать иначе, чем А. Брейль, а именно: как бьющие из скалы фонтаны воды. Короче говоря, здесь остаётся большой простор для фантазии. Сюда же следует отнести и лентообразные знаки, которые также имеются в пещерах Гаргас, Парпальо и других (Рис. 109, 1-4). К ним можно причислить многие пальцевые меандры, так называемые «макароны», которые А. Брейль предлагал считать первой формой проявления изобразительной деятельности. Интерпретация различных верхнепалеолитических знаков — зигзагов, меандров, изогнутых лент как символов воды — наиболее обстоятельно проведена А. Маршаком [Marshack, 1976]. Наиболее ранним таким символом он считает гравированную гирлянду на ребре быка из ашельского слоя пещеры Пеш-дель-Азе. Тонкие штрихи, по мнению А. Маршака, символизировали дождь, а зигзаг — реку или поток, которые могли представлять также течение других процессов [Marshack, 1976: 314].
Плафон Абсиды Ляско продолжает панно северной стены с изображением большого благородного оленя. На нем просматриваются два полных
(205/206)
силуэта лошадей и северный олень (?). Эти отчётливо выполненные фигуры расположены по краю плафона, и их композиция напоминает спиралевидную. В хаосе линий центральной части можно рассмотреть рога быков, детали других животных. Все животные плафона в той или иной степени связаны с лентообразными, пересекающими друг друга знаками. «Вода… это стихия нижнего мира» [Традиционное мировоззрение… 1988: 23].
Изображения в Абсиде, может быть, представляют собой соединение всеобщих элементов: земли и воды, а может быть, земли и неба, сквозь которые должны пройти определённые живые существа. По структуре Апсида со своими изображениями, с существующей плотностью заполнения зрительного пространства вполне могла быть в воображении палеочеловека «утробой» другого мира. Что касается воды, то она, обладая бесструктурностью, мифологична как бы по своей природе, она «первоначало, исходное состояние всего сущего, эквивалент первобытного хаоса… вода — это среда, агент и принцип всеобщего значения и порождения. В роли женского начала вода выступает как аналог материнского лона и чрева…» [Аверинцев, 1980: 240 (МНМ)]. Кстати, в других пещерах мы нередко встречаемся с изображением рыб, вероятно, символов водной среды. Не исключено, что иногда рыба — конкретный мифологический персонаж. Изображения рыб обнаружены во Франции и Испании, в пещерах Горж д’Анфер, Пеш-Мерль, Пиндаль, Казарес, Пилета. Видимо, к этому же ряду можно отнести и некоторые предметы из искуссива [искусства] малых форм. Наиболее ярким примером может служить костяная пластина из Лорте, на которой изображены олени среди лососей, символизирующих водную стихию.
Однако вернёмся к разбору неординарных изображений к пещере Ляско. Животные на каждой стороне Абсиды в основном организованы в два встречных потока — к колодцу и от него. Колодец, расположенный в начале широкой вертикальной расщелины сразу же у края западной части Абсиды, несомненно, выделялся по своему значению. Колодец и носорог могли бы символизировать «нижний мир». На важность этого опасного для человека места указывает то, что на дне — а глубина его шесть метров — обнаружено несколько орнаментированных костяных наконечников копий, просверленные раковины, пятнадцать жировых ламп из плакеток, фрагменты красящих веществ, каменные вкладыши.
Теперь приведём некоторые наблюдения А. Ляминь-Амперер. В Зале быков, Осевом тупике и Нефе среди животных разного вида преобладают группировки по пять животных одного вида. Они одинакового размера, но разного пола. В Зале быков — группы по пять животных: больших быков, маленьких лошадей и маленьких оленей. Это главные виды животных в пещере. В Осевой галерее в целом насчитывается пять больших коров; под одной из них на правой стене — пять маленьких лошадей. В Нефе на панно с бизоном также представлены пять маленьких лошадей. А. Ляминь-Амперер затрудняется в определении смысла числа «пять», хотя отмечает, что на стенах над сценами с цельными изображениями животных часто изображаются и другие в виде головы с шеей. Кроме того, огромные изображения, как правило, находятся в центре — у их подножия обычно животные маленького размера. А. Ляминь-Амперер склонна интерпретировать все эти наглядные связи как различия социальных структур, имеющих отношение к разным поколениям. Все изображенные звери могли обозначать предков: монументальные животные — взрослых членов групп, а маленькие — потомков [Laming-Emperaire, 1970: 209-211].
(206/207)
Мы не будем далее следовать за реконструкцией связей между различными животными по виду и полу, отметим только основную идею — это связь между поколениями и патрилинейной и матрилинейной филиациями. Так А. Ляминь-Амперер чуть-чуть приоткрывает завесу над тайной наскального искусства. Вероятно, следует вспомнить аналогичные группировки по видам в пещерах Руффиньяк, Труа Фрэр. Правда, существуют и другие мнения. Б.А. Фролов, анализируя различные ритмические нарезки из верхнепалеолитических коллекций европейской и азиатской частей России, из общего круга встречаемости их количественных рядов выделяет общий комплекс: 5, 7, 10, 14. Цифры 10 и 14 — кратные пяти и семи. Это характерно для Костёнок-1 (48%), Авдеева (42%), Мезина (48%). Он связывает ритмы насечек и нарезок со счётными операциями: 5 и 10 — с соотнесением неких объектов с пальцами рук и ног, а 7 и 14 — с фазами лунного диска и, соответственно, с ориентацией человека во времени [Фролов, 1974, с. 67, 122]. Как в своё время писал Л.Я. Штернберг, смена фаз Луны «…вызывает представление о том, что каждый месяц Луна умирает и потом опять воскресает. Совпадение этих фаз с целым рядом геофизических и физиологических явлений… очень рано должно было обращать внимание примитивного человека на это светило и создало целый ряд мифологических представлений о Луне, гораздо более многочисленных, чем относительно Солнца… С фазами Луны, именно с нарастанием месяца в новолуние, связывают не только рост растений, но и рост скота и даже рост и здоровье детей…» [Штернберг, 1936, с. 504].
Топографическая организация изобразительных комплексов Ляско с дублированием пространственных структур, с повторением тем, с намеренным соединением изображений животных и знаков позволяет более уверенно говорить, с одной стороны, о целостном характере сложной символики, в том числе об эстетико-информационной функции искусства, ас другой — о сложности содержательного основания, связанного не с примитивной магией или так называемыми тренировками перед охотой (оставим эти наивные теории), а с удивительно развитыми мифологическими представлениями. В настоящее время это утверждает всё большее число исследователей искусства палеолита. Не будучи всегда последовательным, А. Леруа-Гуран писал, что качество фигур, постоянство стиля заставляют придерживаться мифологической модели, в которой сами художники играли роль посредников между мирами [Leroi-Gourhan, 1984, с. 195].
Анализ связи топографических структур и изобразительных композиций в других пещерах, в частности Труа Фрэр, только подтверждает сделанный нами вывод. Замечательная, на наш взгляд, спиралевидная структура расположения ряда панно в Святилище Труа Фрэр, когда от одного к другому зритель двигается, поднимаясь всё ближе и ближе к Рогатому богу, когда повторяются отдельные персонажи, в том числе зооантропоморфы, когда отмеченность фигур определёнными знаками маркирует группы, не оставляет сомнений в намеренности изобразительных структур в целом и их связанности с топографией пещеры (в заходящем к зооантропоморфу тупике имеется трудный лаз, ведущий в основную галерею и к неподалеку находящемуся провалу).
Знаки, несомненно, образуют тесное единство с фигурами животных. Часть животных поражена остроугольными знаками, вероятно, знаками стрел или дротиков; из ран, видимо, течёт кровь в виде веерообразных лучей-линий. Не исключено, что упомянутый нами выше высунутый язык у некоторых животных — знак умершего животного, но для человека с мифологическим
(207/208)
сознанием — живого, но по-иному, в ином мире и ином измерении. Это знак иного мира. В Труа Фрэр этот иной мир организован вокруг зооантропоморфа — Рогатого бога, может быть, хтонического хозяина «умерших» животных-людей различных кланов. В настенных панно Святилища есть и антропоморфные личины, которые можно объяснить тоже в плане своеобразного «инобытия». Среди животных показано определённое разнообразие, есть животные с ранами, есть с высунутыми языками, есть цельные, нетронутые стрелами, есть хищники, на некоторых панно животные сгруппированы по видам. Но здесь нет одного — упрощённого магического колдовства. Животный мир проявляется на стенах: всё рождается из земли и уходит в неё.
В Святилище Труа Фрэр наблюдается пусть очень примитивная, но всё же система — миф о потусторонней реальности в понимании человека верхнего палеолита. В связи с этим и структура символических средств вынужденно модифицирует и усложняется. Например, тематика Святилища в определённой степени повторяется в панно с так называемыми колдунами. Возникает своеобразная тема человека-зверя, «минотавра» в пещерном лабиринте. Появляются специфические клише поз животных и их сцеплений, намеренных переслоений по определённым правилам.
Изображения определенных поз: животное скачет во весь опор или пасётся, отдыхает, оглядывается, обнюхивает и так далее — не столько натурные наблюдения, сколько символы более общего состояния естественности или направленности. Они неслучайны. Позы показывают иной мир таким, каким он представлялся самому человеку. Рядом же мы можем наблюдать сцепления фигур, противопоставления и сложные переплетения. Особенно ярко и в чистой форме эти сцепления проявились в наскальных фигурах животных пещеры Фон де Гом. Более сложные и запутанные переслоения также не являются в полной мере случайными. Переслоения животных, принадлежащие к одному стилю, по мнению А. Леруа-Гурана, делались намеренно. Действительно, это особый язык, лучше сохранившийся в отдельных гротах с наиболее полной ситуацией. В других мы имеем очень фрагментарный контекст.
Интересно то, что в некоторых памятниках, например в пещере Руффиньяк, практически нет или очень мало переслоений. Однако в ней существует чёткая связь изображений и топографии пещеры. Большой плафон (над колодцем) с петельчатой структурой композиции, да и все изображения пещеры, организованы определённым образом. В частности, К. Барьер пишет, что изображения Руффиньяка организованны, начиная от центра пещеры, где расположен Большой плафон, с развитием связей на основе топографических и тематических (по видам животных) возвратов вдоль галерей; число и бесспорная ясность тем, фризовые изображения, сцепления, противопоставления приводят к объяснениям более сложного порядка, чем принято думать. Кажется, что вся мифология изображена на стенах этой необъятной пещеры [Barrière, 1984: 204-207].
Характеристика изображений Большого плафона, вполне согласующаяся с идеей А. Ляминь-Амперер об отражении социальных структур, полностью вписывается в систему наших представлений о мифологической реальности в верхнем палеолите. Изображения Большого плафона пещеры Руффиньяк не сопровождаются знаками, особенно такими, как раны и стрелы. Животные, как и в Ляско или в Труа Фрэр, группируются по видам. Переслоения — исключение из правил. Кстати, в пещере Нио также мало переслоений и тоже в потаённой части Чёрного салона имеется
(208/209)
антропоморф. Правда, он настолько неясно выражен (или настолько плохо сохранился), что антропоморфность изображения можно поставить под сомнение. Таким образом, предположение, что на Большом плафоне пещеры Руффиньяк петельчатая композиция животных вокруг единого центра символизирует некие родственные и возможно территориальные отношения людей по вертикали и горизонтали с мифологией инобытия. Такое истолкование действительно будет не лишено определённого смысла.
Особое положение занимает Большой плафон пещеры Альтамира. Замечательное равновесие масс организует симметрию композиции. Мы уже отметили некое подобие сюжета с нападающими на бизонов кабанами, лошадью и ланью. Конечно, серьёзно говорить о раскрытии конкретного содержания мифологического сюжета не приходится. Однако условно бизонов можно разделить на женскую и мужскую половины (См. рис. 93). Правая половина, как предполагается, состоит из лежащих, бьющихся в родовых муках самок-бизонов грацильного типа. Вверху, у оси симметрии, находится огромная голова бизона-вепря (?). Что это — рождение бизоньего племени или показ половозрастной социальной структуры общины? Эти вопросы напрашиваются сами собой. Все фигуры Большого плафона настолько близки друг к другу по манере и стилю изображения, что есть полное основание рассматривать комплекс в качестве целостной «картины», единого изображения какого-то мифологического эпизода.
Совершенно уникальный материал по палеолитической мифологии даёт навес Англь-сюр-Англен. Отношение «женщина — зверь» тянется, как пишет А. Ляминь-Амперер, от Ля Ферраси через женщину с бизоньим рогом в руке из Лосселя до Англь-сюр-Англен и Ля Магделен [Laming-Emperaire, 1962: 212, 229]. Но в Англь-сюр-Англен очень ярко высвечивается и другая проблема — проблема осознания формальных средств. Животные изображены на свободном пространстве стены с расчётом их полного размещения. Во фризе наблюдается мастерство такого уровня, что приходится только удивляться. Так, в центральной барельефной группе изображён бизон, за ним находится женский барельеф и уже за барельефом женщины ещё бизон. И это не переслоение, когда более позднее изображение частично портит предыдущее. Решение такой технически сложной задачи полностью исключает неумение в размещении фигур. Вместе с тем три женских торса состоят только из центральных частей, главным образом — живота и бёдер, частично ног. Верхние части как бы вросли в свод навеса, а ноги в пол. Фигуры оказались почти внутри скалы, в другом мире, в другой среде [Laming-Emperaire, 1962: 227]. При этом заметим, что животные изображены полностью.
Здесь не требуется дополнительных доводов в пользу того, что мы видим специально придуманный приём, где участвуют и барельефные изображения, и сама скала. Это единый, но раздвоенный мир. Так или иначе, видимо, мифология «Инобытия», в целом ряде случаев непосредственно связанная с культом первопредков, присутствует в Англь-сюр-Англен и во многих других комплексах пещерного искусства, например в святилищах Нио или Труа Фрэр. Изображения человека, зооантропоморфов и разного рода фантомов не так уж и редки.
В гроте Ля Магделен изобразительные комплексы на противоположных стенах чётко разделены по позам и экспрессии: спокойный — на северной стене и динамичный — на южной. На обеих стенах мы наблюдаем явно один и тот же женский персонаж в разных ситуациях по отношению к мифологическому зверю. Заметим, что комплекс на южной стене имеет
(209/210)
ярко выраженную сексуальную окраску. Скорее всего, этот комплекс представляет какой-то важный, очень конкретный миф, возможно, связанный с историей палеолитического «минотавра». В пещере Труа Фрэр такой протоминотавр существует как персонаж среди изображений Святилища. Впрочем, здесь возможны и другие толкования. Это может быть миф о всеобщем родстве человека и животных или об умирающей и воскресающей природе, когда люди и животные качественно не различаются друг от друга. В своё время, А. Ляминь-Амперер сказала, что женские фигуры в Англь-сюр-Англен, начинаясь от свода с талии, а от пола пещеры с колен, как бы рождались из скалы [Laming-Amperair, 1962, с. 227]. Мы поддержали эту идею в более широком контексте. И теперь эта идея подтверждается новыми открытиями. Ж. Клотт пишет об использовании трещин, впадин и рельефов на стенах пещеры Шове. В различных гротах, по его наблюдениям, некоторые животные были написаны или выгравированы специально около ниш; впадин, трещин и других рельефных частей стен с осознанным намерением передать впечатление, что животное выходит из стены [Clottes, 1997. С. 28]. «Образ подземного мира как лабиринта, как обители мёртвых, откуда их могут вызвать к жизни лишь продуцирующие обряды, связанные в глубокой древности с обрядами инициации, доминировал в этой системе символов. И восходила эта система к древнейшим святилищам человечества, пещерам мустьерской эпохи, где покоились черепа и кости убитых на охоте <…> животных, где совершались обряды возвращения их к жизни, а наряду с этим и обряды инициации, в основе которых лежала та же идея Смерти и Возрождения к новой жизни» [Кабо, 1991, с. 51].
^ Подведём некоторые итоги. Композиционные и другие единства хорошо наблюдаются во многих комплексах. Упростим определение применительно к нашей теме. Поскольку под композицией мы понимаем организацию фигуративных и абстрактно-знаковых изображений в целостное единство в ограниченном изобразительном поле, то следует констатировать, что в наскальном искусстве верхнего палеолита композиция в нашем современном понимании, как правило, отсутствует. Она всегда выходит за границу определённых рамок, и мы, по существу, не найдём ни одного панно-картины, хотя элементы различного рода составленных целостностей прослеживаются достаточно ясно. А. Леруа-Гуран обосновывал понятие композиции в верхнепалеолитическом изобразительном искусстве через протяжённость «поля вытянутой руки» мастера. Это изолированное изображение, а также изображения, расположенные рядом или перекрывающие хотя бы частично друг друга в «ручном поле». Нам думается, что этот принцип всегда действовал там, где трудно или невозможно было отойти от изобразительной поверхности. Однако «ручное изобразительное поле» с радиусом 50 см обосновывается ещё и тем, что около 80% настенных фигур имеют размеры 40-100 см [Brezillon, 1984, с. 745].
В определённом плане мы можем говорить о композиционном заполнении свободного изобразительного поля. Это и некоторые панно Чёрного салона пещеры Нио, и Большой плафон Альтамиры, и фриз Зала быков в Ляско. Палеолитические «шаманы» были великими мастерами. Они знали ракурсную перспективу, в определённых случаях могли суммарно изображать стадо, например, в гравюре двух табунов лошадей на каменной плакетке из грота Шаффо или в гравюре стада оленей из грота Тейжа, или изображение носорогов в пещере Шове, хотя носороги ведут одиночный образ
(210/211)

Рис. 110.
Мастерство верхнепалеолитического человека в изображении естественных групп животных и человека:
1 — стадо оленей, выгравированное на кости из грота Тейжа; 2 — стадо оленей, выгравированное на камне из Лимейля; 3 — два табуна лошадей, выгравированные на камне из грота Шаффо; 4 — табун лошадей, выгравированный на камне из Лимейля; 5 — носороги из пещеры Шове.
(Открыть Рис. 110 в новом окне)
жизни. Последнее доказывает, что в пещере изображены общественные виды живых существ, а именно — коллективы людей. В Лимейле есть прекрасная гравюра стада оленей с их характерными силуэтами и непосредственными позами, причём фигуры вполне естественно изображаются в пространстве (Рис. 110).
В большинстве же случаев мастер представлял сюжет как сумму рядоположенных символических фигур-персонажей. Нередко встречаются пары фигур, симметрично изображённые головами друг к другу или переслоенные. Чаще всего переслоения относятся ко времени создания комплекса. Это изобразительный язык, состоящий из неких символических формул, иногда прямой показ одной фигуры за или перед другой. В отдельных панно, как правило, мы не видим действия, хотя наблюдается общее движение в глубину пещеры и из неё. Сюжет не полон. Мы предполагаем, что он дополняется в обрядовом синтезе рассказом. Помимо этого, нами показано, что изображения в пещерах франко-кантабрийского региона организованы в определённые наглядные целостности: таковы Большой плафон пещеры Альтамира, Чёрный фриз в Пеш-Мерль, Большой плафон из пещеры Руффиньяк, а также комплексы изображений в пещерах Труа Фрэр, Фон де Гом и Ляско. Это искусство даёт убедительные примеры организации монументальных ансамблей, теснейшим образом связанных с определёнными частями пещер (с провалом, колодцем, изолированным залом или галереей). Именно в них наблюдается наиболее интенсивная изобразительная деятельность человека. Структурно замкнутые или открытые комплексы с изображением фигур животных, зоо- и антропоморфов во второй половине верхнего палеолита нередко представлены в виде акцентов и их повторов. Комплексы изображений в пещере-символе, трактуемой, по нашему представлению, как «иной мир», очень часто имеют линейную, концентрическую и спиралевидную внешнюю структуру.
Наряду с этим следует отметить и тот факт, что в пещерном изобразительном искусстве встречаются совершенно изолированные и даже «тайные» изображения, как бы не рассчитанные на визуальный эффект. Это наводит на мысль о том, что в функциональном отношении обрядовая деятельность вместе с языком искусства имела более широкую сферу
(211/212)
приложения, чем это определялось мифологическими представлениями. И если мы говорим, что так или иначе все обряды, ритуальные действия прямо или косвенно существовали под эгидой первобытной мифологии с известной формулой «так делали и так велели предки», то это вовсе не означает, что первобытное искусство замыкается только на мифе. Эстетизация языковых явлений, фигуративных изображений связана с необходимостью организации и сохранения целостности индивида в информационно-усложнённой системе «деятельность — общение». Она, чаще бессознательно, связана с эмоционально-духовной ориентацией человека в природно-социальной среде. И главное, здесь было совершенное владение языковым материалом, если понимать его очень широко. Непроизвольная эстетизация символики есть часть всеобщей эстетической функции. Эта функция в конкретной реальности никогда не принадлежит сама себе. Удивительно, но именно здесь отправная точка переживания своего творчества в любой человеческой деятельности, как свободы над преобразуемым косным материалом. Конечно, в палеолите не было театра, осознаваемого в качестве эстетической деятельности, но, видимо, были обусловленные мифологическим, чисто информационным содержанием выразительные «театрализованные представления», не было поэзии как таковой, но, вероятно, были песни и пляски: во всяком случае, костяные флейты в это время уже существовали. Не исключено, что бытовали и развлекательные жанры.
Многочисленные комплексы ископаемого искусства с удивительным миром образов свидетельствуют о большой сложности и многообразии духовной жизни людей верхнего палеолита. «Человек живет отныне не только в физической, но и в символической вселенной. Язык, миф, искусство и религия являются частями этой вселенной, различными нитями, из которых сплетается символическая сеть, сложная паутина человеческого опыта» [Кассирер, 1990: 96]. Более того, с самого начала человеческий опыт в целом несёт на себе отблеск вселенского порождения гармонии из хаоса.
[1] 1 Разумеется, мы можем допустить несловесную «непосредственно образную» репрезентацию и передачу представлений от человека к человеку, хотя необходимо предположить неизвестные нам носители и формы образного кодирования. Думается, что представление реальности и коммуникативные процессы, осуществляемые при помощи вербального языка в верхнем палеолите, вначале резко активизировали «непосредственно образную» целостную форму передачи представлений и эмоций. Но здесь надо добавить: такая форма к изобразительной деятельности прямого отношения не имеет.
[2] 1 В палеолитическом искусстве Франции и Испании количество мужских статуэток по отношению к женским примерно соответствует пропорции 1:2. Гораздо больший количественный разрыв наблюдается в памятниках Евразии [Абрамова, 1972: 12-13]. М.Д. Гвоздовер, характеризуя одну из авдеевских статуэток как мужскую, справедливо замечает, что в скором времени количество определений «мужчин» среди человеческих скульптурных изображений возрастёт [Гвоздовер, 1977: 79-80].
наверх
|