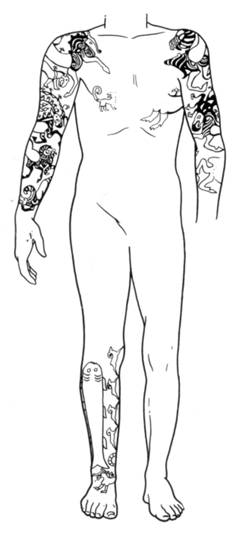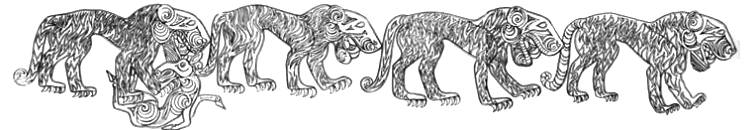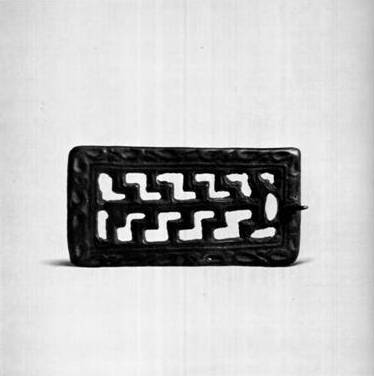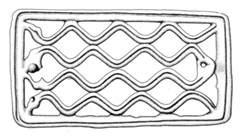|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Золотой олень. Чиликтинский курган.(Открыть в новом окне) |
2Золотой орёл. Чиликтинский курган.(Открыть в новом окне) |
до н.э.). [1] Здесь перед нами предстаёт обильное собрание войлочных, деревянных и кожаных изделий, дополняющих предметы из металла. И всё это украшено фигурами баранов, кабанов, оленей, горных козлов, тигров, барсов, степных кошек, зайцев, гусей, лебедей, орлов, пеликанов, тетеревов, фантастических животных и т.п. В Алтайских курганах найдены изделия с типичными для искусства кочевников Евразии эпохи раннего железного века сценами борьбы хищников или нападения хищника на копытного. В них много общего с искусством Переднего Востока и Ирана. [2]
Эти связи были и у западных кочевников — скифов и сарматов, у племен Алтая и более отдалённых районов Сибири. [3] Популярность изображений с борьбой животных и терзаниями травоядных хищниками у кочевников «Великого пояса степей» объясняется не только влиянием Переднего и Среднего Востока или каких-либо других стран, но и тем, и главным образом тем, что эти композиции, их экспрессия, их своеобразная динамика находили глубокие отзвуки в сознании кочевых племён эпохи варварской военной демократии. [4] Львица терзает горного козла — изображение на серебряной пластине; барс нападает на оленя, тигр на горного барана, лось, терзаемый огромным грифом, орлиный грифон борется с львиным грифоном — композиции на седельных покрышках [5] и множество других сцен, выполненных в кочевническом «зверином стиле», можем мы наблюдать на вещах из богатых погребений алтайских вождей в Пазырыкских курганах.
Чрезвычайно выразительны изображения рогатых существ с человеческими лицами, звериными ушами, мощными когтистыми лапами, трёхпалыми руками, с загнутым вниз хвостом и с длинными крыльями. Этот образ был также заимствован в искусстве Переднего Востока. Много раз повторена сцена с сидящей у дерева богиней и подъезжающим к ней всадником — таковы многокрасочные аппликации из войлока на знаменитом Пазырыкском ковре. [6]
Алтайское искусство «звериного стиля» предстает перед нами как варварское искусство чрезвычайно пёстрых изделий, в которых мастера часто совмещали все известные им художественные и технические приёмы. В одном и том же комплексе мы
3
Золотая пантера.
Келермесский курган.
(Открыть в новом окне)
найдём и вырезанные из кожи графически выразительные силуэты, и золотые листки, вставленные для украшения фигур зверей, и раскрашенные краской кожаные подвески с цветными прядями конских волос, и резные подвески из дерева и т.п. При этом во всём господствует безусловное единство стиля, чуждое какой бы то ни было эклектики, хотя многие элементы этого искусства композиции и сюжеты были заимствованными.
В Южной Сибири — Минусинской котловине, Туве, Забайкалье и других районах —археологические раскопки дают всё больше и больше изделий «звериного стиля» I тысячелетия до н.э. Такого рода вещи давно известны по замечательной коллекции золотых блях, собранных из разрушенных сарматских западносибирских и сибирских погребений середины — конца I тысячелетия до н.э., известной под названием Сибирской коллекции Петра I. [7] На этих бляхах как бы оживает богатый животный мир сибирских рек, лесов и степей. Рыбы, змеи, утки, лебеди, орлы и соколы, ежи, олени, лоси, косули, лани, горные бараны, волки, барсы, тигры, львы, лошади, бараны, яки, верблюды чередуются с львиными и орлиными грифонами и другими сказочными чудовищами: то это животные с телом ящерицы и головой козла, то это лев с оленьими рогами, волки с кабаньими носами и клыками или с ушами в виде грифоньих голов — явления «зооморфных превращений», которые столь характерны для скифо-сибирского «звериного стиля». Как бы вырастают из концов массивных витых золотых браслетов и шейных гривен фигурки фантастических и реальных зверей.
Как и на алтайских древних вещах, здесь богато представлены сцены терзаний и борьбы зверей и чудовищ: нападение грифа на яка и тигра, оспаривающего у грифа эту добычу, змеи на волка, тигра на коня, борьба тигра и двугорбого верблюда, изображённая на фоне дерева, [8] и т.п.
Изделия, выполненные в «зверином стиле», встречаются в погребениях тагарской культуры (VII-III вв. до н.э.) — в частности, они представлены находками из Минусинской котловины, в уюкской культуре в Туве, в памятниках раннего железного века в Монголии и Забайкалье. Перед нами и здесь возникают олени с ветвистыми рогами в традиционной позе с поджатыми ногами. Десятки вещей из тагарских и уюкских курганов украшены фигурками баранов и козлов, встречаются здесь и круглые бляхи в виде свернувшегося хищника. Кроме отдельных диких и домашних животных, птиц и фантастических зверей мы увидим в Туве и композиции из нескольких фигур, например: кошачий хищник грызёт голову косули. Плоские фигурки лежащей лошади, архаров, баранов, джейранов, тигров, косуль, птиц с распластанными крыльями соседствуют с объёмными фигурками — такими, как навершие булавки в виде стоящего козла, склёпанного из золотых пластин. [9]
Во всех вещах, в каждом выступе предмета, в обушке клевца, навершии ножа, венчике котла, рукоятке гребня — везде как бы таится зооморфное начало, готовое в любой момент, повинуясь малейшему желанию мастера, выглянуть на свет. Предмет как бы «прорастает» фигурками животных, их головками, ногами, ушами, глазами, копытами, рогами...
Хорошие образцы изделий, выполненные в «зверином стиле», дал богатый Чиликтинский курган близ Семипалатинска (рубеж VII и VI вв. до н.э.). Здесь были найдены золотые бляшки, представлявшие собой кабанов и оленей с поджатыми ногами в позе, характерной для скифо-сибирского «звериного стиля» и нигде, кроме степи, не встречающейся, а также золотые фигурки свернувшихся пантер и сидящих орлов, поднявших инкрустированное бирюзой крыло. Напряжённые позы, полные энергии повороты голов при всей условности изображения делают чиликтинских орлов и пантер прекрасными образцами степного скифо-сибирского анимализма. [10] Раскопки сакских курганов всё больше и больше знакомят нас с образцами «звериного стиля» древних кочевников Казахстана. Известны пряжки с изображением голов горного барана и грифонов из могильника Уйгарак (VI-V вв. до н.э.), в низовьях
4
Золотой олень.
Костромской курган.
(Открыть в новом окне)
Сырдарьи, бронзовые пластины в виде сдвоенных головок лошадей, золотые обкладки ножен меча с изображением головы барана и двух лежащих фантастических чудовищ из могильника Тагискен (VI в. до н.э.) также в низовьях Сырдарьи. [11] Казахстан даёт всё новые и новые образцы этого степного искусства.
Близ Алма-Аты, у города Иссык, в 1969-1970 гг. был раскопан богатый сакский курган второй половины I тысячелетия до н.э. На погребённом были одежды, расшитые золотыми фигурными бляхами. На голенном уборе красовались золотые головки коней, козлов, фигурки барсов и птиц среди листьев и растительных побегов; венчала всё это реалистическая золотая фигурка архара. Край кафтана был оторочен каймой, составленной из больших золотых блях с мордами животного. На поясе были две прямоугольные массивные бляхи с изображением лосей в позе летучего галопа, обычной для скифо-сибирского искусства, на колчане — золотые пластины с фигурами лошадей. [12]
5
Бронзовый кинжал тагарской культуры. Минусинская степь.
(Открыть в новом окне)
Районы предгорий и степей Семиречья и более южные районы, вплоть до плоскогорий Памира, входят в ареал скифо-сибирского «звериного стиля» кочеиых племён Евразии. Особенно характерны для этих территорий курильницы и жертвенники в виде столиков, часто с ажурными поддонами и фигурками животных. Здесь мы находим и сцены борьбы зверей (тигр своими мощными клыками упёрся в рога козла) и «процессию животных». Есть и отдельные бляхи в скифо-сибирском стиле, изображающие представителей местной фауны — яков, горных козлов, архаров и т.п. Встречаются котлы с ножками в виде животных (головы и ноги баранов, части тела хищников). Котлы с зооморфными изображениями распространены были по всей Евразийской степи в скифо-сарматскую эпоху. [13]
В скифских, меотских и сарматских степях набор сюжетов «звериного стиля» был значительно беднее. Первоначально это были львы, барсы, медведи, кони, бараны, грифо-бараны, хищные птицы, олени, лоси, горные козлы. Конская сбруя, особенно псалии, навершия колесниц и тому подобные вещи, связанные с всадническим бытом, особенно часто украшались изображениями животных. Они покрывали также ручки зеркал, крюки для колчанов и тому подобные вещи. С V в. до н.э. появляются сцены терзаний и борьбы животных.
Ранние памятники скифского искусства несут на себе следы сильного воздействия древневосточной цивилизации — главным образом месопотамской и урартской. Находка Саккызского клада в Иранском Курдистане (VII — начало VI в. до н.э.) дала образцы изделий, выполненных в близком к урартскому искусству стиле, но с фигурами животных в скифском духе. Среди стилизованных на древневосточный манер деревьев на золотом поясе из Саккыза
6Маска для коня.Пазырыкский курган.(Открыть в новом окне) |
7Золотая пантера.Сибирская коллекция.(Открыть в новом окне) |
8Золотая бляха.Майэмирская степь.(Открыть в новом окне) |
появляются скифо-сибирские козлы и олени с поджатыми ногами, а на обивке и диске — стилизованные на скифский лад фигуры хищников и птичьи головы. В один ряд с этими предметами можно поставить и золотые ножны из Мельгуновского (Литого) кургана в Приднепровье, где среди древневосточных гениев и чудовищ помещён характерный скифский олень (VI в. до н.э.). В Келермесском кургане (VI в. до н.э.) в Прикубанье была найдена секира с золотой рукояткой, украшенная месопотамско-урартскими сюжетами, а также оленями и кошачьими хищниками, типичными для скифского «звериного стиля». В том же кургане найдена золотая пластина в виде пантеры — одно из лучших произведений степного искусства кочевников Евразии. Замечательные художественные изделия «звериного стиля» были найдены в Костромском, Ульском и других курганах Прикубанья VI-IV вв. до н.э. [14]
Характерное для скифо-сибирского искусства совмещение различных животных встречается в Скифии повсюду. Перечисление даже главных находок здесь невозможно. С V в., а особенно в IV в. до н.э. нзчинается сильное влияние из скифскую культуру греческого искусства. Быт скифской аристократии наполняется вещами, сделанными в греческих городах Причерноморья. Они не могут служить нам для анализа специфики кочевнического искусства. В них от скифского искусства сохраняются только сюжеты. Вместе с эллинским влиянием в художественное творчество мастеров, окружавших скифских царей и вождей, входит образ человека.
Но собственно скифское искусство, так же как и искусство других кочевников Евразии, это прежде всего искусство изображения зверей. По выражению Б.Н. Гракова, оно «сумело прекрасно развить звериный стиль, но с трудом выходило из примитивного состояния, когда дело касалось человеческих изображений». [15] Полное господство зооморфных сюжетов находим мы в творчестве ближайших восточных соседей скифов — сарматов. Их «звериный стиль» занимает промежуточное положение между искусством европейских скифов и казахстанских и сибирских племён. Богато украшены вещи сарматов, в особенности их конская сбруя, фигурами животных: грифонов, козлов, медведей, зайцев, пантер, барсов, волков, оленей и т.п. В сарматских курганах находят браслеты и гривны с мощными выразительными звериными мордами на концах. [16]
Суть скифо-сибирского «звериного стиля» не только в полном господстве звериных сюжетов. Не просто анимализм определяет особенность этого искусства. «Звериный стиль» на всём протяжении «Великого пояса степей» отличается внутренним единством и общими тенденциями в своей эволюции. Это искусство обладает особым образным строем, специфическим подходом к действительности.
История скифо-сибирского «звериного стиля» имеет громадную литературу. Исследователей интересовали вопросы археологического описания изделий, иконографического анализа изображений, выяснение взаимовлияний или дат возникновения того или иного мотива, или угасания тех или иных сюжетов и приёмов изображения, семантика, вопросы происхождения этого искусства. Всё это, несомненно, важные проблемы. Прослеживая различные влияния и заимствования в скифо-сибирском анимализме, многие исследователи видели истоки этого искусства в культуре стран древневосточных цивилизаций, или в сибирских культурах бронзового века, или в искусстве древних лесных племён. Ряд черт в скифском и греко-скифском искусстве считали возмож-
9
Деревянное украшение конской сбруи.
Пазырыкский курган.
(Открыть в новом окне)
ным выводить из культуры архаической Фракии и Ионии. При этом вопрос о возникновении скифского искусства часто подменялся вопросом о происхождении сюжетной его стороны, появлении той или иной схемы композиции или канонической позы животного. Эти аспекты существенны для изучения скифо-сибирского «звериного стиля». Но, кроме того, есть проблема стиля, понимаемого как «язык» искусства, как определённое художественное миросозерцание, система «видения», как метод выражения отношения общества к окружающему миру и способ построения и понимания форм. Собственно стилистике уделялось мало внимания, хотя часто отмечалась самобытность в этом отношении скифо-сибирского искусства. [17] Это тем более странно, что в искусстве «звериного стиля» мы находим подлинные шедевры.
Мы не в состоянии точно установить семантику образов «звериного стиля» у племён — обитателей «Великого пояса» Евразийских степей эпохи раннего железного века. Большинство авторов предположительно связывают её с магическими и другими религиозными представлениями, анимизмом древних людей. [18] Но хорошо устанавливаются стилистические особенности этого искусства, в какой-то степени проливающие свет и на его сокровенный смысл.
[ Замкнутый образ. ] ^
Для раннего периода скифо-сибирского «звериного стиля» характерен в высшей степени автономный, самодовлеющий анималистический образ. Нарочитая замкнутость линий фигуры или нескольких фигур составляет особенность произведений этого искусства. [19] Рассмотрим вещи из Чиликтинского кургана (илл. 1, 2). Традиционная поза оленей с поджатыми ногами, [20] найденных в кургане, была предметом спора многих исследователей. Но как бы ни объясняли эту позу и откуда бы ни была она заимствована, она давала то преимущество, что позволяла замкнуть линии фигуры оленя внизу. Вместе с тем движение вперёд, которое ассоциативным путём придаёт наше воображение фигуре зверя, уравновешивается мощными откинутыми назад рогами. Массивные, тяжёлые и разветвлённые, они стабилизируют образ, противостоят этому порыву, уравновешивая фигуру. В этом их роль при создании замкнутого и самодовлеющего образа, потому-то они сверху имеют ритмический контур с выступами, который как бы задерживает движение оленя вперёд. Олень «цепляется» своими рогами за окружающее пространство. Если убрать или уменьшить рога, поза животного станет какой-то скованной, с неестественно и неприятно для глаза посаженной головой — образ потеряет устойчивость и равновесие частей.
Всё это можно сказать и по поводу других воплощений аналогичного мотива в скифо-сибирском искусстве ранней его поры. Замечательный золотой олень на щите из Костромского кургана (VI в. до н.э.) даёт большую замкнутость линий внизу (илл. 4). У этого оленя — повёрнутый вперёд рог в виде двух завитков. Рога трактованы как S-видные линии. Они словно пружинят, натянутые над спиной между головой и хвостом оленя, создают напряжение и заставляют фигуру прогибаться — этому соответствует плавная изогнутая линия спины. Мощная шея, показанная двумя чрезвычайно выразительными наклонными плоскостями, [21] противостоит этому напряжению и не даёт нарочито маленькой голове животного откинуться назад. Но всё же массивные пружинящие рога требуют противовеса — им являются два передних отрога. Без них фигура стала бы шаткой, закачалась. Выпуклый ободок глаза очень заметен и так увязан с завитками рогов, что зритель поневоле ощущает, как хрупко то место, где мощные рога прикреплены к небольшой и изящной головке. Это ещё больше способствует впечатлению того, что рога как бы «оттягивают» головку. Но этому движению противостоят не только уравновешивающие передние отроги, но и то, что заднее окончание рогов в виде массивной дуги положено на круп. Такова же структура образа оленя на выступах ножен из Келермесского и Мельгуновского курганов, на топорике и золотой пластине от горита из Келермеса и т.п. [22]
10
Татуировка тела погребённого.
Пазырыкский курган.
(Открыть в новом окне)
Но вернёмся к Костромскому оленю. В частях его фигуры, где больше всего движения и жизни — в шее и голове, несущей тяжесть рогов, напряжённость линий усиливается трактовкой поверхности тела двумя сходящимися плоскостями. Ребро их проходит плавной линией по середине шеи и переходит на морду. Таким образом, вся передняя часть животного вырисована тремя изогнутыми линиями, смыкающимися у рта. Нижняя — очень плавна и непрерывна. Наш глаз без помехи скользит вдоль неё, чтобы ощутить напряжённую стремительность фигуры с огромной тяжестью на голове. Средняя линия прерывается и даёт почувствовать тем самым обособленность головы от шеи. Наконец, верхняя линия прерывается присоединёнными к голове рогами. Тем самым впечатление общей вытянутости вперёд головы и шеи, которое создаёт с такой силой нижний контур и которое ослаблено уже в средней линии, здесь, в верхней, нейтрализовано.
Дополнительно к этому сходящиеся у рта линии, создающие у зрителя впечатление устремлённости фигуры оленя вперёд, уравновешены двумя выпуклыми объёмами плеча и крупа, бесспорная стабильность которых подчёркнута тем, что между ними помещено цилиндрическое, несколько сужающееся на конус туловище. Тело оленя приобретает вид какой-то конструкции из двух шаров и цилиндра между ними — эта устойчивая форма была бы скучной и невыразительной, если бы не полные жизни ноги, а круглое окончание фигуры зверя было бы слишком геометрично, если бы её линия не прерывалась выступом хвоста. Такую же замкнутость композиции демонстрируют и чиликтинские орлы (илл. 2). Крыло создаёт основу фигуры. Повёрнутая голова имеет сложный контур, что позволяет показать её хищность и подчеркнуть резко изогнутый клюв. Но это — лишь внутри фигуры, за пределы плавной замыкающей линии крыла эти контуры не выходят. То, что они показаны не на фоне сплошного крыла, а ажурно и лишь очерчены линией крыла, подчёркивает выразительность головы грифа. Но всей фигуре не придаются примитивные очертания, как было бы, если бы мастер вложил её всю в это крыло: показаны какие-то отростки внизу и схематически передана лапа в виде двух соединённых кружков. Эти детали, определяя низ и верх, также сообщают устойчивость изображению птицы с наискосок поставленным крылом. Образ оказывается замкнутым и самодовлеющим.
Мы предполагаем, что такая уравновешенность и замкнутость образа связана с особой автономностью его, с тем, что он безразличен с художественной точки зрения к своему окружению. Костромского оленя можно соединить с чем угодно — он останется самим собой. Он предназначался для крепления на нейтральной поверхности щита. Не случайно, что подобного рода изображения компоновались на совершенно чуждых им стилистических вещах: например, олень скифского типа помещён на ножнах акинака из Келермеса, рядом с восточными мотивами. Такие примеры могут быть умножены. Фигурки оленей нашивали на головные уборы, одежду, ими покрывалось оружие и т.п. У такого типа блях и изображений нет назначения, которое определялось бы их художественным обликом.
11
Бронзовый котёл.
Близ г. Алма-Ата.
(Открыть в новом окне)
Замкнутость звериного образа самого в себе привела к появлению круглых блях виде животного, свернувшегося в кольцо. Линии предмета полностью замыкались в кольцевидную фигуру. Но и там, где фигура хищника оставалась не сомкнута в кольцо, другими средствами достигалась большая степень «закрытости» образа. Рассмотрим золотую пантеру на щите из Келермеса (илл. 3). Выдвинутая далеко вперёд небольшая голова на мощной шее уравновешивается тяжёлой задней частью как бы осевшего хищника. Широкая полоса хвоста замыкает контур фигуры снизу и сзади. Хвост составлен из свернувшихся фигурок кошачьих, они повторяются и на окончаниях четырёх лап пантеры. Сверху её фигура ограничена плавной линией спины, перерыв в этой линии, который создаётся небольшим ухом, придает очень большую устойчивость всей фигуре. Если закрыть верхнюю выступающую часть уха то получится впечатление, что пантера «заваливается» вперед, так как плавная линии спины переходит в закругляющуюся линию головы: наш глаз спокойно скользит по линии спины, шеи и морды, по инерции хочет продлить эту линию и свести её к столь же плавному окончанию лап и хвоста, но, встречая выем под шеей, глаз делает на нём акцент, отчего и создаётся впечатление, что пантера кренится вперед.
Обратимся далее к выполненной вполне реалистически круглой бляхе из Майэмирской степи на Алтае (VII в. до н.э.) с изображением свернувшейся пантеры (илл. 8) и более условной бляхе в виде свернувшейся львицы или пантеры из Сибирской коллекции (VI в. до н.э.) (илл. 7). [23] На Майэмирской бляхе зверь, подчиняясь форме предмета, сжал свои лапы, но они тем не менее видны зрителю, равно как и мускулы мощных плеч, напрягшихся от неестественной позы. На бляхе из Сибирской коллекции плечевые мускулы зверя стали просто дисковидным расширением на совершенно гладком, как бы цилиндрическом теле хищника, а ноги и хвост превратились в какие-то условные лопасти с круглыми дисками на концах. Естественная выразительность живого тела на Майэмирской бляхе, напряжение мускулов, создающее ощущение, что зверь готов распрямиться как пружина, если с него спадут оковы того предмета, в который он заключён, сменились на бляхе из Сибирской коллекции впечатлением того, что перед нами подобие колеса с осью в том месте, где хвост оканчивается небольшим диском, со сложными ажурными выемами и широким ободом. Ощущение вращающегося колеса усиливается тем, что на его поверхности среди ажурных несимметричных выемов есть ещё дополнительные круги разных диаметров, расположенные нерегулярно, которым как бы придано своё автономное вращение, а также тем, что тело львицы, составляющее обод этого «колеса», незамкнуто. В звере, воплощенном в этой бляхе, тоже много напряжения, но оно создается не экспрессией естественного тела животного, а выразительностью геометрических форм самого предмета, отождествляемых с деталями звериного тела.
Итак, замкнутость образа достигается разными средствами — уравновешиванием деталей, их гармонией, противопоставлением плавных, влекущих глаз линий и выступов, их разрывающих, и замыканием контура в круговую фигуру. Но вместе с тем перед нами и тенденция заменить выразительность тела животного выразительностью обобщённых и пластически четко обособленных, почти геометрических форм. Это чувствуется в бляхе из Сибирской коллекции, и в Костромском олене, и в золотой фигурке орла из Мельгуновского кургана, [24] и в замечательных навершиях в виде голов грифонов из Ульского кургана. [25] А в Келермесской пантере мощный художественный акцент сделан на два резко очерченных, чисто геометрических элемента — трактованные как правильные окружности ноздри и глаза зверя и на зигзаговидный орнамент уха.
В лучших высокохудожественных вещах сложившегося скифо-сибирского «звериного стиля» мы можем усмотреть стремление к единству и равновесию деталей, каждая из которых сама по себе художественно ценна, обозрима и пластична. Замкнутые, строго «сбалансированные» в своей автономности и покое зооморфные образы
12
Пряжка с изображением сфинкса.
Барановский могильник.
(Открыть в новом окне)
продолжают создаваться в скифо-сибирском искусстве и позднее. В качестве примеров назовём характерные бляхи из Журовки в виде одних только львиных голов с раскрытыми пастями (V в. до н.э.), [26] грифонов из Семибратнего кургана № 2 (V в. до н.э.), [27] бараньи головы (с завершающими изделия кольцами рогов) [28] из Пазырыкских комплексов (V в. до н.э.) и т.п. Часть животного смотрится, совершенно не возбуждая мысли об остальном теле, представляет «закрытый» образ. [29]
[ Связь изображений с формой и назначением вещей. ] ^
Скифо-сибирский «звериный стиль» обладает и другими характерными чертами, связанными с подчёркнутой нами особенностью его ранней стадии, заключающейся в «замкнутости», «закрытости» образа. Предмет с его функциональным назначением деталей как бы сливается с изображенным на нем животным. [30] Предназначенный для какой-либо утилитарной цели выступ пряжки или бляхи становится одновременно клювом грифона, изображённого на этой пряжке. Подобно тому как в сознании первобытного человека весь мир населялся демонами, тотемами, так и мир вещей, созданных человеком, одушевлялся этими сверхъестественными существами. Как будто из леса выглядывает лицо лешего, которое сливается с наростом на дереве или сухой веткой, как бы из-за камня смотрит на древних людей зверь, которого род считает своим предком и покровителем, словно из степного оврага вылетает орёл, а людям кажется, что это сказочный гриф, стерегущий золото, — так и из вещей словно появляются особые звериные существа, которые с ними сливаются воедино и в художественном плане и в функциональном. Древний анимизм и аниматизм наделял изображение качествами живого существа, способного помочь человеку. [31] На предмете оно было функционально важной частью, а не просто украшением. Изображение «помогало» пользоваться предметом, и для древних оно было так же важно, как лезвие или обух топора. [32] Древняя религия, почитание зверей наделяли эти изображения силой какого-либо духа — покровителя или предка. Не случайно так часто изображался олень, чьё имя стало этнонимом у ряда родственных скифам племён. [33]
Линии предмета превращаются в контуры оленя или пантеры, и часто бывает трудно сказать — форма ли предмета подчинена изображённому на нём животному или формы животного определяли линии предмета. Кажется, что вещь в руках мастеров древних кочевых племён Причерноморья, Казахстана, Сибири и Алтая оживает и прорастает головами орлов или грифонов, фигурами медведей, оленей и т.д. (илл. 5).
Это явление называют «зооморфным превращением», имея в виду своего рода одушевление предмета звериными образами, превращение вещи в какое-то живое существо. И не только предмета. Имело место «превращение» одного животного в другое. В этом отношении особенно показательны два головных убора лошадей из Пазырыкского кургана № 1. [34] Один из них украшает лошадиную морду головой грифона с крыльями. Своими когтями грифон впился в тигра, тело которого представлено в виде двух свисающих по бокам лопастей с изображёнными на них поджатыми лапами. Пасть тигра расположена на лобной части украшения лошади и составляет одно целое с убором коня. Голова лошади — это словно арена борьбы и вместе с тем единения двух существ, двух стихий. То же мы видим на другой лошадиной маске. Тело тигра распластано на переносье коня, а голова коня превращена в голову оленя. Уши оленя на маске являются чехлами для ушей реальной лошади. Огромные рога вырастают из теменной части коня (илл. 6). Особое существо в виде оленя вселяется в это реальное животное. И не только оленя, но и тигра, нападающего на этого оленя. Что это — маска, украшенная сценой борьбы животных, или это сами животные — покровители, защитники и помощники, воссозданные человеком и приспособленные к тому, чтобы конь был их носителем?
Голова живой лошади была не просто объектом украшения. Этими украшениями как бы маскировали её лошадиную природу, вселяя в коня дух другого животного.
13
Бронзовая пластинка с грифонами.
Пазырыкский курган.
(Открыть в новом окне)
Украшенный конь становился другим животным, мистически приобщённым к миру духов. [35] Потому-то и надевали на голову коня чехол с оленем и грифоном, потому-то так настойчиво увенчивали массивными головами животных S-образные псалии — наиболее заметные, выделявшиеся детали конской узды.
Характерны псалий и развилка от него — деревянные детали упряжи из Пазырыкского кургана. [36] V-образная форма развилки понята и передана как разинутая хищная пасть волка, а S-образная деталь имеет на верхнем конце голову кошки. Развилка так убедительно вырезана в виде пасти волка, что кажется, волк действительно впился в деревянный стержень, который распирает его челюсти и вместе с тем крепко держится в зубах хищника (илл. 9). Возьмём пример из археологических памятников другого района степи — бронзовую пластину от узды из Семибратнего кургана № 4 (V в. до н.э.). [37] Она изображает льва в профиль и вцепившегося в его спину хищника, у которого показана в фас сверху только передняя часть туловища. Эта последняя деталь служит для прикрепления к ремню. Художник заставил нас почувствовать, что ремень как бы превращается на своём конце в хищное существо и не просто прикрепляется к пластине, а словно вонзается зубами и когтями в бляху, которая в свою очередь «превращена» в льва.
Берккаринская пряжка (III в. до н.э.) [38] — произведение искусства древних племён, населявших Казахстан, — тоже даёт хороший пример повышенной функциональности «звериного стиля»: лев держит в пасти птицу, изогнутая голова и шея которой служат крючком для соединения с противоположным концом ремня.
Украшение какого-либо соединительного узла зооморфными изображениями — мотив не новый в скифо-сибирском искусстве и не ему одному присущий. Но нигде этому мотиву не придавалось такое ощущение реального соединения зверей, как бы впившихся друг в друга. Эта живая связь предмета и его функциональности с образом животного на нём больше всего волнует и восхищает нас в «зверином стиле».
Интересен бронзовый котёл, найденный под Алма-Атой. [39] Его большая масса покоится на трёх упругих изогнутых ножках. Эта упругость придаёт котлу лёгкость и освобождает большой резервуар от его тяжести. Прекрасно учтены пропорции высоты ножек и объёма котла. Впечатлению упругости соответствуют нижние части ножек, трактованные в виде бараньих ног. А на изгибе ножек помещены головы баранов, закинутые кверху так, как будто животные прыгают откуда-то сверху. Без этих голов котёл производил бы впечатление какой-то огромной массы, как бы осевшей на тонких, прогнувшихся, проломившихся ножках. А движение баранов, как бы выпрыгивающих из нижней части котла, создаёт удивительно гармоничный и уравновешенный образ (илл. 11).
Стремление к единству предмета и изображения [40] обусловило умение вложить фигуру животного в очертания самого предмета. Как искусно, например, вписаны в форму пластины из Пазырыкского кургана две лосиные головы. [41] В очертание полукруглой накладки от седла вложено изображение головы кошки, [42] в чечевицеобразную форму другой накладки от седла удачно вписано изображение лося [43] и т.п. Переход предмета в животное сопровождался и другими «зооморфными превраще-
14
Деревянная накладка с изображением барса. Пазырыкский курган.
(Открыть в новом окне)
ниями»: части одного животного становились самостоятельными звериными образами. Мало того, что сам предмет преображался в оленя, птицу, медведя, но, делая акцент на изображении именно органов поражения, этим зверям добавляли иногда клыки, иногда когтистые лапы и т.п., чтобы усилить мощь того духа или того существа, которое живёт в этой вещи, сливается с ней, охраняет её и самого владельца.
В этом выражается типичное для первобытной эпохи представление о том, что часть заменяет целое, и раскрывается особый подход к этим изображениям. Нам представляется, что мастер не просто отражал здесь сложившийся образ народной фантазии, а в значительной мере конструировал его из отдельных готовых элементов. [44] Мы говорили уже, что на предмете изображение рассматривалось как функционально полезная деталь этой вещи, как необходимая составная часть самого предмета, а не как декоративный придаток. Если же зверь изображался в виде бляхи, как особый отдельный предмет, то он рассматривался не столько как декоративное приложение к одежде, сбруе, панцирю, щиту и т.п., сколько как реальное существо, наделённое функцией помощника и защитника человека.
Так из разных деталей мастер конструировал новую реальность, новый полезный предмет, особый «предмет-животное». Не иллюзорное искусство, не отображение действительности или фантазии, а искусство, созидающее вещную реальность, используемую человеком. [45]
Это созидание реальности происходило в высокоэстетических формах. Первоначально в «зверином стиле» наделённый первобытным анимизмом, автономной жизнью «предмет-животное» не нуждался ни в каких зрительных связях со своим окружением. Художественная независимость отдельного образа зверя заставляла максимально уравновесить его и замкнуть в себе. Бляха в форме орла, пантеры или оленя, голова льва, кабана или грифона были самостоятельными художественными предметами, ценными сами по себе и в себе самих находящими оправдание своему эстетическому бытию. Если же создавался утилитарный предмет, то стремились изготовить некий «предмет-животное», в котором образ зверя был бы неотделим от вещи, не мыслился и не смотрелся бы вне её прямого назначения. Это также приводило к впечатлению от предмета как от замкнутого, «сбалансированного» в своих деталях, независимого от окружающего мира художественного изделия.
Изображение зверей стремились «вживить» в поверхность того предмета или тела, на которую они наносились.
Интересно в этом отношении рассмотреть татуировку на теле погребённого в Пазырыкском кургане № 2 (илл. 10). [46] Рисунки зверей здесь выполняли,
15
Фигура оленя.
Пазырыкский курган.
(Открыть в новом окне)
вероятно, роль оберегов. Понятно при этом стремление художника-татуировщика покрыть тело рисунками так, чтобы они «вжились» в него, составили его гармоническое покрытие, защитный покров, не просто «накинутый» на человека, а ставший частью его плоти, его сущности. Татуировка рук такова, что на внешнюю сторону их попадают головные части животных, обильно украшенные спиралями и несущие главную тяжесть «зооморфных превращений». Именно в этих частях происходит слияние деталей различных зверей. Животные с оленьими головами и телом имеют грифоний клюв, хвосты хищников, а из огромных рогов прорастают стилизованные птичьи головки. Те части животных, которые оказываются на внутренней стороне руки, переданы одним контуром. Характерна татуировка на правой руке. Художник поместил мелкие изображения в самом низу, у запястья, выше расположил более крупные фигуры, но всё же дробно орнаментированные, а у плеча — самое крупное изображение фантастического зверя. Тонкие движения кисти руки находят отклик в этих расположенных внизу мелких, динамичных рисунках, более спокойные и сильные мускулы плеча покрыты более статичным и крупным изображением зверя. Последний как бы живёт вместе с человеком. Передние ноги животного расположены так, что одна попадает на руку, другая — на грудь. Если человек поднимает и опускает руку, ноги этого животного приходят в движение.
16, 17. Резной деревянный саркофаг. Башадарский курган.
(Открыть в новом окне: 16, 17)
Рассмотрим теперь правую ногу того же погребённого. Единство покрывающих её рисунков с телом человека и здесь бросается в глаза. Большая неподвижная часть голени подчёркивается крупной схематически представленной рыбой. Подвижная часть ноги у щиколотки покрыта мелким динамичным изображением какого-то зверька, а мускулы икр — четырьмя фигурами бегущих баранов: передние ноги одного касаются задних ног другого. Создаётся чёткий ритм движения этих фигур. Они постепенно увеличиваются снизу вверх. Кажется, что на ноге, по мускулам икр проходит какое-то движение, лёгкая судорога.
Многие исследователи отмечали, что для раннего периода скифо-сибирского стиля типично сочетание значительного натурализма в передаче животных, частей их тела и стремление к стилизации, упрощению, выделению некоторых главных деталей, замене целого изображения наиболее характерной деталью. [47] Тесная органическая
18
Резной деревянный саркофаг.
Башадарский курган.
(Открыть в новом окне)
связь украшения и предмета, при которой изображение зверя становилось чем-то бóльшим, чем просто украшение, привело к тому, что очертания предметов — круглых блях, овальных и прямоугольных пряжек, псалиев и т.п. — породили повторяющиеся и устойчивые приёмы изображения и стилизации животных. Так, круглые предметы чаще всего украшались фигурой свернувшегося в кольцо хищника, причём ухо, глаз и ноздри обычно намечались в виде трёх кружков на одной линии, а на другой прямой линии часто помещались трактованные также в виде кружков концы лап и хвоста. Это искажало природный вид животного. Типичной для «звериного стиля», особенно на востоке степного Евразийского пояса, была манера рисовать животное как бы с вывернутой задней частью. [48] Эта совершенно неестественная поза весьма популярна в искусстве кочевников степей Евразии, и она часто помогала мастерам удачно заполнять поверхность предмета изображением какого-либо зверя.
Скифо-сибирский «звериный стиль» уже с середины I тысячелетия до н.э. [49] превращается в орнаментально-декоративный стиль, в котором постепенно пропадает натурализм не только в передаче всей фигуры животного, но и в столь выразительных деталях, дающих возможность определить не только семейство, но и вид животного. Это превращение изображения животного в орнамент, украшение идёт в разных районах степи по-разному.
В минусинском раннетагарском искусстве прослеживается тенденция превращать фигуру животного в набор шариков, полукругов и цилиндров; [50] в алтайском анимализме расцветает узорчатость и закручивание в сложные завитки звериных тел, слияние их в ковровый орнамент.
Переход сочного, пластичного анималистического искусства в орнаментальный, схематический, ажурный, декоративный стиль связан с той тягой к «зооморфным превращениям», которая была ему присуща. Из рогов оленя или из его хвоста вырастают птичьи головки, на лапах одного зверя оказываются части тела других животных, и всё это в полном единстве с контурами предмета. По мере развития «звериного стиля», по мере того как образ животного на предмете всё более становится просто его украшением, эта зависимость рисунка от очертаний предмета заставляет само изображение становиться всё более и более далёким от реальности. Она заставляет зверя принимать такие противоестественные положения, что его фигура становится просто орнаментальной схемой, в которой образ самого животного утрачивается совершенно. Мастер свободно помещает части животного, не придерживаясь точности их расположения, ему важно разместить глаз, ухо, ноздри, клюв, лапы на плоскости сложного предмета.
Если мастеру нужно изобразить голову лося на квадратном предмете, он развёртывает нос, глаза, ноздри и рога симметрично продольной оси морды на плоскости (например, так, как на бляхе из Катандинского кургана). Или если нужно украсить поверхность треугольной бляхи, художник сохраняет очертания морды лося: узкий нос зверя упирается в один из углов треугольника, а в остальные мастер вписывает длинные растопыренные уши (бляха из Пазырыкского кургана № 5). [51] Чтобы заполнить поверхность предмета, прибегали к приёму противопоставления двух симметрично изображённых животных. Иногда это только две головы лося, оленя или другого зверя, в ряде случаев у них одно общее ухо, а рога, соединяясь, создают причудливые завитки. Мастер разрезает фигуру оленя вдоль спины, разворачивает её, оставив нетронутой одну голову, повёрнутую назад, — так образуется симметрично построенная орнаментальная привеска. Два противопоставленных орлиных грифона на медной штампованной пластине из Пазырыкского кургана № 2 [52] выглядят как простое украшение с вычурными линиями контура (илл. 13). В этой композиции совершенно исчезло ощущение напряжённости, динамизма, борьбы мощных фантастических зверей. Постепенно зооморфный мотив утрачивал свою ясность и понятность и оставалась только сложная розетка, завиток.
19Резной деревянный саркофаг. Деталь.(Открыть в новом окне) |
20Фигуры петухов. Пазырыкский курган.(Открыть в новом окне) |
Фигура оленя с поджатыми ногами и повернутой назад головой превращается в какой-то мотив в виде цветка или розетки (например, бляха в виде оленя из Семибратнего кургана № 4 трактована как розетка с центром симметрии, обозначенным круглым глазом животного [53]).
21. Фигуры петухов. Пазырыкский курган.
(Открыть в новом окне)
Манеру изображать симметрично развернутое на плоскости тело животного (илл. 12) называют «геральдическим» противопоставлением. Но нам кажется, что мы имеем дело не с двумя геральдически расположенными животными, [54] а с одним, одновременно показанным с двух сторон. Художник рисует на плоскости два боковых аспекта одного тела, соединённых в том месте, на которое смотрит зритель (спиной, иногда брюхом, задней частью и т.п.). Первоначальные объёмные фигурки животных, попадая в качестве украшений плоскостного типа, расчленяются и распластываются. В этом отношении интересна пластина с изображением барса из Пазырыкского кургана № 5 (илл. 14). [55] На ней задняя часть барса показана сбоку, передняя изображена так, как она видна сверху, с вытянутыми ногами и шеей, а голова разрезана вдоль оси и показана как два профильных изображения, соединённых в верхней части. Трактованная таким образом морда барса, к тому же отдельно от туловища, превращается в совершенно орнаментальную пластину, принимающую форму щитка с подчеркнутым геометризмом контура. [56]
В искусстве Алтая I тысячелетия до н.э., как и других районов Евразийской степи, было также статуарное изображение животного в натуралистической манере. Встречаются отдельные почти реалистические фигурки, — как бы «сенсорные» традиции, быть может наиболее архаичные в искусстве степей I тысячелетия до н.э. Они не связаны с предметом, не подчинены его форме. Они живо передают движения животного. В деревянных фигурках осёдланных, замаскированных под оленей лошадей из Катандинского кургана (V в. до н.э.) схвачены мимолетные позы животных, убедительно переданы повороты их голов. Другим примером такой скульптуры могут служить стоящие на шарах деревянные олени с огромными кожаными рогами из Пазырыкского кургана № 2 [57] (илл. 15). Но все это — исключения. В искусстве I тысячелетия до н.э. явно прослеживается тенденция, которая заключается в том, чтобы уметь развернуть изображения на плоскости, увязать их с контуром предмета и в дальнейшем превратить в плоскостный орнамент. Когда свободные реалистические изображения животных превращаются в фигуры животных, сросшихся, слившихся в единый образ с предметом, тогда они утрачивают свою сопротивляемость к различного рода «зооморфным превращениям» и искажениям их тел в угоду форме предмета, их образы разлагаются, и части их живут своей обособленной жизнью — то на концах псалий, то на рамке пряжки и т.п. Логическим итогом этого процесса и должны были быть эти распластанные, превращающиеся в орнаменты изображения. [58]
Расчленение образа животного на несколько самостоятельно живущих деталей привело к тому, что стало возможным изображать только часть тела. Так возникли, на-
22Золотая бляха с изображением борьбы фантастических животных. Сибирская коллекция.(Открыть в новом окне) |
23Серебряная бляха с изображением яка.Ноин-Улинский курган.(Открыть в новом окне) |
пример, композиции, состоящие из головы хищника, в пасти которого находилась фигура или голова «терзаемого» животного, [59] сосуществовавшие в искусстве Алтая в середине I тысячелетия до н.э. со сценами терзания.
Взаимопроникновение предмета и образа животного, этот симбиоз зверя-божества, зверя-оберега и предмета, предназначенного к практической жизни, заменяется всё более и более самостоятельной жизнью предмета, украшенного (только лишь украшенного!) зооморфным мотивом.
[ Орнаментализация и геометризация ] ^
Развитие орнаментального начала и усиление схематизма в «зверином стиле» в значительной мере связаны также и со стремлением древнего художника заполнить весь предмет зооморфными изображениями. Появляется «боязнь пустоты». Мастер не может оставить фигуру зверя или сцену борьбы животных на свободном широком фоне. Очертания фигур должны вписаться в предмет и если не заполнить все его уголки, то хотя бы повторить общие его контуры.
Часто древний художник должен был изобразить животных на больших поверхностях. Мы видели, как умело справился с этой задачей древний алтайский татуировщик, покрывший кожу человека сложным рисунком из фантастических и реальных зверей. Животные так плотно подогнаны друг к другу, что образуется сплошной узор. Но перед художником стояла и другая задача: связать эти изображения с человеческим телом. Это достигалось тем, что фигуры животных как бы живут жизнью тела, они согласовываются с движением его мускулов и членов. Но когда требовалось украсить узором, состоящим из изображений зверей, большую поверхность неодушевлённого предмета, простого по своей геометрической форме — большую прямоугольную поверхность ковра или крышку гроба, то эта связь изображения и украшаемого предмета легко утрачивалась.
В качестве примера рассмотрим резьбу на крышке и на колоде саркофага из Башадарского кургана № 2 (VI-V вв. до н.э.). [60]
Здесь изображено шествие тигров (илл. 16-[17-18]-19). Позы их естественны. Это — спокойно идущие животные. Предмет (крышка, колода), сильно вытянутый в длину, удобен для такого размещения. Но под ногами этих тигров — копытные. Художник вырезал фигуры отдельно — сначала одних тигров, а потом уже копытных. Мотив терзания хищником травоядного претворяется здесь в процессию тигров, идущих по травоядным. Тигры безразлично ступают по их вывернутым телам. Башадарский саркофаг, можно сказать, покрыт не столько сценами из животного мира, сколько зооморфным орнаментом.
Если бы мастер оставил одну процессию тигров, он был бы ближе к осуществлению зрительной связи формы предмета с его украшением. Ритмичная сцена шествия животных подчёркивала бы вытянутость прямоугольника крышки и колоды. Но художник не может не заполнить свободный фон. Единство предмета и изображённых на нём зверей понимается им только как полное заполнение плоскости рисунками так, чтобы не оставалось свободного фона. Поэтому головы, рога, ноги, копыта травоядных заполняют всё пространство между тиграми и полосу свободного фона под их ногами. При этом утрачивается ритмичность и выразительность основы композиции — шествия тигров. Это особенно хорошо видно при сравнении крышки, где мастер вырезал копытных, и самой колоды, где он их, вероятно, не успел изобразить, оставив только одних тигров.
Тенденция к орнаментализму отчётливо проступает на ряде других изделий из Башадарских и Пазырыкских курганов. Например, украшение седельной луки из Башадарских курганов с изображением двух голов грифов [61] представляет собой чисто орнаментальную схему из двух завитков, в которых с трудом можно узнать птичьи головы. Клюв одного грифа входит в пространство между телом и клювом другого,
24Золотая бляха с изображением охоты.Сибирская коллекция.(Открыть в новом окне) |
25Золотая бляха со сценой отдыха под деревом.Сибирская коллекция.(Открыть в новом окне) |
тела обеих птиц украшены фигурами в виде полумесяцев, утратившими всякий смысл, кроме орнаментального, — никакие части тела птицы ими не выделяются. Другим способом заполнения больших площадей украшаемого предмета было повторение одной и той же фигуры животного. При этом изображение утрачивало живость, реалистичность, близость к натуре. Поверхность седельной покрышки из Башадарского кургана № 2 заполнена стилизованными фигурами грифонов, причём орнаментальность усилена тем, что грифоны окрашены в шахматном порядке в жёлтый и синий цвет. [62]
Изображения животных, превращённые в орнаментальный, декоративный рисунок большой плоскости предмета, сочетаются в Пазырыкских и Башадарских курганах с орнаментами в собственном смысле этого слова. Соединение «звериного стиля» с богатым развитым орнаментом выделяет, между прочим, искусство Алтая середины I тысячелетия до н.э. из среды родственных ему искусств скифо-сибирского круга. Характерно, что и в растительной орнаментации основное место занимают мотивы, заимствованные из стран Ближнего и Среднего Востока. Например, изображение лотоса, которое часто повторяется на аппликациях войлочных ковров, на украшениях обуви и сёдел, на кожаных флягах, сумках и т.п. Но ещё большее место среди деталей и элементов орнамента в декоративном искусстве кочевников Алтая середины I тысячелетия до н.э. занимали различные зооморфные мотивы, происшедшие от изображений животных или каких-либо их характерных деталей — оленьих или турьих рогов, голов, глаз или клювов грифонов и т.п.
Когда изображение зверя, его головы и т.п. утрачивало всякую связь с реальностью, окончательно превращалось в элемент орнамента, необходимость заполнять всю поверхность предмета этими изображениями отпадала. Так, мы видим весьма орнаментально трактованные, вырезанные из цветного войлока львиные головы, помещенные на значительном расстоянии друг от друга в бордюре на войлочном настенном ковре из Пазырыкского кургана № 1. Или причудливые фигуры петухов, расположенные как орнаментальные узоры на саркофаге-колоде из того же кургана [63] (илл. 20, 21).
Вероятно, тогда, когда изображения животных перестали быть связанными с магическими или иными древними верованиями, когда они утратили свои функции оберегов, стали простым средством украшения — орнаментом, [64] — художник освободился от необходимости покрывать этими рисунками весь предмет и защищать тем самым от злой силы, связывать его с животным-апотропеем. Мастер получил бóльшую свободу располагать эти изображения так, как диктовало ему чувство ритма, чувство формы. С развитием орнаментализма в «зверином стиле» религиозные, анимистические элементы в нём уступают эстетическо-художественным, декоративным. Таким образом, в этом искусстве при украшении большой плоскости мы находим два художественных решения: либо изображают животных, реальных или фантастических, так что весь фон заполняется их телами, неестественно развёрнутыми и скрученными, либо превращают зооморфные мотивы в орнаменты, которыми покрывают поверхность вещи, с характерной ритмичностью и повторяемостью элементов. Единственный способ уберечь образ животного от деформации — обособить изображение от украшаемого им предмета, от поверхности этого предмета, подлежащей украшению, как бы заключить изображение в медальон, «клеймо» или рамку. Первоначально это обособление шло внутри орнамента. Например, на фоне буйно разросшихся и превратившихся в узор гребней петухов (кожаная аппликация на одежде, обнаруженной в одном из Пазырыкских курганов) помещены круглые медальоны, в которых вполне реалистично изображены головы баранов. [65] Ещё более показательно в этом отношении кожаное покрывало из Пазырыкского кургана № 2. [66] Кайма его разбита на двадцать прямоугольников, и в каждом совершенно одинаковая сцена нападения крылатой пантеры на оленя. Их графичность и повторяемость — орнамен-
тальны, подобно сценам терзаний на более позднем ковре из Ноин-Улы, [67] где орнаментальное назначение зооморфных сюжетов подчеркнуто бесспорно орнаментальными «ёлочками» между ними. Но характерно само применение прямоугольных рамок — «клейм», в которые помещаются эти изображения.
[ Зарождение «изобразительного поля». ] ^
Особенно хорошо прослеживается эта тенденция к обособлению, «отчуждению» изображения от предмета путём введения медальонов, рамок, создания «изобразительного поля» на изделиях сибирского «звериного стиля» примерно III в. до н.э. — I в. н.э., связываемых в основном с хуннами.
Большую серию крупных блях и пластин-застёжек, где видно зарождение «изобразительного поля», рамки, мы находим в составе предметов Сибирской коллекции, вещей из хуннских Дерестуйского и Иволгинского могильников в Забайкалье, Ноин-Улы в Монголии, из района Ордоса и тому подобных памятников. [68]
Рассмотрим, например, бляху-пластину, с изображением большого фантастического рогатого зверя с лошадиным туловищем, клювом грифона, хвостом льва с головками грифов на концах хвоста и рогов (илл. 22). Сохраняются характерные особенности скифо-сибирского анимализма. На теле животного помещена голова горного барана в клюве грифа и фигура другого грифа. Какой-то хищник, значительно меньший по размерам, нападает на это животное и впивается ему в грудь. Но оба стоят на земле, — она показана линией, полоской металла — и создаёт как бы ограничение всей сцены снизу. Хвост большего животного, изогнутый под прямым углом, с волютообразным завершением и плоская спина с огромными рогами в виде розетки ограничивают сцену сверху. [69] Ещё более убедительные примеры дают так называемые ордосские бляхи. Среди них встречаются изображения животных, выполненные в старых традициях скифо-сибирского «звериного стиля», например, горный баран с характерной вывернутой задней частью тела. [70] А наряду с ними есть бляхи в виде фигур лошади, горного козла, пасущейся лани с обозначением под ногами земли. [71] Изображение получает устойчивость, создается намёк на рамку, организующую всю сцену, выделяющую её из окружающей среды. Эта рамка как бы стабилизирует помещённое в ней животное в том смысле, что она несколько препятствует характерным для скифо-сибирского «звериного стиля» деформациям. [72] Что же касается «зооморфных превращений», то появляется тенденция переносить их на край изделия.
Полная, к тому же подчёркнутая каким-либо орнаментальным мотивом рамка появляется на больших пластинах-застёжках ордосского типа с изображением борьбы животных, например, в сцене схватки двух лошадей. [73] Перед нами как бы небольшая картинка, где происходит какое-то действие независимо от всего остального, в том числе и от самого предмета.
«Изобразительное поле» появляется ещё раньше в скифском анимализме, видимо, под влиянием греческого искусства. Бронзовые навершия типа наверший из Александропольского кургана (IV в. до н.э.) дают нам рамку, куда вписано изображение фантастического зверя. Пусть он передан схематично, пусть его поза условна и канонична, но всё же это естественное положение тела четвероногого зверя, а не закрученное узлом или расчленённое животное. В этом навершии видно, что рамка отделила изображение крылатого существа от всего предмета. Особенно это бросается в глаза, если сравнить навершие с рамкой и более древние скифские статуарные навершия с ажурными бубенцами или навершия того типа, что найдены в Ульском кургане. Безразлично, на что будет насажено упомянутое навершие Александропольского кургана. Смотрится только рамка и животное внутри неё. [74] Образ зверя как бы «отчуждается» от утилитарного предмета. Мы далеки от мысли проводить аналогии между этими скифскими вещами и сибирскими бляхами. Речь может идти только об общей художественной тенденции.
26. Золотая бляха с изображением змеи и волка. Сибирская коллекция.
(Открыть в новом окне)
В связи с возникновением рамки и «изобразительного поля» появляется новое толкование изображения животного. Рамка даёт возможность помещать зверей среди природы. Таковы выразительные серебряные бляхи из Ноин-Улы (I в. н.э.) с фигурами яков, стоящих среди деревьев и холмов, схематически показанных внизу рядом полукругов [75] (илл. 23). Раньше форма вещи была полностью занята изображением животного благодаря тому, что тело зверя выкручивалось или распластывалось по поверхности предмета. Теперь в соответствующую контурам изделия рамку вписывают естественно стоящую фигуру животного без характерных для более раннего времени деформаций, а фон заполняют условно переданным пейзажем.
На бляхах раннего скифо-сибирского «звериного стиля» мы видели замкнутое изображение, образ был самодовлеющий, все линии стремились замкнуться, форма казалась уравновешенной и законченной. Теперь мы наблюдаем тенденцию к «открытому» образу и образу мгновенного движения, такому, какой дают нам, например, некоторые бляхи из Сибирской коллекции и бляхи ордосского типа с фигурами животных, естественно идущих вперёд, как бы выводя наш взор за пределы изображения. [76]
Но это остаётся лишь тенденцией. Обычно на пластинах-застёжках из Сибири В- и Р-образной формы или прямоугольных пластинах ордосского типа изображение замкнуто, действие направлено внутрь «поля». Сцены среди природы, тем более с изображением человека, были чужды классическому скифо-сибирскому «звериному стилю», но в Сибирской коллекции мы находим такие композиции. Приведём примеры: на больших парных пластинах изображены два лучника, охотящиеся на кабана. Всадник преследует мчащегося во весь опор огромного кабана; другой охотник сидит на дереве и удерживает за повод испуганную лошадь. Охота происходит в гористой лесной местности. На горе стоит козёл и наблюдает охоту. [77] Вся сцена заполнена листьями и ветвями (илл. 24). На другой свёрнутой цилиндром пластине изображена сцена возвращения после боя пяти всадников с трупами убитых. Тела погибших, перекинутые через сёдла, показаны условно. В руках воинов оружие, на головах шлемы. [78] И, наконец, знаменитые парные пластины с изображением людей, отдыхающих под
деревом (илл. 25). В высокой шапке сидит женщина; положив голову ей на колени, спит мужчина, вытянувшись во весь рост. Оружие его висит на ветвях дерева. Тут же сидит третий человек, вероятно слуга. [79] Он держит осёдланных лошадей. Можно предполагать, что это — сцена из героического эпоса сибирских племён. [80]
Но рамка не всегда «распрямляла» скорченные и свёрнутые звериные тела. Это была лишь тенденция. В действительности же и в эту более позднюю эпоху в развитии скифо-сибирского искусства мы находим бляхи с деформированными фигурами зверей, а также «ребусные» композиции, составленные из частей реальных и фантастических животных. [81] Типичный для скифо-сибирского «звериного стиля» приём симметричного развёртывания фигуры на плоскости и выворачивания задней части зверя сохраняется на сибирских изделиях до начала I тысячелетия н.э. [82]
На описываемых бляхах мы замечаем стремление связать животных так, чтобы глаз смотрящего оценивал некоторые пространственные моменты. Например, обвитый змеёй волк: взгляд, следуя за линией змеи, как бы периодически пробегает по телу волка то с передней, обращённой к зрителю стороны, то, мысленно, по противоположной поверхности его тела (илл. 26). [83] На пластинах со сценой «Отдыха под деревом» лежащая фигура и лошадь показаны на переднем плане, дерево, сидящая в профиль и сидящая в фас фигуры — на заднем. При всей плоскостности изображения всё же формально здесь две плоскости изображения. Они отделяются друг от друга не перспективным сокращением масштаба, а показом пересечения одних форм другими. [84] На пластинах из Сибирской коллекции мы замечаем ряд художественных черт, которые отсутствуют в анимализме более раннего этапа. В раннескифскую эпоху образ животного трактовался так, что отдельные части тела, из которых составлялось весьма уравновешенное и гармоничное целое, стремились чётко обособиться друг от друга. Это был как бы пластический и потому «разъединяющий» стиль. Уже на примере алтайского искусства середины I тысячелетия до н.э. мы видели, что этот характер образа изменился, имея тенденцию выродиться в орнаментальный узор. Но даже в искажённых фигурах сохранилось это стремление обособить голову от туловища, выявить шею, оттенить глаз. На аппликациях это подчеркивалось цветом. Но в тиграх на Башадарском саркофаге мы чувствуем вместе с тем желание смягчить эту разделительную манеру: длинные пряди шерсти покрывают всё тело, создавая непрерывный переход форм туловища в ноги и хвост, хотя голова отделена всё же двумя большими завитками.
Ещё более эту тенденцию как-то объединить всё тело животного, «смазать» его объёмы и тектонику, стушевать членение тела на части чувствуем мы на пластине из Сибирской коллекции с изображением борьбы фантастических хищников — одного косматого, другого с гладким блестящим телом и мощным гребнем на загривке (илл. 27). [85] Тело первого хищника смотрится как единая масса благодаря линиям шерсти, связывающим все его части. Впечатление напряжения, борьбы усилено контрастом блестящих плоскостей металла и тех участков изображения, где поверхность, передавая шерсть животного, покрыта, как гофрировкой, волнистыми рельефными линиями. По сравнению с гладким телом второго зверя, где ощущается игра напряжённых мускулов, скрытых под блестящей кожей, мохнатый хищник представляется неуклюжим, несколько меланхоличным. Но зверь этот выглядит не менее мощным и достойным соперником первого. Мастер показывал не просто драку двух фантастических хищников, а борьбу и соединение в этой борьбе как бы двух стихий — где ловкость и гибкость противостоят малоподвижной силе, железные мускулы — массивности тяжёлого, сильного тела. Но именно от этого контраста тело второго, гладкого животного (расчленённость этого тела проявлена более чётко) создаёт впечатление всё же чего-то единого, однородной массы, принявшей форму тела животного. Но если на этой золотой пластине, как и на ряде других пластин и блях из Сибирской коллекции, видимо, более ранних, сцена в целом ясно читается, то на других
27Золотая бляха со сценой борьбы животных.Сибирская коллекция.(Открыть в новом окне) |
28Золотая диадема (?)Карагалинское погребение.(Открыть в новом окне) |
изделиях из этого собрания и на некоторых бляхах ордосского типа тенденция нарушить тектонику проступает в вычурно усложнённом, как бы скрадывающем все формы узоре.
Хорошим примером этих поздних «живописных» особенностей кочевнического «звериного стиля» рубежа новой эры может служить знаменитая шаманская золотая Карагалинская диадема (II в. н.э.), найденная близ Алма-Аты (илл. 28, 29). [86] Между двух полос, окаймляющих ее сверху и снизу, заключены сцены с крылатым драконом и сидящим на нём фантастическим существом в виде человека-птицы, с крылатым конём на постаменте и птицей, с козерогом, на котором сидит тоже человек-птица, с медведем, с всадником на горном архаре, с двумя маралами, самцом и самкой, и птицей между ними, с сидящим на тигре человеком и снова с крылатым конём на постаменте. Не вдаваясь в семантический анализ изображений, отметим, что здесь достигнуто не только ощущение единства и нерасчленённости формы каждого тела, но создано впечатление живописного единства изображения в целом. Всё — паутина линий, из сложного плетения которых с трудом выявляются то фигура зверя, то всадник... Все детали покрыты мелкой штриховкой, а раскиданные по всей диадеме вставки цветных камней усиливают ощущение единого движения и жизни на всей полосе этой шаманской короны. Интересно отметить, что вставки зелёных и красных камней помещены закономерно (в качестве глаза животного, или для подчёркивания его мускулов в соответствии со старой традицией скифо-сибирского стиля, или на бутонах и цветах растительных побегов). Но в целом они всё же создают живописный беспорядок, цветовой рефлекс, объединяющий весь предмет.
Утрата тектоничности чётко расчленённой формы приводила часто к перегруженности зооморфными деталями. На ряде блях (например, на круглой бляхе из Сибирской коллекции) [87] орнамент чрезвычайно перегружен цветными вставками, которые вообще заслоняют всякое изображение. Различается, да и то с трудом, фигура свернувшегося зверя в центре. Края же совершенно неразборчивы и покрыты орнаментом из овальных камней и вставок в виде запятых. Эти элементы вытесняют всякую изо-
29
Золотая диадема (?). Деталь.
(Открыть в новом окне)
бразительность, хотя в основе их расположения лежит зооморфная схема. Эта тенденция не менее ярко выступает и на западе, в скифо-сарматском мире. Флакон из Новочеркасского клада (I в. н.э.) [88] может быть примером такой перегруженности изображения декоративными орнаментационными деталями. Поверхность флакона воспринимается как бы покрытая «наростами» из этих деталей. Все фигуры слились в единую как бы «мятую» оболочку, скрадывавшую геометрическую форму предмета, уничтожающую всякую изобразительность.
Другой стороной процесса «отчуждения» изображения животного от предмета, его несущего, было постепенное нарастание геометрических мотивов в этом скифо-сибирском искусстве «звериного стиля». Стремление заменить органическую выразительность живой формы выразительностью геометрического тела наличествует уже в ранних изделиях скифо-сибирского анимализма. Мы видели, что при создании образов таких ранних произведений, как Келермесская пантера, Костромской олень, пантера из Сибирской коллекции, значительную роль играет тенденция к превращению частей животного в геометрические тела — сферы, конусы... Но эти тела были неотделимы от образа животного, входили как существенные компоненты замкнутого и самодовлеющего целого, как противовес деталям, более близким к природе. Позднее геометрические мотивы становятся основными в искусстве.
Рассмотрим мотив зооморфного окончания какого-либо предмета, имеющего вид согнутого стержня (браслет, гривна), на примере вещей из Сибирской коллекции. Возьмём несколько гривен, у которых окончания оформлены в виде животных, сделанных с большим пониманием функционального назначения вещи и её тектоники. Гривна, представляя собой спираль, должна производить впечатление уравновешенности двух движений пружины — закручивающего и распрямляющего. Толстый согнутый дрот создаёт ощущение упругости. Его массивный стержень напряжён и как бы хочет распрямиться. А помещённые на концах львиные грифоны, готовые к прыжку и устремлённые в противоположные стороны, увеличивают впечатление силы, закручивающей эту спираль (илл. 30, 31). [89] Специфика «звериного стиля», единство образа зверя и утилитарного предмета, его несущего, в этой гривне особенно ясно выявляется в сравнении с гривнами в виде нескольких незамкнутых полых гнутых трубок. [90]
Но в Сибирской коллекции есть гривна, построенная совсем по другому принципу. Это двусоставная гривна (илл. 32). [91] Она украшена ажурным геометрическим орнаментом. Художественный эффект возникает благодаря строгому ритмическому чередованию ромбов и кружков, расположенных двумя полосами, идущими по его поверхности. А на краю — фигуры лежащих хищников. Они спокойны и не создают никакого напряжения формы, — они служат лишь её украшением, и с таким же успехом их можно представить на крае сосуда, диадемы или любого другого предмета. Они не преследуют никакой иной художественной цели, кроме как образовать прихотливо изогнутый и свободно-ритмический край гривны. Главное переносится на оформление широкой полосы самого браслета геометрическим орнаментом. Таким образом, та часть, которая связана с функцией гривны — охватывающего шею кольцевидного предмета, — построена как геометрическое по своим формам изделие, а зооморфный
30Золотая гривна с львиноголовыми грифонами.Сибирская коллекция.(Открыть в новом окне) |
31Золотая гривна с львиноголовыми грифонами.Деталь.(Открыть в новом окне) |
рисунок — лишь декоративный придаток, украшающий край этой вещи и в значительной мере безразличный к выявлению функциональности её формы.
Интересна другая, более поздняя шарнирная гривна. [92] Она хранит воспоминание о спиральных гривнах и вместе с тем о гривнах, составленных из несомкнутых трубок (более раннего типа). Основа этой гривны состоит из наложенных друг на друга трубок. В ней нет никакого напряжения закрученной пружины, а есть лишь горизонтальное членение широкой плоскости, рифление, создающее игру света и тени на поверхности гривны. А животные, когда-то так убедительно передававшие силу, закручивающую спираль, теперь вырождаются в какое-то безликое и маловажное украшение её концов (илл. 33, 34).
Гривны на шарнирах, образованные из трубок, утратили и напряжение спиралевидной формы ранних зооморфных гривен и структурную ясность и спокойствие ранних восточных трубчатых гривен. В них главное — геометрический образ широкой охватывающей шею поверхности, расчленёенной тонкими полыми трубками. В более ранних гривнах конструкция из трубок была чётко выявлена, в этих же шарнирных гривнах она противоречит принципу устройства двусоставного на петлях предмета. Подчёркнутый геометризм образа не согласуется с конструкцией предмета, являясь чистой декорацией. [93]
Рассмотрим ещё одну гривну. В ней также художник не хочет создать никакого ощущения двух противопоставленных движений. Наоборот, этот несомкнутый стержень должен производить впечатление уравновешенности и покоя. Для этого на конец его помещают массивные навершия в виде двух львиных голов, в которых нет никакого движения. [94] Их могли бы заменить двумя шарами или грушевидными окончаниями — чисто геометрическими формами без всякой изобразительности (илл. 35).
Обращает внимание пластинчатый браслет с тремя поясами изображений, формально трактованных в «зверином стиле»: сцены терзаний с характерными элементами — вывернутая задняя часть зверей, подчёркнутые запятыми или треугольниками мышцы тела (илл. 36, 37). Характерно стремление заполнить всю поверхность предмета. Но на браслете главное не в этих изображениях, а в самой форме предмета. Чтобы подчеркнуть форму пластинчатого браслета, его поверхность расчленена на три зоны, отделённые друг от друга тройной линией. Если животные покрывали бы всю поверхность браслета, без деления на эти зоны, предмет казался бы слишком широким. А членение придает ему уравновешенность и гармоничность. Суть дела здесь в тектонике, в соразмерности частей, в геометрическом строении образа. Вытянутые в три узких пояска зооморфные изображения подчинены именно этой декоративной художественной задаче. [95]
Наконец, перед нами гривна без всяких изображений. [96] Эстетика живого анимализма с его экспрессией сменилась выразительностью геометрических линий. Круглый дрот покрыт нарезкой и имеет длинный совершенно гладкий щиток. Этот предмет создаёт поразительно завершённое впечатление на редкость удачным сочетанием геометрических форм. Закрученная винтовая нарезка контрастирует с гладкой плавной поверхностью щитка (илл. 38).
Геометризм и абстрактность форм были другой стороной процесса «отчуждения» изображения от предмета. Отделённый от предмета образ животного освобождался от необходимости подчиняться форме вещи, а вещь, освобождённая от связи с этим изображением, стремилась к выявлению своих собственных форм, что выступало в ряде случаев в рамках резко подчёркнутого геометризма. И это можно проследить не только на примерах Сибирской коллекции, но и на вещах из западного степного мира.
На знаменитой Новочеркасской диадеме [97] главное — в контрасте свободного блестящего поля металла с гладкими выпуклыми массивными вставками камней (илл. 39). Дополнительно предмет украшен сверху причудливой линией — бордюром с оленями,
32Золотая гривна. Сибирская коллекция.(Открыть в новом окне) |
33Золотая гривна. Деталь.(Открыть в новом окне) |
34Золотая гривна. Сибирская коллекция.(Открыть в новом окне) |
деревьями и уточками. Поставленные на верхний край диадемы (как бы на столбиках), животные получают естественную позу идущих зверей. Замкнутый образ сменяется здесь впечатлением чего-то незавершённого. Линии не только не замкнуты, а нарочито разветвлены в листьях деревьев и рогах животных. О единении образа животного и образа предмета в его функциях нет и речи. Функциональность выявлена плоским широким неизобразительным элементом диадемы — венчиком, расширяющимся спереди. Этот акцент на переднюю часть венчика создается массивной геммой и вставками. Животные наверху и подвески внизу независимы от этого основного элемента, они как бы на его крае и служат для того, чтобы «приладить» предмет к окружению (к волосам, лбу), как бы «прикрепить» его к внешнему миру, быть посредствующим звеном. Замкнутый, закрытый образ уступает место «открытой» форме. Это знаменует переход от «симбиоза» изображения и предмета, когда последний воспринимался как животное, а части животного были функциональными частями изделия, от того искусства, когда изображение зверя полностью связывалось с формой вещи (сначала как бы равноправное ему, а затем подчинённое), — к отделению изображения от предмета. Мы видели это «отчуждение» на примере блях с рамкой, которая давала возможность обособить изображение и создать композиции, сцены. Сарматская диадема показывает, как образ зверя «изгоняется» с основной части вещи, перемещается на её край. При этом, так же как и при возникновении рамки, животные получают более естественные позы и компонуются в сцены, где кроме них есть деревья, растительность. [98] Формы самих предметов, освободившись от изобразительности, словно стремятся закостенеть в своих геометрических очертаниях.
Тяга к геометризму прослеживается и в ажурных прямоугольных бляхах хуннского времени. Легко проследить на этих предметах, как зарождался переход к схематическим, линейным, геометрическим орнаментам. Например, бляхи из Иволгинского городища и Косогольского клада дают нам прямоугольную рамку, внутреннее пространство которой заполнено волнистыми полосками, изображающими змей, — зооморфный мотив превращен на этой бляхе в орнамент. [99] Ордосские бляхи с рамкой, украшенной типичными для изображений животных каплевидными ячейками (вероятно, имитация ячеек для инкрустации), дают внутри этой рамки чисто геометрический орнамент из зигзаговидных полос (илл. 40, 41). [100] Предмет создаёт свои суверенные геометрические формы, которыми теперь наслаждаются как величайшей художественной ценностью. Чем заполнены они — геометрическим орнаментом или животными изображениями, — вопрос второстепенный. Традиция заставляет ещё рисовать внутри этих форм зверей, но будущее за другими типами орнамента.
Именно в хуннскую эпоху становятся модными большие бляхи в виде полусферы без украшений с бортиком по краю. [101] В более раннее время тоже были подобные изделия, но чувствовалась тенденция заполнить чем-то большие выступающие, явно привлекающие к себе внимание сферические поверхности. То же следует сказать о массивных неукрашенных пряжках из кости. Что это — исключение такого рода предметов из области искусства или новое художественное чувство, находящее главную прелесть в соразмерности частей, масс и объёмов, для которого не требовалось украшавших предмет изображений? Последние становятся как бы чуждыми вещи, которая может восприниматься сама по себе как произведение искусства, без этих украшений. Одновременно изображение может теперь пониматься независимо от предмета, как автономный объект созерцания. [102]
[ Петроглифы и тепсейские планки. ] ^
Совершенно иную сферу искусства находим мы в степных петроглифах раннего железного века, в частности на Боярских писаницах в Минусинской котловине (II-I вв. до н.э.). [103] Перед зрителем возникают сцены жизни тагарских поселков с глинобитными и бревенчатыми домами, юртами, со стадами скота, котлами, кипя-
|
||
35Золотая гривна. Сибирская коллекция.(Открыть в новом окне) |
36, 37Золотой пластинчатый браслет. Сибирская коллекция.(Открыть в новом окне: 36, 37) |
|
щими на огне, и многочисленными фигурками самих жителей тагарского посёлка — то пастухов, то охотников.
В этих изображениях очень мало от классических черт скифо-сибирского анимализма — только некоторые детали в передаче зверей и вещей, но это формальное сходство; существо же образа другое. [104] Скифо-сибирский «звериный стиль» не был приспособлен для живописного повествования, создания сцен. Образ животного существовал в нем только в связи с предметом, как единичный замкнутый в себе образ. Перед нами два разных типа искусства: конструирование реального вещного мира с полезными человеку функциями — в предметах скифо-сибирского анимализма и создание иллюзорной картины мира в наскальных рисунках. [105]
Характерно, что большинство сложных сюжетных петроглифов относится к тагаро-таштыкскому переходному периоду или к таштыкской культуре, к той эпохе, когда, как мы видели, идет процесс освобождения изображения от предмета, изоляции его, появляются реальные возможности в пределах приёмов скифо-сибирского «звериного стиля» дать на вещах сцену, хотя бы намёк на повествование. Тогда-то расцветает изобразительность и на наскальных рисунках, тогда-то и появляются такие композиции, как Боярские писаницы.
Интересна находка в одном из таштыкских склепов III-V вв. н.э. у горы Тепсей на Енисее обугленных деревянных планок с гравировкой, сходной в ряде черт с наскальными рисунками. Миниатюрные раскрашенные рисунки из склепа передавали сцены, быть может, героического эпоса и преданий местных племён. Воины, конные и пешие, с луками и стрелами, иногда в доспехах мчатся, стреляют, падают, угоняют добычу, охотятся. От них убегают олени, медведи и другие звери. Все рисунки выполнены весьма реалистично, хорошо передано движение, особенно стремительный скок стройных оленей с ветвистыми рогами, бег когтистого, неуклюжего, толстого медведя. [106]
Архаический скифо-сибирский анимализм не допускал компоновки фигур: они лишь размещались рядом друг с другом без всякой композиционной связи. На рукоятке
топорика из Келермеса или на поясе и диске из Саккызского клада звери не образуют никакой композиции — они просто сосуществуют — самодовлеющие, автономные образы. Процессия животных, какую мы, скажем, имеем на Майкопском сосуде (III тысячелетие до н.э.), в собственно скифском искусстве заменяется безразличным размещением по одной линии или по кругу совершенно независимых друг от друга фигур. В V-IV вв. до н.э. появляются сцены терзаний — особые парные композиции, далёкие от реальной жизни. Когда требовалось развить эти сцены для заполнения поверхности большого предмета, древние художники могли создать только ковровый узор из звериных тел. В хунно-сарматское время появляется возможность сопоставления их, возникает художественная связь между ними. Примечательно, что рисунки в «зверином стиле», размещенные на предмете без особой зависимости от его формы и функции, но в композиционной зависимости друг с другом, были возможны только в самом начале зарождения этого стиля, когда «симбиоз» образа животного и предмета ещё только создавался. Таковы, например, роговые пластины из Жаботина на Украине, [107] где предмет лишь «предоставляет» художнику свою поверхность, который свободно располагает на ней рисунки. В этих пластинах явственно проступают частные черты «звериного стиля» последующих веков, но без главной его особенности — органической связи изображения с предметом и замкнутости образа. Жаботинские пластины отражают ещё не сложившуюся связь предмета и изображения, вследствие чего используют предмет часто без учёта рисунка на нём, о чём говорят отверстия в пластине, нарушившие рисунок. [108] Тепсейские пластины — образец изобразительности, проявившейся в конце развития «звериного стиля», когда эта взаимозависимость стала ослабевать.
[ Четыре ступени эволюции. ] ^
Итак, в период III в. до н.э. — II в. н.э. мы наблюдаем разнородные и противоречивые явления. С одной стороны, помещённые в рамку больших блях изображения животных как бы выпрямляются, обрамление в ряде случаев возвращает естественные очертания их позам, изломанным и деформированным вследствие подчинения образа животного форме вещи. С другой стороны, появляются крупные квадратные или прямоугольные бляхи с подчеркнуто-геометрическим орнаментом, в которых все акценты сделаны именно на эстетике прямого угла, волны, геометризма, неизобразительности. Перед нами проходят вещи с явно подчёркнутыми геометрическими формами и одновременно появляются предметы, где неровная поверхность, покрытая выступами перегруженного декора, скрадывает форму. Мы можем найти вещи, демонстрирующие в высшей степени замкнутый образ, «закрытую» форму, и синхронные им изделия, где животное как бы «выходит» из границ предмета, устремлённое в своём движении за его пределы. Мы находим изображения пластически расчленённые и вместе с тем замечаем тенденцию к созданию образа с плавным переходом, «перетеканием» составляющих его форм одна в другую.
Указанное время в искусстве скифо-сибирского «звериного стиля» было переходной эпохой, полной новых течений. Это сказалось в сосуществовании различных художественно-эстетических норм. Замкнутый, покоящийся в себе образ животного, независимый с художественной точки зрения от той среды, в какую он помещён, образ зверя, спаянного с вещью и её функцией, постепенно превращается в украшение поверхности предмета, связанное с формой последнего лишь постольку, поскольку необходимо вместить его в контур предмета. Изображение превращается в декор, а иногда вырождается в орнамент. Но далее разрыв органической связи предмета и образа животного приводит к «отчуждению» образа. Оно происходит разными путями: помещением изображения в рамку и созданием изобразительного поля, помещением фигур на край предмета, который служит этим изображениям линией земли. Этот процесс связан с постепенным нарастанием в образе предмета геометрических форм, подчёр-
киванием его тектоники. Изображения животных заполняют теперь поверхность, расчленённую предварительно на главные геометрические и тектонически необходимые зоны. Выразительность достигается не в силу образа животного, а в силу выразительности геометрических форм предмета, их динамики, сопоставленности, гармонии или контраста.
Назовём четыре логические ступени в эволюции скифо-сибирского «звериного стиля».
1. Создание замкнутого, уравновешенного, единого целого в гармонии пластически самостоятельных и вместе с тем связанных тектонически частей. Создание автономных и суверенных образов как отдельного зверя, так и «зверя-предмета».
2. Полное подчинение изображения предмету, превращение частей животного в орнамент, покрывающий большие поверхности.
3. «Отчуждение» изображения животного от предмета, включение его в рамку, придание изображению характера сцены с определённой тенденцией к естественности и правдивости позы животного.
4. Отрыв изображения от предмета, вынос его за границы предмета. «Отчуждение» предмета от изображения, приводящее к появлению изделий, где эстетический акцент переносится на геометрические формы предмета, в которых находят новую красоту.
Эти ступени в развитии стиля исторически переходили одна в другую очень неравномерно и порой сосуществовали друг с другом.
Возможность перехода к геометрическому этапу заложена была ещё в подчёркнутой выразительности геометризованных форм в бляхах VI в. до н.э. Позднее, в начале I тысячелетия н.э., на западе степей этот процесс протекал в условиях сильного влияния геометрического стиля эпохи варварских королевств, возникших на развалинах Римской империи, и потому был более ярким и определённым.
Здесь не место решать сложные вопросы о месте производства тех предметов, выполненных в полихромном геометрическом стиле с инкрустациями и вставками, которые так широко были распространены в IV-V вв. н.э. в Юго-Восточной и Юго-Западной Европе, а на востоке доходили до Казахстана и Киргизии. [109] Возможно, некоторые художественные вещи, встречающиеся главным образом в степях и лесостепях Восточной Европы, были изготовлены в старых центрах Причерноморья, подвергшихся варваризации и бывших с начала новой эры под сильнейшим воздействием поздних сарматов, готов, гуннов и тому подобных кочевых племён. [110] Эти изделия отражают вкусы и стиль этой варварской аристократии так же, как большинство высокохудожественных вещей из скифских курганов.
Но искусство греческих городов Причерноморья I тысячелетия до н.э. отражало эти вкусы поверхностно. Оно оставалось греческим, само формировало вкусы скифских вождей и царей, уступая им только в сюжетике. Искусство IV-V вв. н.э. в Причерноморье было перенесением варварского стиля на почву городского высококвалифицированного ремесла, и потому мы вправе рассматривать его при изучении искусства кочевников этой эпохи. [111] В Сибири искусство номадов проходило этот этап стиля более самостоятельно и изолированно, и геометризм развивался здесь в более скрытом виде.
[ Геометрический этап. ] ^
На геометрическом этапе искусство древних кочевников вновь приобрело ту завершённость и замкнутость образа, которые ослабели в переходный период III в. до н.э. — II в. н.э. Но эти качества достигаются не равновесием крупных зооморфных изображений, а архитектоникой расчленённых геометрических форм. Структура предмета, составленного из нескольких четких и ясных абстрактных фигур и объёмов, усилена ещё внутренним орнаментом.
38
Золотая гривна. Сибирская коллекция.
(Открыть в новом окне)
В искусстве ощущается тяга к упрощённой грубоватости, как бы аляповатости — она нравится теперь больше, чем тонкая ювелирная разделка поверхности, чем изгибающиеся плавные линии тел животных или перегруженный деталями декор. Достаточно сравнить флакон и золотой футлярчик из Новочеркасского клада с эмалевыми бляшками и с плоским флакончиком с цепочкой [112] из того же погребения или с инкрустированными бляшками из погребений у Морского Чулека на Азовском море (IV-V вв.). [113] На флаконе и футляре форма как бы смята, она вся покрыта выступами сложных и вычурных зооморфных форм. Бляшки производят художественный эффект именно своими подчёркнутыми плоскостями, на которых инкрустация и поля между вставками образуют одну поверхность. Взгляд с особым удовлетворением скользит по ней, оценивая каждый раз переход от блестящей плоскости золота к стекловидной массе полихромных вставок. В искусстве степи IV-V вв. каждая форма чётко отделена от другой, и цельное впечатление строится на хорошей и точной сопоставленности автономных и расчленённых между собой деталей.
Очень характерны колты, найденные у хутора Верхне-Яблочного на Дону (IV-V вв.). [114] Здесь круглые цветные вставки также отделены от фона зерневыми ободками, а сам фон украшен треугольничками из зерни. Контраст возникает при сопоставлении плоского фона золота, зерневой поверхности орнамента и гладких выпуклых массивных вставок; контраст форм овального щитка и треугольничков орнамента умело дополнен здесь контрастом фактур и противопоставлением массивной овальной основной формы и радиальных стержней с шаровидными окончаниями.
Очень характерны для этого стиля были золотые диадемы с каменными вставками. Недавно открыта диадема у села Антоновки в Северо-Западном Причерноморье. Простая электровая полоса, и на ней в вертикально поставленных ячейках размещаются красные прямоугольные, каплевидные и круглые вставки. Сохраняется симметрия. Большая прямоугольная вставка помещена в центре. Но ощущение грубой упрощённости, небольшой неточности расположения деталей, некоторой асимметрии, как бы аляповатости не оставляет нас, когда мы смотрим на это изделие. Контраст желтовато-белёсого металла и сочных красных гранатов красноречив и выразителен. В грубой красоте этой диадемы есть какая-то сила новизны, свежести и простоты. Простота здесь не от неумения, это эстетический замысел.
Другого типа диадема найдена в Казахстане у Кра-Агача. [115] Полоса золота вся покрыта треугольничками зерни. Мелкий, дробный и очень простой, уже знакомый нам орнамент не создаёт ощущения размельчённости и беспокойства, поскольку это единственный декор, нанесённый на диадему. К верхнему краю диадемы прикреплены проволочные прутики, и на них подвешены золотые, свёрнутые из пластинок конусовидные подвески. Художественное впечатление от изделия строится на контрасте массивной полосы самой диадемы и свободно подвешенных, лёгких, подвижных блестящих и гладких конусов-подвесок. Они раскачиваются на фоне золотого венца, при каждом движении головы создавая игру света и тени на его поверхности, которая усилена особой фактурой зерневых орнаментальных треугольничков, равномерно покрывающих диадему без пропусков, без узоров. Лёгкая асимметрия также оживляет простую, как бы абстрактную форму. Усложнив контур и формы диадемы подвесками, мастер тут же спешит уровновесить это простотой и весомостью самой золотой полосы, что достигается именно непрерывностью зерневого орнамента.
Иногда эти диадемы, сделанные из сплошной полоски металла, украшались резаным фигурным фризом, который представлял собой полукруги на широких «ножках». Чёткий ритм слегка разнящихся между собой цветных сердоликовых, альмандиновых и гранатовых вставок, отливающих всеми тонами красного и красно-жёлтого цветов, повторялся в этом фигурном фризе, также украшенном зернью и вставками красноватых камней. Такая диадема найдена была у села Верхне-Яблочного вместе с описанными уже выше колтами.
39 Золотая диадема. «Новочеркасский клад».(Открыть в новом окне) |
40Бронзовая пряжка с геометрическим узором. Ордос.(Открыть в новом окне) |
Таких диадем, которыми украшали себя знатные женщины этой эпохи, в степях Евразии, от Киргизии до Венгрии и Румынии, найдено больше двадцати.
41
Бронзовая пряжка с изображением змей. Ордос.
(Открыть в новом окне)
Яркое выражение геометризм находит в вещах, подобных мечу из-под деревни Дмитриевки, близ Бердянска, с лиловыми вставками на золотой оправе перекрестия [116] или гривне из Суджинского богатого погребения (рубеж IV-V вв.). [117] Эта замечательная золотая гривна воздействует на зрителя контрастом гладкого толстого дрота и щитка с инкрустацией, поставленного поперёк плоскости всего предмета. Формы его просты. Узор на щитке строго тектоничен и подчеркивает его круглую форму. Без цветных узоров щиток смотрелся бы как-то убого, как второстепенная деталь по сравнению с массивным блестящим телом самой гривны. Акцентированный этими вставками, он превращается в самостоятельный компонент всего образа, достаточно выделенный и значительный и вместе с тем точно соответствующий второму компоненту, ему противостоящему,— гладкому дроту. В целом возникает ощущение поразительной точности мастера, создавшего такую простую и законченную вещь, где ничего нельзя ни добавить, ни убрать.
В изделиях IV-VI вв. [118] наряду с их геометризмом сохраняется много от анимализма предшествующего периода. Иголку от пряжки изображают в виде клюва птицы. Деталь узды из села Кудинетова Терской области [119] трактована как четкая геометрическая фигура — прямоугольник, украшенный вставками с мощными линиями краёв, образующими два ряда треугольников. Край подчеркнут бусинным ободком. Плоская форма переходит в шаровидную с четким разделением в виде тройных ободков, а затем снова переходит в плоскую, контур которой тоже подчёркнут бусинками, а поверхность выложена вставками. Но окончание — зооморфное (глаз и клюв птицы), причём каждый элемент формы чётко отделён от соседних зерневым орнаментом.
Геометризм изделий начала и середины I тысячелетия н.э. явился как бы последним средством для создания замкнутых уравновешенных и тектонических образов. Зооморфные мотивы были неспособны больше давать материал для этих образов. Искусство нашло его в абстрактном геометризме.
Но в степном искусстве начала I тысячелетия н.э. продолжали жить и иные, «сенсорные» образы животного мира. На востоке степей они встречаются на протяжении всего периода скифо-сибирского анимализма. Быть может, они были наследием первобытного искусства. Достаточно в качестве примеров присовокупить к упоминавшимся выше фигуркам животных из кургана Катанда на Алтае статуэтки зверей из таштыкских склепов, чтобы почувствовать, что эта линия в сибирском искусстве не затухала, а шла самостоятельно, параллельно искусству «звериного стиля» скифского типа. Свободные от подчинения форме предмета, они образуют в высшей степени «открытые» формы.
Отголоски таких образов находим мы и в западных степях гуннского времени, но всегда они связаны с комплексами, этнос которых может быть сопоставлен с пришельцами из глубин Азии. Ярким примером может быть богатое погребение IV — начала V в. на Беляусе в Крыму, где найдена золотая обкладка фигурки лошади — подобные фигурки были характерны для гуннов. [120] Можно предположить, что в восточном степном искусстве раннего железного века черты архаического реализма были сильнее и устойчивее, чем в западном.
[1] Публикации вещей см.: Руденко, 1953; Руденко, 1960; Руденко, 1961; Руденко, 1968. Книги С.И. Руденко показали влияние Древнего Востока на алтайское искусство «звериного стиля». В этом отношении, а также в отношении археологическом это весьма важные исследования. Но они довольно скудны в отношении искусствоведческого анализа. Автор избегает его, заменяя или восторженными эпитетами, или археолого-технологнческим описанием вещей, или исследованием приёмов обработки материала художественных изделий. Это характерно для трактовки «звериного стиля» в археологической литературе. При знакомстве с произведениями «звериного стиля», найденными в алтайских богатых курганах — Башадарских, Пазырыкских, Туэктинских и др., — следует учесть дискуссию о датах Пазырыкских курганов. С.И. Руденко и М.П. Грязнов считают их относящимися к скифской эпохе, то есть примерно к середине I тысячелетия до н.э.; С.В. Киселёв, К.Ф. Смирнов, Л.Р. Кызласов и Л.А. Евтюхова относили их к гунно-сарматской эпохе, то есть к последним векам I тысячелетия до н.э., приведя довольно серьёзные аргументы (см.: Киселёв, 1951, стр. 327 и сл.; Грязнов, 1947; Кызласов, Смирнов, 1954; Грач, 1967).
Несмотря на дополнительные аргументы датировок, приведённых С.И. Руденко в позднейших изданиях, дискуссия оконченной считаться не может. Здесь не место для изложения деталей спора, и он не особенно влияет на наши построения.
[2] Сопоставления скифских изображений животных с древневосточными привели к концепции «иранства» как некоей стихии, противостоящей эллинству и Риму в степях Евразии. Концепция нашла яркое выражение в работах М.И. Ростовцева (Ростовцев, 1918 (I), стр. 45 и сл.).
[3] См., например: Членова, 1967, стр. 127; Дэвлет, 1965 (I), стр. 240-242.
[4] Сейчас нет ни одной убедительной гипотезы, объясняющей этот мотив у номадов Евразии I тысячелетия до н.э. Были высказаны предполоения, что эти сцены отражают борьбу родов или племён, выраженную в борьбе их тотемов, или борьбу добра и зла и т.п. (см.: Гольмстен, 1933, стр. 114 и сл.). Существует мнение, что сцены «терзаний» животных являются мифологическим отражением социальных процессов эпохи разложения первобытнообщинного строя. Исследователи видят в них утверждение «права сильного», прославление победы. Это увязывается с «жестоким» характером эпохи, когда грабёж и война стали обычным занятием аристократии, которую и обслуживало главным образом искусство скифо-сибирского «звериного стиля». Сценам «терзаний» придавали и геральдический смысл, видя в них эмблему рода (Гольмстен, 1946).
[5] Руденко, 1953, рис. 158, 159, 161, 163, табл. XXVII, 1.
[6] Там же, табл. CXIV, LXXXVIII. Антропоморфные изображения с звериными чертами некоторые исследователи связывают с культом родовых и племенных прародителей из мира звериных тотемов (см.: Артамонов, 1961 (II); Ельницкий, 1970).
[7] Публикация этих вещей и исследования см.: Руденко, 1962 (I). О датировке некоторых блях со сценами «терзания» и борьбы из-за добычи началом новой эры см.: Спицын, 1901 (I); см. также: Артамонов, 1971 (I).
[8] Руденко. 1962 (I), табл. I, 1, 4; V, 2, 3; VIII, 5, 6.
[9] Киселёв, 1951, табл. XXI, 1, 3-13; XXIV, XXV; Членова, 1967; Маннай-Оол, 1970, рис. 3, 8, 10, 19, 20, 22, 23. «Звериный стиль» в уюкской культуре сходен со стилем изделий из Пазырыкских и Башадарских курганов. См. об этом: Грач, 1967.
[10] Черников, 1965, табл. XI, XIII, XV.
[11] Толстов, 1962, стр. 184 и сл.; Толстов, Итина, 1966, рис. 7, 15, 16.
[12] См. «Археологические открытия 1970 г.», стр. 408. Кроме того, приведём ещё некоторые выдающиеся находки: фигурки горных козлов, золотые бляшки из фольги в виде тигроподобных животных из кургана Тасмолы VII-VI вв. до н.э. в Павлодарской области, бронзовая пряжка со сценой нападения тигра на верблюда и ременная накладка в виде фантастического животного и двух орлов, бляха из рога в виде свернувшегося кабана из погребения IV-III вв. до н.э. могильника Карамурун в той же области. К III-II вв. до н.э. относится знаменитая Берккаринская пряжка с изображением головы льва, держащего в пасти птицу, а также ряд других изделий. См. публикации и исследования: Бернштам, 1947; Бернштам, 1948; Акишев, Кушаев, 1963; Нурмухаммедов, 1970.
(190/191)
[13] См.: Зимма, 1941; Бернштам, 1952, стр. 40-50; Бернштам, 1954; Мартынов, 1955; Артамонов, 1966 (II), табл. 47.
[14] [Сноски в тексте нет, позиция восстановлена по смыслу.] См.: Ghirshman, 1950; Godard, 1950; Пиотровский, 1954; Максимова, 1954; Артамонов, 1966 (II), табл. 1-3, 6-19, 21-23, 29-33.
[15] Граков, 1950, стр. 7.
[16] См. основные публикации и исследования: «Древности Геродотовой Скифии», 1866, 1872; Толстой, Кондаков, 1889; Boroffka, 1928; Rau, 1929; Rostowzew, 1931; Tallgren, 1933; Schefold, 1936; Minns, 1942; Граков, 1947 (I); Погребова, 1948; Rice, 1957; Пестрякова, 1956; Шилов, 1959; Погребова, 1950; Смирнов, 1964; Маловицкая, 1967; Артамонов, 1966 (II).
[17] См., например: Boroffka, 1928; Черников, 1965, стр. 129, 130; Ильинская, 1965 (II), стр. 100; Артамонов, 1966 (I), стр. 251.
[18] Связь анимализма скифо-сибирского искусства с древними верованиями ни для кого не была предметом сомнений. «В общем и целом, изображения животных и птиц, включая сюда и фантастические существа, играли роль оберегов, апотропеев и воплощали в себе добрые и злые космические силы, наполнявшие мир и так или иначе влиявшие на судьбу человека как при жизни, так и в загробном мире. С этим значением скифское искусство возникло, с ним же оно существовало до самого своего конца» (Артамонов, 1968, стр. 45; Артамонов, 1961 (II), стр.76). Можно усматривать в зооморфных изображениях на скифо-сибирских навершиях и штандартах тотемные знаки, которые были также и охранительными знаками, подобно навершиям-штандартам ряда сибирских и тюрко-монгольских племён (см.: Окладников, 1948, стр. 222 и сл.; см. также: Гольмстен, 1933, стр. 100 и сл.; Schefold, 1936, S. 64 u.a.; Збруева, 1947, стр. 38; Погребова, 1948, стр. 67; Шлеев, 1950; Ельницкий, 1960, стр. 54). Схему возможной эволюции семантики этого первобытного анимализма дала В.В. Гольмстен: «В первобытных охотничье-рыболовских родовых группах мышление рождало образы животных вполне реальные, возможно точно повторяющие природный вид животного. Это отвечало определённым магическим требованиям...» В более развитом земледельческо-скотоводческом обществе образ зверя приобретает бóльшую „спокойность” и „напряжённость” и осмысливается в связи с космическими воззрениями и представлениями родовых отношений. Это тотемы, звери-предки, хранящие благополучие рода, защищающие его, помогающие ему. В условиях военной демократии развиваются фантастические звериные образы (именно к этой стадии, по В.В. Гольмстен, относится и скифское искусство), и для них характерна мощь, сила, кровожадность, сцены терзания. С иным переосмыслением они переходят в классовое общество, получая геральдическое значение. Но чёткость этой схемы, справедливо признаёт В.В. Гольмстен, нарушается пережиточными элементами идеологии (Гольмстен, 1946). Об изделиях «звериного стиля» как о клановых эмблемах и о их магическом значении писал Г. Андерсон (Andersson, 1932, р. 315). Об охранительном значении зооморфных ручек писали многие: Скалон, 1941; Кастанаян, 1951; Литвинский, 1968, стр. 10 и сл. Слабее в литературе отображена другая особенность идеологии, нашедшая в этом скифо-сибирском искусстве отражение: анимизм и аниматизм, наделение предметов душой, отношение к мёртвой материи как к живому существу, отождествление сделанного человеком изображения зверя с самим зверем — особенность, свойственная древнему мышлению всего человечества на определённой стадии развития. Распространена в исследованиях по скифо-сибирскому «звериному стилю» тенденция связывать ряд образов с астрально-космическими понятиями, изображения коней и орлов с культом солнца и т.п. (Ильинская, 1965 (I), стр. 209-211), рыбу, птицу и змею с культом стихий воды, неба и земли (Мацулевич, 1933, стр. 586 и сл.; Мацулевич., 1934, стр, 103; см. также: Григорьев, 1948, стр. 55 и др.; Артамонов, 1971 (II), стр. 33-34). Б.Н. Граков сомневался в тотематическом содержании образов «звериного стиля» у скифов; он считал, что это были символы божеств — конь, орёл, грифон Гойтосира, олень, баран Апи. Этими символами покровительство божеств «призывает на себя и на своего коня человек, скиф ли он, меот ли, будин ли или кто-то другой по этнической принадлежности» (Граков. 1971, стр. 86; об этом см. также стр. 99-100).
[19] Это отметил уже Н. Феттих в 1928 г. «В скифском искусстве, — писал он, — животные или группы животных имеют внешние формы уравновешенные и единые (forme exterieure équilibrie et unie), что открывало путь к схематизации». Н. Феттих находил отличие фракийских оленей от скифских именно в отсутствии у первых этого единства деталей и замкнутости образа (Fettich, 1928, pp.33-35; см. также: Артамонов, 1961 (I), стр. 35-36; Артамонов, 1971 (II), стр. 25).
[20] Предполагалось, что изображён летящий олень (Черников, 1965, стр. 31), олень, приготовившийся к прыжку (Ростовцев, 1925, стр. 318), лежащий олень (Толстов, Кондаков, 1890, стр. 35), олень в летучем галопе (Арциховский, 1947, стр. 97), приготовленный к жертве олень (Вязмитина, 1963, стр. 164), в средней стадии прыжка (Граков, 1971, стр. 99).
[21] Артамонов, 1966 (II), табл. 62-63. Приём передачи тела животного большими наклонными плоскостями весьма характерен для скифо-сибирского «звериного стиля». По-разному освещённые поверхности золота создавали поразительную игру света и тени. Очевидно, этот приём ведет своё происхождение от техники резьбы по дереву и кости, в которой и зародился, как считают исследователи, скифо-сибирский стиль анимализма I тысячелетия до н.э. (Шилов, 1966, стр. 187, Ильинская, 1965 (II), стр. 88; Артамонов, 1948; стр. 173, 175; Артамонов, 1961 (I), стр. 35 и сл. Граков, 1971, стр. 100).
[22] Артамонов. 1966 (II), табл. 1, 6, 7, 10-15, 21.
(191/192)
[23] Адрианов, 1916, стр. 59; Руденко. 1960, стр. 11, рис. 3; Руденко, 1962 (I), табл. VI, 1.
[24] Артамонов, 1966 (II), стр. 11, рис. 5.
[25] Там же, табл. 58, 61.
[26] Там же, табл. 81.
[27] Там же, табл. 115.
[28] Руденко, 1953, табл. XXXV, 3, XXXVI, 3.
[29] Здесь мы под термином «открытый» и «закрытый» («замкнутый») образ понимаем то, что вкладывал в эти понятия Г. Вельфлин: «Замкнутым» мы называем изображение, которое с помощью большего или меньшего количества тектонических средств превращает картину в явление, ограниченное в себе самом, во всех своих частях объясняющееся собою самим, тогда как стиль открытой формы, наоборот, всюду выводит глаз за пределы картины, желает показаться безграничным, хотя в нём всегда содержится скрытое ограничение...» (Вельфлин, 1930, стр. 145-146).
[30] Эту черту скифского стиля отмечали многие исследователи (см.: Артамонов, 1948, стр. 173; Артамонов, 1968, стр. 27), сводя обычно эту связь к хорошей вписываемости изображения в очертания предмета. Дело здесь в более глубоких явлениях. Связь изображения с формой предмета определяла ряд вырабатывавшихся постепенно канонических поз: например, свернувшийся в кольцо хищник, что наглядно видно на изделиях раннего периода скифского искусства; барс на костяной бляхе из Темир-горы (VII в. до н.э.) не свернулся в кольцо, а припал к нему, являя собой как бы промежуточный этап «сгибания» хищника в кольцо (Шкурка, 1969, стр.34). См. также бронзовую фигуру пантеры, «припавшей» к подковообразной пластине из Журовки VI в. до н.э. (Артамонов, 1966 (II), табл. 77). О том же см.: Членова, 1967, стр. 127. Зверя «разгибали» и «сгибали», как того требовала форма предмета, пока он не «застыл» в канонической позе.
[31] Тэйлор, 1939, стр. 375 и сл.
[32] Эту особенность скифо-сибирского «звериного стиля» в тагарском искусстве хорошо определила на ряде примеров Н.Л. Членова: «...оружие не просто полагалось украшать какими-нибудь фигурами животных, но каждый вид его требовал более или менее определённого животного. Так, чеканы украшали исключительно головками хищных птиц (помещавшимися в углу между бойком и втулкой), как и чеканы с других территорий (Нижнее Приобье, Урал, Прикамье), причём здесь эти головки помещаются не только под бойком, но иногда и на верхней части втулки. В последнем положении они переходят и на нижнеобские и ананьинские секиры. Наконец, в скифских курганах Причерноморья известны бронзовые молоточки, острый конец которых оформлен в виде головы и клюва хищной птицы. Совершенно очевидно, что этот род оружия ассоциировался с хищной птицей. Да и самое слово „клевец” (подобное чекану оружие, существовавшее в Московском государстве) происходит от слова „клевать”, пробивать клювом. В этой же связи интересно отметить, что в северо-западной Монголии, где в фольклоре сохранилось очень много архаического, Г.Н. Потаниным записана сказка о птице харцига-шибо (коршуне), которая „в прежнее время получала с неба силу и власть пробивать черепа у людей и есть их мозг”. Клевец, или чекан, служил, как известно, для пробивания черепов. Может быть, хищная птица, головка которой помещается на тагарских чеканах, — это именно коршун. Головки хищных пгиц на перекрестьях кинжалов, на уступах ножей, между ручкой и лезвием связаны, быть может, с назначением перекрестья ножа защищать, охранять руку от поранения. А грифоны, в том числе и птицеголовые, мыслились всегда как стража и охрана, и эта их функция едва ли не важнейшая начиная со времени их появления у хеттов» (Членова, 1967, стр. 120). Об этом же см.: Граков, 1947 (I), стр. 76-84; Смирнов, 1964, стр. 244; Рикман, 1969, стр. 32; Граков, 1971, стр. 99-100.
[33] Абаев, 1949, стр. 37, 179, 198.
[34] Руденко, 1953, табл. LXXI, LXXII.
[35] В маскировке коня под оленя, быть может, отразилась сопричастность коня оленю как древнему верховому животному (Хенсель, 1970, стр. 15). Катандинский олень, возможно, является изображением замаскированного под оленя коня или гибридным образом коня-оленя (Грязнов, 1950 (I), стр. 120).
[36] Руденко, 1953, табл. LXIX, 1.
[37] Артамонов, 1966 (II), табл. 126.
[38] Бернштам, 1947.
[39] Руденко, 1960, рис. 141.
[40] Это стремление во многом определяет стилистику скифо-сибирского анимализма, конкретно в разных районах проявившуюся по-разному. Так, например, скифские мастера раннего периода прибегали к приёму, при котором на вещи делаются дополнительные усложнения контура, соответствующие некоторым деталям изображения, нанесённого на плоскость предмета. Хорошо это видно на псалиях из Ульского кургана VI в. до н.э. (Артамонов, 1966 (II), табл. 56). На вогнутых гранях широких окончаний сделаны выемы и курватуры, соответствующие лапам хищников, выгравированных на плоскостях. Глаз плавно скользит вдоль совершенно ровной округлой линии на выпуклой грани этих псалий, затем следит за закрученным спиралью окончанием, превращающимся в клюв хищной птицы, и возвращается по вогнутой грани предмета, где имеются эти выемы, которые останавливают взор, заставляют зрителя сосредоточить внимание на гравированных рисунках внутри контура предмета. Воспринимая наиболее подчёркнутые детали художественного образа — энергичный, полный выразительности контур вещи, — зритель одновременно втянут и в «жизнь» звериных существ, нарисованных внутри этих линий, на лопастях псалий.
[41] Руденко. 1953, табл. XLVIII, 1, LIII, 1.
[42] Там же. табл. XLVIII, 2.
[43] Там же. табл. LXXXI, 3.
[44] Естественно, что позднее закрепились определённые схемы совмещения частей животных, которые
(192/193)
стали устойчиво повторяться. Но наряду с каноническими грифонами разных типов в скифо-сибирском анимализме мы имеем тенденцию соединять части животных беспорядочно, или рисовать на одном тело другого или части его, или объединять механически нескольких зверей, просто тесно прижав их друг к другу, как бы соединив тем самым их функции. Например, олень из Куль-Обы IV в. до н.э. (Артамонов. 1966 (II), табл. 264, 265). Греческий компонент, который наличествует в этом изделии, заставил мастера показать, что хищник впился в шею оленя, но в целом получилось простое соединение нескольких изображений: под шеей оленя — фигура хищника, на тулове — грифон, лев и заяц. Интересна в этом отношении и роговая пластина из Пятимары (Смирнов, 1964, стр. 240, рис. 33). Здесь изображена сцена терзания двумя хищниками — медведями горного козла. Но козёл так велик, а хищники так малы и, кроме того, так механически приставлены своими пастями к округлой морде и колену козла, что «терзание» превращается просто в соединение разных животных. Нам представляется, что в сцене терзания и в простом наложении одного зооморфного изображения на другое можно видеть разные стороны одного явления — соединения несовместимых в природе частей, мистически воплощающих различные свойства зверей. Когда на теле оленя рисовали грифона или хищника, то имели в виду примерно то же фантастическое, синтетическое существо, представления о котором заставляли изображать сцены терзаний. В этом отношении особенно интересно навершие из кургана Слоновской Близницы с изображением героя, борющегося с чудовищем (Граков, 1950, стр. 14). Чудовище изображено терзающим какое-то другое животное. Сцена терзания была бы несовместима здесь со сценой борьбы, если бы понималась древними непосредственно и прямо: не мог же фантастический зверь одновременно бороться с героем и терзать другого зверя. То же можно сказать по поводу круглой бляхи из кургана V — начала IV в. до н.э. из Белгородской обл. (Пузикова, 1966, рис. 29, 4). Очевидно, здесь терзание — приём совмещения различных звериных существ. Мотив борьбы и терзания зверей пришелся по вкусу кочевникам Евразийских степей, быть может, именно потому, что в нем они увидели естественное слияние и объединение несовместимых в природе частей, возможность создания особых «сверхсинтетических» существ, в которых мощный хищник сливался бы с быстроногим оленем, и т.п. Быть может, именно этим объясняется частое в скифо-сибирском «зверином стиле» изображение жертв, безразличных к тому, что в их тела впиваются клыки и зубы хищников. См., например, оленя из Куль-Обы, деревянную бляху из Катандинского кургана (Руденко, 1953, табл. LXXXII, 4), ряд блях из Сибирской коллекции Петра I (Руденко, 1962 (I), табл. IV, 2; VIII, 5-8). Грекам это было непонятно, и они придавали сценам терзаний действительно «жестокий» характер, передавали страдания, муки жертвы и т.п. (Артамонов, 1966(II), табл. 116, 118, 120, 122, 161, 170 и т.п.). При всей своей экспрессии и динамизме собственно скифо-сибирские сцены терзаний нельзя назвать «жестокими». Кочевники смотрели на эти сюжеты другими глазами, чем греки, и подчёркивали в них больше всего полное взаимопроникновение одного существа в другое.
То же можно отнести ко многим сценам «преследований». Например, «преследование» двумя хищниками кабана на ножнах от меча из Ушаковского кургана (Шилов, 1966, стр. 186, рис. 8). Кабан удивительно спокоен по отношению к преследователям. Мерно вышагивают все три зверя. Мастер не стремится передать никакого ощущения погони, действительного преследования. Кроме того, следует отметить, что для скифо-сибирского искусства были весьма характерны такие предметы, на которых соединение несовместимых в природе частей животных происходило по логике самого предмета, его формы и функциональности. Например, савроматские кабаньи клыки из Блюменфельда (Grakov, 1928; Смирнов, 1964, стр. 221 и сл.). Их тупой конец передан как голова тупорылого животного с оскаленной пастью, острой — как клюв птицы. Понятно, что такого готового образа, жившего в народной фантазии, не могло быть. Часто предмет в разных аспектах воспринимался как разные животные. Например: крючки для колчанов с широкими пластинами в виде зверей и остриём в виде клюва хищной птицы (Смирнов, 1964, стр. 222; Замятнин, 1946, стр. 38, рис. 27, 1-3).
[45] А. Альфёльди хорошо это определил, а К. Шефолд повторил: не «стремление к выражению» («Willen zur Ausdruck»), а «стремление к созиданию» («Willen zur Formbildung»). См.: Schefold, 1936, S. 45.
[46] Руденко, 1953, стр. 137-139, рис. 80-83.
[47] Этот натурализм совершенно не противоречит тому, что изображалось фантастическое существо. Детали, из которых составлялось это фантастическое существо, могли быть переданы вполне реалистично. Это явление В. Грисмайер удачно назвал «мифическим натурализмом» (Griessmaier, 1937, S. 136).
[48] В Скифии примеры тому см.: Артамонов, 1966 (II), рис. 60, 61. Особую «вывернутость» тела демонстрирует бронзовая бляха Гос. Исторического музея, Москва (ГИМ) из бывш. Таврической губернии (Гущина, 1962, стр. 67, рис. 24, 2). См. также бляху из Ладожской (ОАК, 1902, стр. 77, рис. 161).
[49] В.А. Ильинская для западной части Евразийской степи указывает рубеж смены архаического скифского искусства новым декоративно-орнаментальным — начало V в. до н.э. По её словам, «общей чертой для всей архаики является изображение одиночного изолированного образа животного или какой-то его части, а также отсутствие композиции и сцен, в которых положение животного было бы обусловлено характером действия». Нарастающая стилизация первоначально реалистических
(193/194)
изображении приводит к орнаментально-декоративному этапу. Для раннего искусства несвойственна была «боязнь пустоты» (Ильинская, 1965 (II), стр. 106-107). См. также: Граков, 1971, стр. 100; Артамонов, 1971 (II), стр. 30.
[50] Членова, 1967, стр. 143.
[51] Руденко, 1960, стр. 266, рис. 137.
[52] Руденко, 1953, стр. 129, рис. 75.
[53] Артамонов, 1966 (II), табл. 128, 130.
[54] Геральдические композиции древневосточного искусства, перенесённые на почву скифского, разлагались и распадались, что хорошо показал на примере Саккызского клада А.И. Шкурко (Шкурко, 1969, стр. 34).
[55] Руденко, 1953, табл. LXVIII, 7.
[56] Там же, табл. LXVIII, 4, 5; скифский «звериный стиль» даёт много примеров такого «разворачивания» фигуры на плоскости; см.: Артамонов, 1966 (II), рис. 14, 56. 74, табл. 65, 142, 146, 187. (Особенно показателен накосник коня в виде рыбы из Солохи.) См. также: ОАК, 1897, стр. 82, рис. 198; Манцевич, 1950, стр. 219-221, рис. 2-3; Яценко, 1959, табл. IV, 4; Марченко, 1962, рис. 18.
[57] Руденко, 1953, табл. LXXIX. См. также необычно живую, «импрессионистическую» фигурку лежащего хищника или «ультрареалистические» силуэтные изображения оленей из Пазырыкских курганов (Руденко, 1953, табл. XLV, 1, 2, стр. 46, рис. 18).
[58] Распластанные изображения зверей, при которых одновременно видны обе стороны тела, так же как «вывихнутые» тела, — всё это можно рассматривать как деформации, получающиеся от «расщепления» точки зрения, что наблюдается в древнем искусстве постоянно (Жегин, 1970). Эти приёмы обычно связаны с плоскостностью, так как являются перенесением объёмного на изобразительную плоскость без какой бы то ни было иллюзии глубины. В скифо-сибирском «зверином стиле» это становится понятным, если учесть особое отношение изображения и предмета — его носителя. Мастер стремится теснее связать образ зверя с образом предмета, а если он придаст изображению глубину, то оно зрительно обособится от плоскости вещи.
Две противоречивые задачи стоят перед художником в скифо-сибирском анималистическом искусстве. Он хочет изобразить зверя максимально материально, так, как будто бы он создаёт реального зверя, предназначенного к действительной жизни. Но вместе с тем мастер должен увязать изображение с предметом, не только с его формой, но и с его плоскостью. Решение задачи — в деформациях и условности, при которых животное изображено плоскостно и подчёркнута его материальность в смысле обозримости его с разных сторон: зверя, нарисованного на том или ином изделии, можно как бы мысленно обойти и посмотреть с разных сторон, как можно сделать это со статуей или с реальным животным.
[59] Руденко, 1953, табл. LXII, 7, LXXXIII, 1, 3. Безразличие жертв к своей участи, характерное для многих сцен терзаний в скифо-сибирском «зверином стиле», здесь выражено ещё очевидней. Кажется, что этот мотив только средство соединить, переплести разные части животных.
[60] Руденко, 1960, табл. XXVI-XXXI.
[61] Там же, табл. CXXI, 2.
[62] Там же, табл. CXVII, 2.
[63] Руденко, 1968, рис. 6, 7, 52.
[64] Переход от придания сакрально-магического значения изображениям к декоративности в скифо-сибирском «зверином стиле» отмечали многие исследователи, в частности, у сарматов в IV-II вв. до н.э. Это зарегистрировал Б.Н. Граков (Граков, 1947 (II), стр. 105).
[65] Руденко, 1953, табл. XCIII, 1; ср. табл. XCVII.
[66] Там же, стр. 102, рис. 55.
[67] Руденко. 1962 (II), табл. XXXIX-XLV.
[68] Публикации вещей и исследования см.: Trever, 1932; Salmony, 1933, Сосновский, 1935; Griessmaier, 1937; Umehara, 1960; Руденко, 1962 (II). По поводу ордосских вещей шёл спор. Минз датировал те изделия, которые выполнены в «зверином стиле», скифо-сарматским временем, Андерсон — эпохой Хань и относил их к хуннам. М.И. Ростовцев сближал их с рядом предметов из Сибирской коллекции и с Новочеркасским кладом I в. н.э. и датировал их последними веками до н.э.— первыми веками н.э. К сарматской эпохе относил ордосские бляхи А. Сальмони. С.И. Руденко относит их к хуннам конца I тысячелетия до н.э. — начала I тысячелетия н.э. (Руденко, 1962 (II), стр. 72-76). Пластины из Иволгинского могильника датируются А.В. Давыдовой III-I вв. до н.э. (Давыдова, 1971, стр. 94). М.И. Артамонов отнёс В- и Р-образные бляхи-застёжки к IV-III вв. до н.э., а прямоугольные — к концу III и последующим векам до н.э. (Артамонов, 1971 (I), стр. 82 и сл.), причем некоторые (со сценой нападения львиноголового грифона на лошадь и грифа на яка) он отнёс ко времени Пазырыкских курганов. Единственной прочной хронологической опорой является найденная в погребении конца III в. до н.э. в Чанани прямоугольная затёжка-пластина с изображением борьбы двух богатырей. В остальном М.И. Артамонов, так же как и С.И. Руденко (Руденко, 1962 (I), стр. 35 и сл.), основывается на изучении деталей: трактовки ушей, узора на плечах и т.п. Но эти детали оказываются в ряде случаев весьма долгобытующими элементами изображения. Вызывает возражение стилистическое сближение сцены «Богиня и всадник» на Пазырыкском ковре (V в. до н.э.) и сцены «Отдых в пути» на бляхе из Сибирской коллекции. В первой нет линии почвы, во второй она подчёркнута, в первой нет глубины изображения, во второй она намечается, в первой дерево — орнаментальный узор, скорее процветший жезл, во второй дерево — часть довольно правдиво переданной природы. У М.И. Артамонова нет основания датировать бляху со сценой «Отдых в пути» V в. до н.э. С.И. Руденко от окончательной датировки этого предмета воздержался (Руденко, 1962 (I), стр. 36).
(194/195)
[69] Руденко, 1962 (I), табл. IV, 2.
[70] Руденко, 1962 (II), рис. 54 б.
[71] Там же, рис. 54 в, е, ж.
[72] М.И. Артамонов и С.И. Руденко (Артамонов, 1971; Руденко, 1962 (I), стр. 34, 35) не оценили этого явления на изделиях Сибирской коллекции и на ордосских бляхах. В наличии рамки — их радикальное стилистическое отличие от изделий пазырыкской эпохи, где нет даже линии почвы у фигур. Поэтому две наиболее, по мнению М.И. Артамонова, архаичные бляхи (со сценами нападения львиноголового грифона на лошадь и грифа на яка) относятся, как нам кажется, ко времени позднее эпохи Пазырыкских курганов. М.И. Артамонов и С.И. Руденко датируют этот предмет V-IV вв. до н.э., А. Сальмони — III-I вв. до н.э. (Salmony, 1948). На бляхе со сценой нападения львиноголового грифона (Руденко, 1962 (I), табл. VIII, 7-8) действительно сохранена «вывихнутость» задней части тела у животных, и это действительно ранний признак, но это можно рассматривать скорее всего как длительное пережиточное сохранение характерной для более ранней эпохи «звериного стиля» деформации зооморфных фигур. Имеется целая серия ордосских блях (не ранее III в. до н.э.) с рамкой и с изображением животного с «вывихнутой» задней частью тела (Griessmaier, 1937, f. 8-13, 18, 19).
[73] Руденко, 1962 (II), рис. 55 д.
[74] Артамонов, 1966 (I), табл. 190; Шлеев, 1950, рис. 15-16. В какую орнаментальную схему превращается животное, не обособленное рамкой или хотя бы показом линии земли от самого предмета, видно на примере Чертомлыкского навершия («Древности Геродотовой Скифии», табл. XXVIII).
[75] Руденко, 1962 (II), табл. XXXVI, 3, XXXVII, 3.
[76] Это почувствовали уже И. Толстой и Н. Кондаков, когда они писали о маленьких бляхах из Сибирской коллекции: «Первая из этих миниатюрных фигурок представляет оленя, по-видимому северного, очевидно спасающегося от преследования, вторая — замечательно натуралистично переданную лань в тот момент, когда, заслышав шум, она оборачивает голову, готовясь, если завидит опасность, пуститься наутёк» (Толстой, Кондаков, 1890, стр. 46). Но этого совершенно не почувствовал С.И. Руденко, в своём пренебрежении к искусствоведческому анализу поставивший на одну доску по принципу «талантливости» художника, смелости и оригинальности композиции реалистическую бляху, подобную указанной с фигурой козла, и в высшей степени условное, связанное с формой ромбического щитка, изломанное неестественной позой изображение лани (Руденко, 1962 (II), стр. 80).
[77] Руденко, 1962 (I), табл. IV, 5.
[78] Там же, стр. 29, рис. 29, табл. XXII, 18.
[79] Там же, табл. VII, 1, 7.
[80] Грязнов, I960, стр. 40-41; Артамонов, 1971 (I), стр. 91.
[81] Например, деревянная пластина из Уйбатского склепа № 5 (Киселёв, 1951, табл. XXXVIII, 5, стр. 443-445).
[82] См. упоминавшуюся выше бляху с борьбой львиноголового грифона и лошади. Это хорошо видно также при сравнении бляхи из Сибирской коллекции с изображением борьбы тигра и верблюда и бляхи оттуда же с тем же совершенно мотивом, только симметрично повторённым, развёрнутым так, что тело более крупного зверя оказывается с двумя головами, но без задней части (Руденко, 1962 (I), табл. V, 1-3). Возможно, что двойные таштыкские изображения конских голов (Кызласов, 1960, стр. 89-92) происходят от того же разворачивания на плоскости объёмного изображения.
[83] Руденко, 1962 (I), табл. IX, 1-2, XII, 4-5.
[84] Не менее характерны в этом отношении и другие бляхи из Сибирской коллекции. Например, на бляхе с борьбой косматого хищника (тигра) и фантастического зверя с гребнем: тигр забрал в пасть всю лапу зверя, а тот — всю шею тигра (Руденко, 1962 (I), табл. VI, 3, 4). Дело не в подчёркивании какой-то особой жестокости сцены (Толстой, Кондаков, 1890, стр. 54), а в стремлении художника к переплетению тел таким образом, чтобы зритель всё время ощущал, что впереди, что сзади. Чрезмерно развитая, эта тенденция приводит к утере чёткости изображения из-за перегруженности этих сплетений и пересечений. То же см. на ордосской бляхе, опубликованной Андерсоном (Andersson, 1932, табл. XXIV, 1; Руденко, 1962 (II), рис. 57 в). Тигр терзает барана. Он вобрал всю шею травоядного в пасть, а тело показано закинутым на шею тигра и частично скрыто, так что воображение дорисовывает его за телом тигра и тем самым оценивает некоторые моменты глубины. На этой великолепной бляхе характерна тенденция не расчленить образ, а, наоборот, связать его с общим мотивом — всё тело хищника покрыто орнаментом, передающим шерсть и связывающим в одно все члены его тела. Линии рамки в нижнем углу как бы перекликаются с этими линиями на теле тигра, создавая общий живописный эффект.
[85] Руденко, 1962 (I), табл. VI, 3-4.
[86] Диадема изготовлена местным усуньским мастером, но несёт на себе заметные черты влияния Востока (изображение дракона), возможно усилившие и те «живописные» черты изображения, которые мы отмечали (Бернштам, 1940).
[87] Руденко, 1962 (I), табл. V, 4.
[88] Толстой, Кондаков, 1890, стр. 138, рис. 158.
[89] Руденко, 1962 (I), табл. XVII, стр. 34. С.И. Руденко датирует их по аналогии с вещами из Амударьинского клада V-IV вв. до н.э. Позднее сибирские и сарматские гривны аналогичной конструкции теряют это напряжение закручивающей спираль силы, воплощённой в зооморфных окончаниях. Напряжение гасится и значительным орнаментализмом и схематичностью, которые придаются фигурам животных на концах гривен, и чрезмерной вытянутостью их тел, и малой подчёркнутостью форм, которые почти не выходят за пределы стержня, и тем, что спиральная закручивающаяся конструкция гривны сменяется
(195/196)
простым несомкнутым кольцом, а зооморфные окончания симметрично противостоят друг другу. См. некоторые гривны из Сибирской коллекции (Руденко, 1962 (I), табл. XVIII, 2; XVI, X, 3, 4), гривны из Ставропольского клада II в. до н.э. (ОАК, 1909-1910, стр. 220; Руденко, 1962 (I), стр. 17, рис. 9), а также браслеты I в. до н.э. — I в. н.э. из Верхне-Погромного (Шилов, 1956, стр.41-43), из Саламатина (Берхин, 1959, стр. 41), из Калиновки (Шилов, 1959, рис. 51).
[90] Смирнов, 1964, стр. 144 и сл.; Руденко, 1962 (I), табл. XI, 7.
[91] Руденко, 1962 (I), табл. XVIII, 8, стр. 34. С.И. Руденко даёт неоправданно заниженную датировку этой гривны V в. до н.э.
[92] Руденко, 1962 (I), табл. XVIII, 6, стр. 35. С.И. Руденко датирует гривну IV-III вв. до н.э., приводя сам же аналогии III-II вв. до н.э.; Руденко. 1962 (I), табл. XVIII, 3. Ср. гривны III-II вв. до н.э. из Ахтанизовки и Буеровой могилы (ОАК, 1900, стр. 107, рис. 210).
[93] См. также: Руденко, 1962 (I), табл. XIII, 2-4. Здесь особенно бросается в глаза, насколько не согласованы декоративный облик предмета и его конструкция: спираль с звериными головами разрезается шарнирами, тогда как художественный смысл спиральных гривен, казалось бы, требовал непрерывных закручивающихся линии. Хороший пример потери функциональности в декоре дают поздние (IV-V в. н.э.), восходящие к сарматским прототипам браслеты из погребения близ Суджи. Украшенные двумя головками змей и двумя парами змеёнышей, они напоминают браслет из Семибратнего кургана № 4: традиции классического скифского искусства доживают до эпохи Великого переселения народов. Но если на древнем образце головки змей служили застёжкой, то на Суджинском браслете они только декор: замок скрыт от глаза (ОАК, 1877, стр. 26, табл. II; Мацулевич, 1934, стр. 68-71).
[94] Руденко, 1962 (I), табл. XV.
[95] Там же, табл. XIX, 4-6, рис. 16, стр. 35. С.И. Руденко без обоснования датирует браслет V-IV вв. до н.э., что, видимо, является заниженной датой.
[96] Руденко, 1962 (I), табл. XIV, 1.
[97] Толстой, Кондаков, 1890, стр. 134-135, рис. 152-153.
[98] И. Толстой и Н. Кондаков, рассматривая фигурки Сибирской коллекции, полагали, что они и подобные найденной на Колыванском заводе фигурке лучника составляли сцены, будучи прикреплёнными к краю какого-либо предмета. Наша мысль о «сползании» образов с поверхности предмета хорошо этим наблюдением подтверждается. «Отчуждение» здесь выражается и в отдельном изготовлении фигурок, которые можно компоновать в свободные сцены на безразличном для них предмете, который только предоставляет для их размещения свой край (Толстой, Кондаков, 1890, стр. 47). То же мы наблюдаем на Новочеркасской диадеме. Отдельно изготовленные фигурки животных и дерева, при этом без серьёзной деформации, мы находим в кургане II в. н.э. у станицы Усть-Лабинской на Кубани (ОАК, 1902, стр. 85, рис. 190-192). Однако не надо думать, что дело здесь только в простом помещении изображений зверей на край изделия. Котлы скифской эпохи, а в Семиречье и жертвенники дают пример подобного расположения фигур животных. Но на этих вещах зооморфные изображения настолько связаны с формой предмета, что они кажутся не столько помещёнными на край, сколько образующими край. На котлах из Келермеса и Чертомлыка (Артамонов, 1966 (II), табл. 47, рис. 112, 113) животные являют собой не части какой-то сценки, для которой край сосуда — лишь опорная линия, линия земли, а зооморфные обрамления котла и его ручек. Фигуры в связи с этим располагаются не свободно, а строго размеренно, они одинаковы и имеют по возможности замкнутые линии. Их расположение точно соответствует линиям зигзаговидного орнамента на самом резервуаре котла.
[99] Руденко, 1962 (II), стр. 75, рис. 56. О Косогольском кладе III-I вв. до н.э., найденном в Краснодарском крае, см. «Археологические открытия 1966 г.», стр. 163-165. Интересны бляхи с геометрической решёткой, аналогичные ордосским, но с звериными головками, что подтверждает их связь с бляхами в «зверином стиле». Такого типа геометризированные орнаменты появляются и в сарматском искусстве (пряжка из Мачет-Сая III-II вв. до н.э. См.: Мошкова. 1960, стр. 300, рис. 2, 1). Вообще же говоря, тенденции к геометризации декора у сарматов хорошо проявились в орнаментации зеркал.
[100] Руденко. 1962 (II), стр. 74, рис. 55 г.
[101] Там же, табл. XXI.
[102] Тяга к подчёркнуто геометрическим телам, акцент на абстрактную форму предмета, эстетика пластической неизобразительной формы ближе к такому виду ремесла, как гончарное. Когда вся тяжесть искусства переносилась на образ зверя, когда художественное восприятие предмета было неотделимо от изображения на нём животного, тогда простой сосуд, горшок, оставался вне поля зрения искусства. Теперь же появляются большие вазы с подчёркнуто гармоничным переходом от тулова к горлу, со стройной формой, где любование ею, пластическое переживание её подчёркивается тщательной отделкой поверхности и покрытием геометрической орнаментацией. Но это особая тема о том, когда и в какой пропорции и при каких условиях керамика становится предметом искусства. Нет места здесь её развивать.
[103] Грязнов, 1933; Киселёв, 1951, стр. 184, 254, табл. XIX, 1; Дэвлет, 1955 (II). Мы не касаемся здесь огромного материала искусства степных писаниц, ограничившись этими знаменитыми сценами как примером иного, собственно «изобразительного» искусства.
[104] На это обратил внимание, в частности, А.А. Формозов (Формозов, 1969, стр. 84, 244).
[105] Характерно, что смешанные, как бы составленные из частей нескольких животных образы были сравнительно редки в петроглифах, так же как
(196/197)
сцены терзаний. Эти черты скифо-сибирского анимализма связываются нами именно с тем характером конструирования вещей, реального окружения человека, который имеет скифо-сибирский «звериный стиль». Отметим, однако, что и среди наскальных рисунков есть изолированные изображения, выполненные полностью в скифо-сибирском «зверином стиле», — например, изображение оленя на скале Бугытас близ Чиликты в Казахстане, некоторые рисунки из Таласской долины и др.
[106] «Археологические открытия 1968 г.», стр. 177-179; «Археологические открытия 1970 г.», стр. 203; Грязнов, 1971.
[107] Артамонов, 1968, стр. 38, 39, рис. 7-9.
[108] Особенно это хорошо видно на пластине с изображением идущих в ряд птиц. Сравнение с найденными там же роговыми пластинами в виде бляшек в форме сдвоенных лошадей (Артамонов, 1968, стр. 39) весьма наглядно. В первом случае — свободно расположенные животные, которые как бы «выходят» за границы предмета и с предметом не связаны в своих линиях. Во втором — теснейшая связь контура предмета и изображения, которое замкнуто в своих линиях. Характерны некоторые оленные камни в Сибири, также относящиеся к самому зарождению скифо-сибирского «звериного стиля» (например, Иволгинский камень; см.: Окладников, 1954). Не касаясь особенностей рисунка оленей, помещённых наискось, отметим, что вертикализм стелы, резко подчёркивающий диагональное размещение фигур оленей создаёт ясно ощутимое движение их куда-то наверх. Кажется, что олени вот-вот выпрыгнут из границ стелообразного камня. Характерным примером неустоявшейся связи изображения и предмета, при которой предмет лишь даёт поверхность для рисунка, а рисунок не связан функционально с предметом, является раннескифский (конец VII-VI в.) сосуд с изображениями животных из курганов Северного Кавказа (Артамонов, 1948; Иессен, 1931, стр. 16-17). На сосуде из Третьего Разменного кургана изображена сцена терзания древневосточным грифоном оленя, имеющего ряд скифских черт (рога). Но следует обратить внимание, что чисто скифо-сибирская тенденция к замкнутости образа и линий здесь только намечается, в частности в характерной поджатости левой передней ноги оленя. Дальше эта замкнутость ещё не развилась. Именно во фракийских анималистических изображениях найдём мы устоявшийся канон изображения оленя с одной подогнутой ногой, что, как мы отмечали вслед за Н. Феттихом, отличает фракийский стиль от «замкнутых» изображений у скифских племён (см. выше).
[109] Вещи геометрического стиля с инкрустацией и вставками IV-V вв. иногда имеют ираноязычные надписи (Brentjes, 1967, S. 80, taf. 5).
[110] Мацулевич, 1934.
[111] Хорошо это определил М.И. Ростовцев: «В тесный контакт с новым стилем Пантикапей вошёл через посредство того населения, которое утвердилось в эпоху раннего и позднего эллинизма на Кубани и на Тамани и которое, войдя в тесные и постоянные связи с Боспорским царством, связи политические, культурные и торговые, стало диктовать пантикапейской промышленности свои условия, заставило её работать в своём духе и согласно своим вкусам. Повторилась та же история, которую когда-то пережили греческие колонии Черноморья в эпоху господства скифов, которые также заставили греков работать на себя и претворять восточные формы в новый греко-иранский стиль. Характерно, однако, что в эту эпоху доминирующую роль играют всё-таки греко-восточные формы и греческая техника, подчиняющие себе заказчиков. Для более поздней, ближайшим образом нас интересующей эпохи отношение изменилось и преобладающими стали элементы восточные и доисторические» (Ростовцев, 1918 (II), стр. 77; см. также: Блаватский, 1964, с гр. 34-35).
[112] Толстой, Кондаков, 1890, стр. 139, рис. 162; стр. 140, рис. 165.
[113] Там же, стр. 141, рис. 166, 167.
[114] ОАК, 1902, стр. 126, 127, рис. 212, 213. Обзор подобных находок см.: Засецкая, 1968.
[115] Козырев, 1905.
[116] ОАК, 1904, стр. 123, рис. 215.
[117] Мацулевич, 1934, табл. IX. Это погребение (так называемое «княжеское») вместе с рядом других из степной территории типа так называемых «речных» К.Ф. Смирнов и другие склонны сближать с поздними сарматами (Синицын, 1936, стр. 71-86; Смирнов, 1954, стр. 215 и сл.).
[118] К.Ф. Смирнов, К.М. Скалон, Н. Феттих полагают, что подобные этим вещи вышли из причерноморских мастерских. Некоторые считают возможным существование центров производства этих изделий в Средней Азии и на Дунае. См.: Тиханова, Черняков, 1970 (в этой статье см. хорошую сводку находок диадем, выполненных в полихромном геометрическом стиле гуннского времени); см. также: Fettich, 1932; Fettich, 1953; Werner, 1956; Кадырбаев, 1959; Пешанов, 1961; Засецкая, 1968.
[119] Толстой, Кондаков, 1890, стр. 143, рис. 172. Другие примеры животных форм в геометрическом искусстве степей середины I тысячелетия н.э. см.: ОАК, 1904, рис. 124; Спицын, 1905, стр. 118, рис. 4; стр. 120, рис. 34; Мацулевич, 1934, стр. 70; Werner, 1956, Taff. 29, 2, 6, 40, 2. Особое место занимает среди этих мотивов голова орла (Werner, 1956, S. 72). О том, насколько живы были старые мотивы, свидетельствует колт из Верхне-Яблочного (ОАК, 1902, стр. 127, рис.213) с рисунком зернью, повторяющим мотив Новочеркасской диадемы и фигурок из сарматского погребения II в. н.э. у станицы Усть-Лабинская (ОАК, 1902, стр. 85; Werner, 1956, S. 70-72).
[120] Дашевская, 1969, стр. 52 и сл.
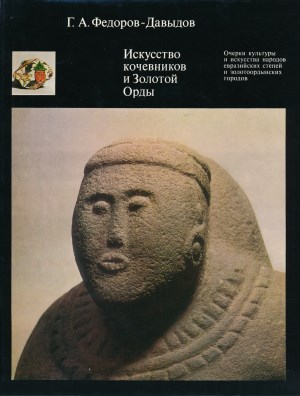 Г.А. Фёдоров-Давыдов
Г.А. Фёдоров-Давыдов