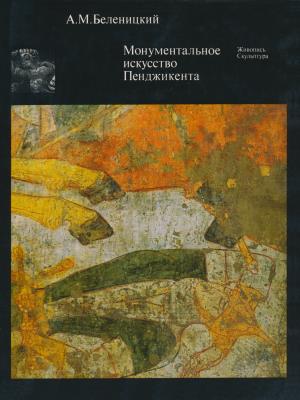 А.М. Беленицкий
А.М. Беленицкий
Монументальное искусство Пенджикента.
Живопись, скульптура.
// М.: «Искусство» 1973. 68 с. («Памятники древнего искусства»)
III. Круг сюжетов изобразительного искусства Пенджикента.
Сюжеты, которые разрабатывались художниками Пенджикента, были исключительно разнообразными. Вопрос об их тематической классификации встал уже в первые годы исследования городища. А.Я. Якубовский сделал попытку разделить их на две тематически отдельные категории — главным образом по месту их нахождения — на храмовую и светскую. [3] В последнюю он включил произведения искусства, которые были открыты в жилых помещениях. Однако сейчас такая классификация является неприемлемой, поскольку в открытых росписях на стенах жилых помещений имеются сюжеты, близкие к храмовым. Мы распределяем их независимо от местонахождения на следующие группы или категории: культовые, эпические, фольклорные, включая и сюжеты так называемого животного эпоса, и жанровые.
Культовые сюжеты. ^
Почитание небесных светил. ^
Среди памятников искусства, в иконографии которых отразились религиозные представления жителей Пенджикента, видное место занимают олицетворения небесных светил. Таким олицетворением дневного светила является изображение божества на фрагменте живописи в помещении I/5, о чём выразительно свидетельствуют нимб и лучистый венец, окружающие юное лицо божества. Как отмечалось выше, есть основание полагать, что в утраченной живописи этого же помещения вместе с изображением солнечного божества находилось и другое божество — лунное. Действительно, в композиции, открытой в помещении VI/26, наряду с плохо сохранившимся изображением солнечного божества мы видим антропоморфный образ и образ ночного светила. Для общей характеристики культа небесных светил особое значение приобретают
(42/43)
памятники резного дерева, на которых остановимся несколько подробнее.
Это прежде всего круглая скульптура воина из помещения VII/11. О культовом характере этой скульптуры свидетельствуют остатки лучистого нимба, сохранившиеся позади головы. Нас едва ли должно удивить, что скульптура эта изображает воина. Представление о солнечном божестве как о воине восходит к глубокой древности. Достаточно напомнить описание бога солнца Митры в священной книге зороастрийцев — Авесте. Важно то, что мы хорошо знаем солнечное божество на кушанских монетах, на которых его изображение сопровождается надписью с именем Геолиоса-Митры. Иконографически наиболее близкой аналогией к пенджикентской скульптуре может служить известная живописная группа из Фундукистана (Северный Афганистан), датируемая VII веком, изображающая солнечное и лунное божества в виде двух воинов. При этом первое изображено в доспехах, так же и пенджикентская деревянная скульптура. [4] Культ солнечного божества отражён в композиции на резной плахе из того же помещения VII/11, на которой изображён погонщик в двухконной колеснице. Трактовка всей композиции с полной очевидностью свидетельствует о том, что в ней следует видеть так называемую солнечную колесницу (бигу), олицетворяющую собой дневное светило. Такое изображение солнечной колесницы имеет достаточно большое количество аналогий в изобразительном искусстве стран Востока, вполне оправдывающее указанную идентификацию.
Не перечисляя здесь имеющиеся параллели к изображению солнечной колесницы в монументальном искусстве и в мелкой пластике Афганистана, Индии, Восточного Туркестана и Ирана, отметим лишь следующее. Как показали специальные исследования этих памятников, олицетворение солнечного божества в образе погонщика колесницы несомненно восходит к образу Гелиоса или Феба в античном искусстве. Что касается некоторых особенностей в трактовке этого сюжета на памятниках искусства восточных стран, то они, по весьма правдоподобному предположению Е. Херцфельда, восходят к иконографическому прообразу, созданному греко-бактрийским искусством. [5] Действительно, такое изображение солнечной колесницы известно сейчас на реверсах монет одного из греко-бактрийских царей — Платона, время царствования которого относится к середине II века до н.э. [6] Открытие пенджикентской солнечной колесницы может служить подтверждением этого взгляда, поскольку в Средней Азии, территория которой входила в состав греко-бактрийского царства, традиции искусства последнего должны были сохраняться с большей устойчивостью.
Памятник этот важен и в другом отношении. Изображение солнечной колесницы находится на плахе, являвшейся частью фриза, обрамлявшего верх стен помещения. Вполне вероятным представляется предположение, что все композиции этого фриза были связаны одной темой, ключ к разгадке которой и даёт изображение солнечной колесницы. Так прежде всего можно предположить, что на фризе имелось изображение и главного ночного светила — Луны. То, что в Пенджикенте изображались вместе фигурные олицетворения солнца и луны, наглядно демонстрирует только что упомянутая композиция в помещении VI/26. Правда, характер изображения солнечного и лунного божества на этой росписи иной, чем на резном фризе. Но есть основание считать, что в Средней Азии для луны имелось и символическое изображение, близкое по характеру к изображению солнца на резном дереве.
Об этом свидетельствует ряд памятников искусства, в которых изображено лунное божество в колеснице, влекомой быками. Это, прежде всего, хорошо известное специалистам серебряное блюдо из деревни Климово Пермской области, хранящееся в Государственном Эрмитаже. [7] Близкое по сюжету серебряное блюдо было найдено и в Иране. Имеются близкие изображения лунного божества в виде погонщика на колеснице и на памятниках глиптики. Для нас определённый интерес представляют происходящие из Афрасиаба (городище древнего Самарканда) терракоты в виде человеческого бюста, охваченного полумесяцем. Два диска (колеса), находящиеся под полумесяцем, ясно напоминают о существовавшем прообразе в виде колесницы, дериватом которой они и являются. [8] В связи со сказанным напомним сообщение знаменитого хорезмийского ученого XI века Бируни, из которого следует, что ему были хорошо знакомы представления как о солнечной колеснице, «на которой оно (солнце) вращается», так и о «быке, влекущем колесницу луны». [9]
Имеющиеся материалы позволяют утверждать, что кроме главных небесных светил в согдийском изобразительном искусстве были известны символические олицетворения и других небесных тел, и прежде всего планет. С полной убедительностью это показало исследование А.Я. Борисова, посвящённое известному самаркандскому оссуарию, опубликованному Н.И. Веселовским, на лицевой стенке которого, как им было доказано, имеется изображение планеты Марс. [10] Оно представлено в виде человеческой фигуры с обрубленной головой в руке и, что для нас особо
(43/44)
интересно, как и на пенджикентских плахах, в обрамлении арки.
Этим же исследователем, в другой связи, было показано, что на фрагменте другого согдийского оссуария (из Биянаймана) изображено олицетворение планеты Сатурн, причём и оно представлено в виде человеческой фигуры (старца-царя), сидящего на троне с топориком в руке, также под аркой. [11] В свете сказанного представляется возможность трактовать изображение женской фигуры, сидящей на спине льва, на плахе из того же помещения VII/11, в качестве олицетворения ещё одной планеты, а именно — Венеры. Для такого отождествления имеется достаточно много убедительных аналогий на памятниках изобразительного искусства Ближнего Востока, ставших предметами специальных исследований. Итак, если сопоставить между собой указанные памятники, напрашивается предположение, что на резном фризе Пенджикента некогда были изображены символические олицетворения небесных тел, как видно, всех планет солнечной системы, известных в то время. Подтверждением этому может служить согдийский календарь, о котором мы знаем сейчас по найденному в архиве с Горы Муг документу, содержащему полный перечень названий дней недели, месяца и так называемых лунных станций. Особенно интересны названия дней семидневной недели: они все посвящены авестийским божествам, ставшими позже именами планет. Анализ этих названий, приведённый профессором А.А. Фрейманом, показал, что они вполне соответствуют современным европейским названиям дней недели, сложившимся на основе греко-римской мифологии. Приведём их в передаче А.А. Фреймана:
Михш заман — день Митры — воскресенье (солнца)
Мах заман — день Луны — понедельник
Варахан заман — день Марса — вторник
Тир заман — день Меркурия — среда
Ормазд заман — день Юпитера — четверг
Анахид заман — день Венеры — пятница
Кайван заман — день Сатурна — суббота. [12]
В связи с согдийской семидневной неделей важное сообщение имеется в одном китайском источнике VIII века. Оно гласит следующее: «Семь светил — это солнце, луна и пять планет, которые предводительствуют людьми. Ежедневно они сменяются. В конце семи дней [цикл их] начинается снова. Их названия следует [помнить], потому что каждое [светило] имеет на то или иное предприятие влияние, благоприятное или неблагоприятное». Дальше китайский автор, повторяя необходимость запомнить эти названия и, очевидно, связанные с ними особые представления, указывает, что в случае запамятования «вам достаточно спросить об этом согдийцев, персов или людей пяти Индий, которые хорошо их знают». [13] Таким образом, представляется вполне правдоподобным высказанное выше предположение, что в сохранившихся остатках фриза мы имеем памятник сложного культа небесных светил, занимавший в системе верований согдийцев большое место и являвшийся объектом своеобразной и весьма интересной иконографии.
Культ предков. ^
В ряде произведений искусства Пенджикента яркое отражение нашёл культ предков и связанные с ним обряды. К ним следует отнести фрагменты росписи на стенах в приделе первого храма (помещения 10 и 10а). Сюжет их был истолкован по-разному. А.Ю. Якубовский видел в пиршественных сценах изображение весеннего праздника нового года. [14] Однако автор, опираясь на этнографический материал, попытался доказать, что росписи этих двух помещений имеют прямое отношение к похоронному ритуалу, в котором заупокойные пляски и пиршества занимают большое место. Не повторяя здесь аргументацию, приведённую в специальной заметке, следует указать, что для этих живописных сцен находятся близкие параллели на ряде лицевых оссуариев. Таков фрагмент оссуария из Государственного Эрмитажа, на котором сохранились изображения двух мужских фигур, держащих ветви в руках.
В самом Пенджикенте найдены оссуарии, на стенках которых в виде налепов имеются изображения танцующих женщин. Вполне очевидно, что на оссуариях-гробиках следует видеть изображения, имеющие отношение к похоронному обряду или, в более широком аспекте, к заупокойному культу в большей мере, чем к весеннему празднику. [15]
Бесспорную связь с заупокойным культом имеют росписи на стенах второго храма. Многофигурная сцена, открытая на южной стене главного зала этого храма, вошедшая в науку под названием «сцена оплакивания», вызывала к себе особый интерес. По выражению А.Ю. Якубовского, в ней «ожила легенда о Сиявуше» — герое мифологии и эпоса народов Средней Азии и Ирана, мифическом предке отдельных среднеазиатских династий доарабского времени. [16]
(44/45)
Автор полагает, что эта сцена отражает некоторые общие представления о загробной жизни согдийцев. Но как бы то ни было, вполне бесспорно, что в этой сцене отражён реально существовавший похоронный обряд. Это подтверждается многими письменными источниками. Наиболее наглядно ритуальная сторона обряда отражена при передаче самоистязания, сопровождающего оплакивание. Плакальщики и плакальщицы на пенджикентской росписи рвут на голове волосы, царапают лицо и грудь ногтями, а некоторые ножами обрезают себе даже мочки ушей. Многочисленные данные источников показывают, что самоистязание было одним из наиболее характерных элементов заупокойного обряда у многих народов, тесно связанных со Средней Азией. Геродот об этом сообщает в отношении скифов. Аммиан Марцелин отметил этот обычай в знаменитом описании похорон хионитского царевича. Византийские, китайские и арабские источники красочно рассказывают об этом обычае у тюрков. Эти последние источники особо интересны для нас ввиду того, что они современны пенджикентским росписям. Таким образом, очевидно, что, независимо от общей интерпретации рассматриваемой живописи пенджикентского храма, можно с полной уверенностью утверждать, что сцена оплакивания прежде всего отражает реально существовавший обряд, своими корнями уходящий в далекую глубь веков.
Дошедшие остатки живописи Пенджикента сохранили и ещё одну живописную композицию, которую мы вправе связать с заупокойным обрядом, а именно фрагмент стенных росписей на северной стене помещения III/6. Смысл всей этой композиции раскрывается благодаря весьма интересному сообщению китайской хроники Бей-ши, повторённому позже в хронике Суй-шу, о среднеазиатском владении Ши (современный Ташкент). Приведём текст Суй-шу: «По юго-восточную сторону дворца есть здание, посреди которого престол поставлен. В 6-е число первой луны и в 15-е седьмой луны поставляют на этом престоле золотую урну с пеплом сожжённых костей покойных родителей владетеля; потом обходят вокруг престола, рассыпая пахучие цветы и разные плоды. Владетель с вельможами поставляет жертвенное». [17] Нам представляется, что речь идёт о таком же обряде, который изобразил пенджикентский художник на рассматриваемой росписи. Это сообщение, прежде всего, объясняет наличие на росписи престола с жертвенниками, а также сосуда, в котором следует видеть «урну с пеплом сожжённых костей». Правда, на росписи имеются и другие предметы — знамёна, оружие, которые не отмечены китайской хроникой. На престоле, о котором говорится в хронике, стоят жертвенники, а урна стоит сбоку от трона. Однако в целом едва ли можно сомневаться в близости между собой сообщения китайской хроники и содержания рассматриваемой живописной сцены из Пенджикента.
Культ четырёхрукого женского божества и почитание реки Зеравшан. ^
Образ четырёхрукого женского божества в среднеазиатской культовой иконографии давно привлёк к себе внимание исследователей, и ему посвящена весьма обширная литература. Можно без преувеличения утверждать, что иконографически и художественно одно из наиболее замечательных его изображений представлено на живописном фрагменте второго храма из помещения 5/6. К сожалению, ряд существенных атрибутов, которые могли бы помочь характеристике всех его функций, утрачены. В многообразии этих функций, очевидно, не приходится сомневаться. В пенджикентской живописи привлекает к себе особое внимание трон в виде драконообразного чудовища, на котором сидит божество. Именно этот образ чудовища позволяет рассматривать божество или одно из его функций в связи с другим памятником культовой иконографии Пенджикента, открытом также во втором храме, а именно с глиняной рельефной панелью на стенах айвана. На панели, как мы помним, изображён водный поток, на поверхности которого выступают различные фигуры, главным образом фантастических существ. Среди последних особо выразительным является голова чудовища на южной стене, сходство которого с головой чудовища, на котором сидит четырёхрукое божество, не вызывает сомнения. Образ чудовища на скульптурной панели разъясняется благодаря имеющимся многочисленным аналогиям на памятниках Индии и Афганистана. Это один из наиболее популярных символических образов в индийской мифологии, известный под именем Макара, олицетворяющий водную стихию и служащий атрибутом водных божеств. Что касается всей панели вместе с находящимися на ней существами, то она также находит себе близкие параллели в иконографии Индии, где аналогичные изображения символизировали, например, реки Ганг и Джамку. И таким образом, в Пенджикенте, по всей вероятности, панель с её фигурами олицетворяла собой реку Зеравшан, имевшую столь большое значение для жизни и процветания страны. [18]
(45/46)
Культ «танцующего царя» и «Тримурти». ^
Нет основания сомневаться, что культ небесных светил или культ водной стихии, так же как и культ предков, по своему происхождению уходит в глубь веков, и его возникновение обязано идеологическим представлениям, сложившимся в условиях местной жизни. Вместе с тем иконографическое оформление этих культов указывает на связи с культовым искусством других стран. Пенджикентские памятники искусства свидетельствуют о том, что имело место и более непосредственное проникновение чужеземных культов, пользовавшихся, видимо, определённым почитанием. Мы имеем в виду прежде всего живописные композиции, открытые в помещениях VI/8 и VII/24. Объектом почитания на них является фигура божества в момент танца, тело которого окрашено в синий цвет. Этими признаками отмечена в индуистическом пантеоне иконография наиболее популярного божества — Шивы (достаточно отметить два его постоянных эпитета: nataraja — танцующий царь и nilocantha — синетелый). [19] В индуистической иконографии находим параллели и таким атрибутам пенджикентского божества, как жезл и повязка на бедре из тигровой шкуры. С иконографией Шивы, как можно полагать, и связан образ трёхголового божества на живописном фрагменте из завала помещения XXII/1.
Впрочем, этот образ ещё требует добавочного изучения. В исследованиях, посвящённых иконографии индуистических божеств, образ трёхголового божества трактуется различно — или как «Тримурти», который подразумевает слившихся воедино трёх божеств — Брахмы, Шивы и Вишну, — или же как Шивы в известных его различных ипостасях, как божества благодательного, устроителя мира, так и как его неистового разрушителя. [20]
Эпические сюжеты. ^
По мере открытия новых памятников изобразительного искусства, особенно стенных росписей в жилых домах, большое и, вероятно, ведущее место, которое занимало в репертуаре сюжетов пенджикентского искусства эпическая тематика, становится всё более очевидным. Эти дома в большинстве принадлежали представителям феодальной верхушки, в среде которой был особенно сильным интерес к древним сказаниям о героях. Недаром знаменитый Фирдоуси, автор «Книги царей» («Шахнаме»), начиная героическую часть своей поэмы, прежде всего вспоминает «дехкана», то есть именно феодала-землевладельца. Напомним первое двустишие :
«Сказитель-дехкан, с чего начинает свой сказ?
Кто был первым, кто славу в мире искал?» [21]
Ещё более важным для нас является то, что поэт называет этих сказителей выходцами из областей Средней Азии, например Мерва, Чача. Действительно, ряд сюжетов пенджикентской живописи находит своё разъяснение в знаменитой поэме.
Легенда о Сиявуше. ^
М.М. Дьяконов предложил трактовать в связи с именем Сиявуша как героя эпоса, позже воспетого в «Шахнаме», фрагмент живописи в помещении III/7, на котором изображён юноша, убегающий от манящей его к себе женщины, лежащей на находящемся тут же ложе. Эту сцену М.М. Дьяконов и разъяснял, как один из эпизодов повествования о Сиявуше в «Шахнаме». [22] Согласно Фирдоуси, мачеха Сиявуша, Судабе, воспылав страстью к прекрасному юноше, неудачно попыталась склонить его на преступную связь. С этого эпизода и начались злоключения героя.
Такое объяснение содержания этого фрагмента живописи вполне вероятно, однако необходимо подчеркнуть, что мотив бегства юноши от соблазняющей его женщины был широко известен в древности, и пенджикентская сцена могла иметь и другое происхождение, вплоть до легенды о библейских персонажах Иосифе и жене Патифара.
(46/47)
Рустемиада. ^
Сюжет пенджикентской живописи, который позже занял в поэме Фирдоуси одно из первых мест, представлен на стенных росписях зала VI/41. На втором ярусе изображён целый цикл подвигов одного и того же героя и его спутников. Кто же этот герой? Обращаясь к «Шахнаме», обнаруживаем вполне определённые точки соприкосновения с содержанием рассматриваемой росписи, в первую очередь в подвигах, героем которых является Рустем. В самой поэме наиболее выдающиеся подвиги этого героя собраны в особый раздел, озаглавленный «хафт хон», то есть «семь остановок» — семь сказов, в каждом из которых излагается один эпизод. [23] В поэме, как и на наших росписях, противниками Рустема выступают наряду с такими же, как он сам, богатырями и чудовища — драконы, демоны и прочие фантастические существа. Весьма интересен для нас и ряд деталей в обрисовке самого героя. Так, он одет в кафтан из шкуры леопарда (палангина джома). Кафтан героя пенджикентской росписи также сшит из шкуры леопарда, хотя передачу её художником следует признать условной. Имя коня Рустема — Рахш — означает «красный». Красным изображён конь героя и на росписи. Рустем арканом неоднократно побеждает своих противников. Герой пенджикентской живописи действует этим оружием в одном из эпизодов.
Всё это позволяет видеть в росписи наличие бесспорных черт, перекликающихся с характеристикой Рустема и его подвигов в «Шахнаме». Вместе с тем ряд деталей росписей не находит разъяснения в поэме. В этом, однако, нет ничего неожиданного. Полного совпадения трудно было бы и ожидать. Нельзя забывать, что со времени, когда была создана пенджикентская живопись, до тех лет, когда Фирдоуси писал свою поэму, прошло не менее двух с половиной столетий. За это время в устной передаче сказания могли произойти самые разнообразные трансформации и изменения.
Нельзя также при сопоставлении текста поэмы с росписями не учитывать и несомненное существование локальных вариантов одних и тех же эпических сюжетов. С этой точки зрения исключительно большой интерес представляет сохранившийся отрывок текста на согдийском языке, в котором излагается один из эпизодов поэмы, героем которого является Рустем. Текст этот происходит из Восточного Туркестана и датируется временем, близким к пенджикентским росписям. В нём передан эпизод, воспетый и в «Шахнаме», а именно рассказ о борьбе Рустема с полчищем дэвов (демонов). Вместе с тем текстуально перед нами совершенно иной вариант, чем тот, который передан в поэме Фирдоуси.
В ещё большей степени кажется важным то, что в этом отрывке мы находим одну деталь, отсутствующую в «Шахнаме», но переданную на пенджикентской росписи. Так в описании выступления дэвов против Рустема в согдийском тексте говорится, что среди них было «много едущих на колесницах... много таких, которые так летят, будто бы ястреб». [24] Нам представляется несомненным, что изображение на пенджикентской росписи демонов в колеснице с крыльями отражает именно этот вариант сказания о Рустеме, бытовавшем в согдийской среде.
Из сказаний об амазонках. ^
Исключительно большой интерес приобретают сцены на пенджикентских росписях, действующими лицами которых выступают воинственные молодые женщины. С такими воительницами-богатыршами мы встретились трижды. В одной сцене (помещение VI/42) мы видим женщину-воина в поединке, единоборствующей с воином-мужчиной. Аналогичную сцену, очевидно, вправе предположить и на росписи помещения VI/55, где изображена женская фигура, держащая обнажённый меч. Едва ли вызывает сомнение, что и в данном случае художники Пенджикента имели в качестве прообразов определённые эпические сюжеты. Обращаясь и в данном случае к поэме Фирдоуси, действительно находим в ней воинственных героинь. Такова, например, Гурдафарид — молодая девушка, дочь начальника крепости Сафед-диз, отважно вступающая в единоборство с юным богатырём, непобедимым Сохрабом, сыном Рустема, в тот момент, когда воины-мужчины или предпочли укрыться за крепостными стенами, или, не выдержав натиска богатыря, просили пощады.
Ниже приводимые строки поэмы, посвящённые этой девушке-витязю, дают представление о её облике. «Это была девушка видом витязь-всадник, прославленная своими воинскими подвигами:
Подобной ей в битвах никто не видел.
Одела она доспехи всадника для сражения
Спрятав косы под кольчугой,
На голову одела румейский шлем».
и т.д.
(47/48)
В образе женщины-воина выступает Гурдия — сестра знаменитого исторического героя Бахрам-Чубина, о которой поэт, между прочим, однажды говорит:
«На ней было тяжёлое вооружение
И подпоясана она наподобие воинов». [25]
Для понимания содержания пенджикентской росписи главный интерес представляет образ первой из названных героинь «Шахнаме». Необходимо прежде всего отметить, что интересующая нас роспись открыта в помещениях, являющихся продолжением зала 41, на росписях которого, как мы пытались показать, представлены сцены из цикла Рустемиады. Очевидно, можно предположить, что и в соседних помещениях стенные росписи имели своим содержанием близкие сюжеты. Именно такими и являются в «Шахнаме» описания подвигов сына Рустема, Сохраба. Вполне вероятно, что перед нами остатки цикла сцен, главным героем которых является Сохраб — наиболее трагическая фигура героической части «Шахнаме». В этой связи особый интерес приобретает содер жаниеросписей помещения XXI/1. Как мы видели, здесь представлена массовая батальная сцена с участием женщин. Таких эпизодов в «Шахнаме» нет. В данном случае представляется вероятным связать эту роспись с древними рассказами о большой роли женщин среднеазиатских племён в военных событиях древности, о которых повествуют античные авторы. Имеются в виду известные сообщения Ктесия и Геродота. Первый в рассказе о сакском царе Аморге и его супруге Спаратре сообщает о том, как царица, после того как Аморг попал в плен к царю персов — Киру, собрала многочисленное войско из мужчин и женщин и, разгромив сильное персидское войско, освободила мужа из плена.
Геродот посвятил свой рассказ царице другого среднеазиатского племени — массагетов — Томирис, с племенем которой связана гибель Кира. Томирис не только разгромила войско персов, но и захватила в плен самого Кира и в виде мести за погибшего сына велела отрубить Киру голову и бросить в мешок с кровью. Отметим также, что греческие авторы специально отмечают, что женщины среднеазиатских племён особенно славились в качестве искусных наездниц и метких стрелков из лука. Уместно отметить, что и в средневековых, а также в дошедших до современности эпических сказаниях тюркских народов, таких как, например, «Огуз-наме», записанном в XI веке, в популярных и до настоящего времени поэмах об Алпамыше и Кырк-кыз («Сорок девушек») — в качестве отважных воительниц выступают прекрасные девушки-богатырши. [26]
Неизвестные эпические сюжеты. ^
Наряду с охарактеризованными выше сюжетами, которые разъясняются в той или иной степени письменными или устными эпическими преданиями, на росписях Пенджикента имеются и не поддающиеся определённой идентификации, но несомненно эпические повествования. К их числу относятся прежде всего остатки росписей помещения VI/1. Не будучи в состоянии связать их полностью с известными эпическими сказаниями, мы в отдельных их деталях и эпизодах прослеживаем связь с эпосом. При этом и в данном случае помощь оказывает поэма Фирдоуси. Так на росписях помещения VI/1 привлекает к себе внимание сцена пиршества на западном простенке северной стены. В этой сцене изображена птица в полёте, несущая венок в сторону возглавляющего пиршественную сцену царя. Наиболее близким к содержанию этой сцены, как я полагаю, является эпизод из «Шахнаме», в котором описывается один из многочисленных царских пиров. Во время пира царь рассказывает о вещем сне — прилёте птицы с царским венцом в клюве. Сюжет этот в разных вариантах распространён у народов Средней Азии, в нём популярен образ птицы, своим прилётом освящающей выбор царя. [27] Другой эпизод, который удается связать с эпосом, — сцена поединка на южной стене этого же помещения. Сцена эта находит аналогии в ряде известных памятников искусства. Так очень близким к этой сцене, как это было отмечено М.М. Дьяконовым и Б.Я. Стависким, является сюжет на известной художественной чаше из Кулагиша, хранящейся в Государственном Эрмитаже. [28]
Интересной деталью поединка на чаше из Кулагиша является изображение поломанных предметов вооружения, валяющихся у ног сражающихся воинов. Именно эта подробность особенно ярко выступает в многочисленных описаниях поединков витязей в «Шахнаме». Как правило, прежде чем один из сражающихся богатырей одерживает победу, борцы пускают в дело один за другим все имеющиеся у них предметы вооружения. Можно полагать, что в состав эпического сказания входил и эпизод бегства юноши от разъярённого быка, запечатлённый слева от центральной фигуры на южной стене, но, к сожалению, ни на имеющихся в нашем распоряжении памятниках искусства, ни в письменных источниках близких к этому сюжету параллелей мы не знаем.
Таким образом, общий эпический характер росписи этого помещения можно полагать вполне вероятным, но с определённым известным сюжетом его связать невозможно.
(48/49)
Другой неизвестный нам по другим источникам эпический сюжет представлен на росписях стен помещения XXI/1. Некогда на этих стенах был, как это вполне очевидно, многочисленный цикл эпизодов, но сохранились только два из них, участниками которых изображены один и те же персонажи. Как отмечено при описании этих росписей, они сопровождаются надписью, на которой удалось прочесть и имя одного из действующих лиц повествования. Однако имя это по другим источникам неизвестно. Таким образом, следует, очевидно, признать, что в эпосе согдийцев имелись сказания, которые впоследствии исчезли из памяти их потомков.
Сюжеты животного эпоса и фольклора. ^
Выделяя в особую категорию эти сюжеты, следует подчеркнуть условный характер названия предложенной категории живописи, отталкивающейся от современных понятий. Сюжетам, которые ныне рассматриваются как фольклорные, сказочные, в древности могли придавать и определённое религиозное значение. Примером могут служить джатаки — рассказы о перерождениях Будды, включающие (с современной точки зрения сказочные) фольклорные сюжеты. Однако в пенджикентской живописи имеется один внешний признак, дающий право выделить эту категорию сюжетов, как и сюжеты жанровые, в особые разделы. В подавляющем большинстве мы встречаемся с ними в нижних ярусах живописи. Росписи этих ярусов распадаются на отдельные, не связанные друг с другом сцены, отличающиеся крайне большим разнообразием своих сюжетов. По всей вероятности, в самом выборе последних для этого яруса художники пользовались определённой свободой и черпали их из разных источников, не подчиняя сюжеты теме основных росписей, которую, очевидно, диктовали владельцы жилищ. На открытых до настоящего времени стенных росписях имеется уже много десятков таких отдельных сценок самого разнообразного содержания. В большинстве случаев они ещё недостаточно обработаны и изучены, для того чтобы охарактеризовать их определённым образом и даже выяснить их общее содержание. Однако содержание некоторых из них выясняется вполне однозначно, и одновременно также и их источники. По крайней мере два таких источника без особого труда можно установить. В приведённом выше описании сюжетов нижнего яруса помещения VI/1 и XXI/1 было отмечено в отдельных сценах присутствие одних животных. Так, характерна сцена, помеченная номером 9 в нижнем ярусе помещения VI/1, на которой мы видим быка, льва и шакалоподобного зверя. В таком сочетании выступают, как известно, главные герои знаменитого индийского сборника сказок «Панчатантра», в арабско-персидской литературе известного под именем «Калила и Димна». [29] Особо наглядной иллюстрацией к рассказу из «Панчатантры» является и сцена из нижнего яруса живописи XXI/1, где действующими персонажами выступают лев и заяц. Источник этого сюжета мы находим в притче, помещённой в «Панчатантре», в разделе, озаглавленном «Разъединение друзей». Эта притча рассказывает о льве, опьянённом гордостью, которого погубил ловким обманом заяц и тем самым спас от тирании льва не только себя, но и других зверей. Говоря о связи сюжетов с «Панчатантрой», необходимо подчеркнуть, что речь идёт именно о литературном источнике, который был известен в Согде и был знаком, несомненно, пенджикентским художникам. Сейчас хорошо известно, что сочинение это имелось в переводе на согдийский язык (благодаря находкам отрывков из этого сочинения в Восточном Туркестане [30]). Другим источником, о существовании которого известно по отрывкам из него на согдийском языке, является сборник басен Эзопа. [31] Именно к нему восходит сцена из нижнего яруса помещения XXI/1 с изображением юноши, наказанного за чрезмерную жадность. Убив птицу, приносившую ему золотые яйца, с целью завладеть всем их запасом, он потерял источник обогащения. Как известно, этот сюжет в форме сказки о «птице счастья» стал достоянием мирового фольклора, в том числе и среднеазиатского. [32] Фольклорный характер сюжета очевиден в сцене освобождения юношей девушки из ствола дерева — на нижнем ярусе росписей помещения VI/41, также как и сцена охоты за семиглавым зверем. Несомненно, что и другие сцены нижних ярусов при расшифровке содержания найдут аналогичное толкование.
Сюжеты жанровые. ^
Как и в отношении фольклорных тем, следует подчеркнуть, что к сюжетам, выделяемым нами в качестве жанровых, нельзя подходить с позиций современных понятий о бытовом жанре. Стиль памятников искусства раннего средневековья, в том числе и пенд-
(49/50)
жикентских, исключает представление о жанре как индивидуальном изображении персонажей или живописной передачи «с натуры» отдельных эпизодов. Художники Пенджикента, однако, обнаруживают примечательную настойчивость в точной передаче вещественного мира — реалий в широком смысле этого слова. Обстоятельство это усложняет задачу выделения отдельных сюжетных категорий из общей массы дошедших памятников искусства. Даже в репертуаре сюжетов, которые рассматриваются как культовые или эпические, немало таких, которые, взятые в отдельности, вполне могу быть рассмотрены и как жанровые в упомянутом ограниченном смысле слова, то есть отражающие обстановку времени. Таково, например, большинство батальных или пиршественных сцен. Главная фигура батальных сцен — это по преимуществу тяжеловооружённый, снаряжённый различного рода защитным и боевым оружием всадник. Излюбленным видом боя является поединок. Если же это столкновение группы воинов, то оно обычно трактуется как столкновение в сомкнутом строе конных дружин. Выше подчеркивалось, что поединок является темой эпических сказаний. Однако и всё то, что мы знаем о военном деле в Средней Азии, и в частности в Согде, в доарабское время свидетельствует о большом месте, которое занимал поединок в ходе боевых действий. Известно, что и независимо от собственно военных действий популярным бытовым явлением было единоборство воинов на турнирах, которые проводились по различным поводам. На основании письменных источников достаточно хорошо выяснен общий характер военного устройства. В основном это отряды типа дружин, которые комплектовались из феодальной верхушки — дихканской молодёжи. В аспекте сказанного батальные сцены, будь то поединок или массовая баталия, несомненно отражают военный быт своего времени.
Сказанное о батальных сюжетах в такой же мере относится и к теме пиршества. Очевидно, что пиршественные сцены, которые входят в композиции, отнесенные нами к культовым или эпическим, отражают и характер бытового пиршества, его обстановку. Образец «жанровой» пиршественной сцены представлен на росписи помещения XVI/10, на которой первоначально было изображено, очевидно, не менее тридцати участников. Судя по сохранившимся деталям, участники этой сцены принадлежали к богатому купечеству, хотя по внешнему облику они мало чем отличаются от представителей военно-феодальной знати. Близость между этими слоями в согдийской среде была подмечена на основании письменных источников ещё В.В. Бартольдом. [33]
На пенджикентских росписях мы обнаруживаем детали, которые определённо отличают бытовую, «жанровую» сторону пиршественных сцен. Такова, например, небольшая сцена пира на нижнем ярусе росписей помещений VI/41, где художник не преминул изобразить лежащий на боку опорожненный кувшин. Постоянными персонажами пенджикентских произведений искусства являются музыканты и танцоры. Несомненно, что в отдельных композициях их присутствие связано с тем или иным культовым обрядом. Но вместе с тем хорошо известна исключительно большая популярность искусства музыки и танцев в быту населения. Об этом свидетельствуют и многие сообщения письменных источников. [34] На пенджикентских росписях целые группы музыкантов и танцоров (помещения I/10а, VI/13, VI/42), а также изображения отдельных представителей этих двух видов искусства выполнены в живописи и скульптуре: «арфистка» в помещении VI/1, деревянные скульптуры танцовщиц (III/47). Отражением быта в среде господствующего слоя согдийского общества являются сцены игры в нарды, которые дважды встречены в росписях Пенджикента (VI/13 и VII/11). Находки игральных костей, а также данные письменных источников вполне подтверждают сказанное. Характерны по своей трактовке памятники искусства Пенджикента, на которых переданы сцены охоты. Выше отмечена сцена охоты (в помещении VI/41), в которой всадник без оружия с помощью гончих псов преследует семиглавого волка. Избрав объектом охоты сказочного зверя, художник передал характер самой охоты вполне в жанровом духе. В степных районах Средней Азии преследование волков и других животных верхом на лошади с помощью охотничьих птиц или собак практикуется и поныне. Из бытовой обстановки взята художником и фигура пешего егеря, участвующего в охоте. Любопытна деталь в его одежде — подоткнутые за пояс полы кафтана, характерная для изображения слуги. Позже, в миниатюре точно так же изображаются работники физического труда. Эту деталь можно было постоянно наблюдать и в недавнем быту как в крестьянской, так и в ремесленной среде. В изображении охотничьих сцен в резном дереве (VII/11), например, в стрельбе из лука, отражён реальный для Средней Азии приём стрельбы. Эта тенденция к «жанровости» проявляется в ряде небольших сцен живописи нижнего яруса помещения VI/41, а также в «семейном портрете» на резной деревянной доске из помещения VII/11. И, наконец, почти полностью как бытовую, жанровую можно рассматривать живописную сцену спортивного единоборства в помещении XVII/14.
[5] Е. Herzfeld, Die Sassanidische Quadriga Solis et Lunae. — AMI, 3, p. 129ff.
[6] R. Curiel et G. Fussman, Le trésor monétaire de Kunduz, Paris, 1965, Pl. ХХХIII, 388.
[8] См. : В.А. Мешкерис, Терракоты Самаркандского музея, Л., 1962, стр. 43, рис. 11/4. На вероятность такой интерпретации терракоты указал Б.И. Маршак.
[9] Абурейхан Бируни, Избранные произведения, I, Ташкент, 1957, стр. 233, 239.
[13] Цит. по кн.: Е. Chavannes et P. Pelliot, Un traité manichéen retrouvé en Chine, Paris, 1913, p. 191.
[19] Об иконографии Шивы см.: Т.A. Copinatha Rao, Elements of Hindu iconography, vol. II, Madras, 1916, part 1, pp. 9, 39.
[20] О Тримурти см.: J.N. Banerjea, The development of Hindu Iconography, Calcutta, 1956, p. 124.
[21] Стихотворный перевод см.: Фирдоуси, Шахнаме, т. I, M., 1957, стр. 22.
[23] См.: «Le livre des rois par Abou’l Kasim Firdousi» (Trad. par I. Mohl), I, Paris, 1878, p. 510.
[24] Цит. по кн. : E. Benveniste, Textes Sogdiens (Mission E. Pelliot, III), Paris, 1940, p. 134.
[25] Цит. по кн. «Le livre des rois par Abou’l Kasim Firdousi».
[26] См.: А.М. Беленицкий, Об археологических работах Пенджикентского отряда в 1958 г. — «Археологические работы в Таджикистане», вып. VI, Душанбе, 1961, стр. 92.
[29] «Панчатантра» (перевод с санскрита и примечания А.Я. Сыркина), М., 1958, стр. 57.
[30] См.: W.В. Henning, Sogdian Tales. — BSOAS, XI, p. 471.
[31] Ibid., p. 474.
[32] «Басни Эзопа», M., 1958, стр. 89 (басня 87 — «Гусыня, несущая золотые яйца»).
[34] Особенно много данных из китайских источников приведено в кн.: E. Shafer, The golden Peaches of Samarkand, Berkley and Los Angeles, 1963, p. 51 [см. русский перевод].
|