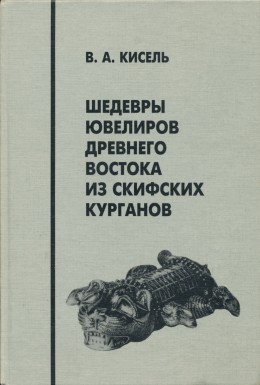 В.А. Кисель
В.А. Кисель
Шедевры ювелиров Древнего Востока из скифских курганов.
// CПб: «Петербургское востоковедение». 2003. 192 с. ISBN 5-85803-245-1
Глава I.
История изучения памятников импортной торевтики
из ранних скифских курганов.
Термин «торевтика» как название отдельной отрасли прикладного искусства произошёл от греческого слова τορευω — ‘покрываю резьбой, чеканю’. Обычно под ним подразумевают ручную рельефную обработку художественных изделий из металла: чеканку, тиснение, пунсоновку, а также отделку литых предметов [Энциклопедический словарь, 1901, с. 625; 1955, с. 416; БСЭ, 1977, с. 104; Сов. Энциклопедический словарь, 1987, с. 1345].
Произведения торевтики достаточно специфичны. Как правило, они выполнены на очень высоком художественном и техническом уровне. Некоторые вещи вообще уникальны, а другие, хотя и не единичны, не дают устойчивых серий.
В процессе отбора памятников из исследования были намеренно исключены малоинформативные, невыразительные изделия, массовый тиражированный материал (бляшки), а также вещи, оказавшиеся недоступными для изучения. Не включены в работу и изделия, изготовленные явно кочевническими и греческими мастерами 1. [сноска: 1 Подробное описание предметов дано в каталоге (см. Приложение II).]
По функциональному назначению выделяются следующие категории предметов: оружие и вещи, связанные с вооружением; украшения; детали дворцовой мебели; пиршественная и ритуальная посуда; элементы транспортных средств, а также изделия, не имеющие чёткой атрибуции.
Впервые внимание научной общественности к драгоценным находкам из кочевнических курганов было привлечено в конце XVII в. благодаря собирательской деятельности Н.К. Витзена. Ещё более подогрели этот интерес раскопки Литого кургана в Херсонской губ., произведённые А.П. Мельгуновым во второй половине XVIII в. [Придик, 1911, с. 1; Вадецкая, 1981, с. 6]. Однако широкую известность данные памятники приобрели только в XIX в., когда начались систематические археологические исследования скифских курганов в Северном Причерноморье. Научное же осмысление изделий торевтики относится уже к XX в.
Накопившаяся к настоящему времени огромная литература по данной проблематике в основном состоит из беглых замечаний и неразвёрнутых наблюдений, включённых в исследования по скифской истории и звериному стилю, а также из ряда статей, содержащих анализ отдельных памятников торевтики. Предлагаемый ниже историографический обзор не претендует на исчерпывающую полноту, так как в нём отражены лишь основные направления исследований в этой области. Автор полагает, что историю изучения памятников торевтики целесообразно не излагать суммарно, а конкретизировать в соответствии с основными вопросами, которые рассматривались или только затрагивались исследователями.
(8/9)
§ 1. Вопросы датировки предметов торевтики. ^
Хронологическая проблема — важнейшая тема в трудах учёных, занимавшихся скифской историей. Одним из первых среди них следует упомянуть С.А. Жебелёва, осуществившего анализ серебряных зеркала и ритона из Келермеса и предложившего датировать их концом VII — началом VI в. до н.э. [Жебелёв, 1905, л. 48]. К сожалению, столь важный для скифологов труд не был опубликован (рукопись хранится в архиве).
Вслед за С.А. Жебелёвым активно включились в работу по определению хронологии предметов торевтики два других ученых — Е.М. Придик и Б.В. Фармаковский. И если в центре внимания Е.М. Придика оказался Мельгуновский клад (Литой курган), то Б.В. Фармаковский отдал предпочтение келермесским древностям. На основании тщательного изучения мельгуновских находок Е.М. Придик осторожно датировал комплекс временем не позднее первой половины VI в. до н.э. [Придик, 1911, с. 14, 20-21]. Б.В. Фармаковский же в серии докладов, прочитанных в 1904, 1905, 1916 и 1920 гг., доказывал, что келермесские зеркало и ритон следует относить к первой трети VI в. до н.э. [Фармаковский, 1917, л. 3; 1920, л. 13]. Для меча и ножен он допускал более широкий временной промежуток — в пределах VII-VI вв. до н.э., оговариваясь, однако, что акинак из Литого кургана выглядит моложе келермесского [Фармаковский, 1920, л. 20, 23-25].
М.И. Ростовцев, занимаясь изучением феномена скифской культуры, также неоднократно останавливался на предметах торевтики. Находки из Литого и Келермесских курганов он датировал VI-V вв. до н.э. [Ростовцев, 1918, с. 45; 1925, с. 171; 1993, с. 39; Rostovtzeff, 1929, р. 26]. Столь поздняя датировка объясняется ошибочным представлением исследователя о наличии греческой керамики в Келермесских курганах [Иессен, 1947, с. 40]. В действительности там были встречены сосуды исключительно местного производства.
В свою очередь, М. Эберт поддержал идею С.А. Жебелёва о датировке келермесских вещей рубежом VII-VI вв. до н.э. [Ebert, 1929, S. 82-83].
Только около двух десятилетий спустя, когда появились новые археологические материалы по скифской архаике, создались условия для более широкого сравнительного анализа памятников. А.А. Иессен, занимаясь разработкой проблем греческой колонизации Северного Причерноморья и хронологии археологических объектов Северного Кавказа, определил изделия торевтики из Келермесских, Литого и Криворожского курганов как произведения урартских мастеров начала VI в. до н.э. [Иессен, 1947, с. 40, 44, 47-49; 1949, с. 65-66; 1954, с. 113]. В это же время Б.Б. Пиотровский, изучая характер взаимоотношений скифов и населения Ближнего Востока, счёл возможным датировать мечи и ножны из Келермесских и Литого курганов концом VII — началом VI в. до н.э. [Пиотровский, 1940, с. 84-88; 1959, с. 248-253; 1989; с. 5-7]. А келермесскую золотую чашу он даже связал с ассирийскими памятниками времени Ашшурбанипала [Пиотровский, 1962, с. 120-121].
В середине 50-х гг. вышли две содержательные статьи М.И. Максимовой, специально посвящённые анализу зеркала и ритона из Келермеса. Хотя предложенная ею дата — 580-570 гг. до н.э. — была явно завышена, большинство учёных поддержали её [Максимова, 1954, с. 304-305; 1956, с. 235].
Приблизительно тогда же А.П. Манцевич в серии работ по скифской торевтике пришла к выводу о том, что серебряная головка быка из Криворожского кургана, золотые серьги из станицы Крымской и золотая ча-
(9/10)
ша из Келермеса должны относиться к концу VII — началу VI в. до н.э. или немного более раннему времени [Манцевич, 1961а, с. 338-339]. Золотой «обруч» из Криворожского кургана она сочла возможным датировать VIII-VII вв. до н.э. [Манцевич, 1959, с. 61-64, 79].
Б.Н. Граков попытался упорядочить столь различные взгляды по данному поводу и занял промежуточную позицию. Келермесские и мельгуновские изделия он отнес к рубежу VII-VI вв. до н.э., а для бляхи в виде фигуры оленя из Костромского кургана не исключал и более раннюю дату [Граков, 1971, с. 102, 116-117].
К концу 70-х — началу 80-х гг. в скифологии назрела необходимость пересмотра хронологии памятников скифской архаики и сужения широких датировок. Наиболее обоснованно это было продемонстрировано в трудах В.А. Ильинской, А.И. Тереножкина [Ильинская, Тереножкин, 1983], В.Г. Петренко [Петренко, 1990], Л.К. Галаниной [Галанина, 1983; 1993; 1995; 1997], С.В. Полина [Полiн, 1987], Г. Коссака [Kossack, 1983; 1986; 1987], Г. Мансфельда [Mansfeld, 1988; Мансфельд, 1992], С.В. Махортых [Махортых, 1991], И.Н. Медведской [Медведская, 1992], А.Ю. Алексеева [Алексеев, 1992], А.И. Иванчика [Иванчик, 2001].
Необходимо упомянуть здесь и работы Е.В. Черненко, посвящённые парадному оружию из Келермесских и Литого курганов. Датировав мечи и секиру концом VII в. до н.э., он сделал вывод о происхождении их из одной мастерской [Черненко, 1980, с. 24-26; 1987, с. 29-30].
В.Г. Петренко на материале собственных раскопок в Ставропольском крае также сумела привести новые доказательства для удревнения изделий торевтики раннескифской эпохи. Найденная в кургане у х. Красное Знамя бронзовая обойма от дышла колесницы с изображением богини Иштар по стилистическим признакам была отнесена ею к середине — третьей четверти VII в. до н.э. [Петренко, 1980, с. 18].
Анализ нескольких сюжетов келермесского зеркала, проведенный Л.В. Копейкиной, позволил предложить более раннюю дату для этого предмета — последняя четверть VII в. до н.э. К сожалению, работа не была закончена из-за преждевременной смерти исследовательницы [Копейкина, 1981].
В.А. Ильинская и А.И. Тереножкин, приведя аргументы в пользу удревнения ранних скифских комплексов, датировали памятники торевтики временем не позднее конца VII в. до н.э., не исключая и рубеж VII-VI вв. до н.э. Кроме того, они попытались выделить среди келермесских древностей трофеи, добытые во время переднеазиатских походов, и вещи, изготовленные по скифскому заказу [Ильинская, Тереножкин, 1983, с. 62]. Тем самым В.А. Ильинская и А.И. Тереножкин наметили путь решения проблемы в определении различных форм скифских контактов с населением Ближнего Востока посредством изучения памятников торевтики.
А.Ю. Алексеев в работе с хронографией Скифии предложил отнести большинство известных импортных изделий торевтики раннескифского периода ко второй — третьей четверти VII в. до н.э. [Алексеев, 1992, с. 48-55]. Для нижней границы этого временного промежутка новые доказательства привела Л.К. Галанина, проанализировав скульптурные колчанные застёжки [Галанина, 1993, с. 101-103; 1997, с. 186]. С. Михель в книге, посвящённой изучению образа рыбы в скифском искусстве, также датировала некоторые вещи, в частности мечи и ножны из Литого и Келермесских курганов, второй половиной VII в. до н.э. [Michel, 1995, S. 181-183].
Несмотря на вескость аргументов сторонников удревнения скифской архаики, ряд исследователей придерживаются прежних датировок (нача-
(10/11)
ло — первая треть VI в. до н.э.). Среди них Н.В. Анфимов [Анфимов, 1982], В.А. Кореняко [Кореняко, 1990; 2001] и Т.М. Кузнецова [Кузнецова, 1991; 1993]. Отметим, что и В.Е. Ерёменко, предпринявший корреляционное исследование скифской хронологии и настаивающий на удревнении начальной фазы истории Скифии, все же счёл возможным отнести переднеазиатские импорты к 650-585 гг. до н.э. [Ерёменко, 1997, с. 50]. Правда, скрупулёзный анализ предметов торевтики не входил в задачу этих учёных.
В последние годы в популярных изданиях появились публикации совершенно курьёзного характера. Среди них наиболее занятной является статья И. Давиденко, считающего многие импортные вещи из скифских курганов, в том числе келермесскую секиру, казачьими сокровищами XVI-XVII вв. [Давиденко, 2001, с. 36-37].
§ 2. Проблема происхождения скифского звериного стиля
и определение мест производства предметов торевтики. ^
Данная тема, без сомнения, неотделима от проблем, связанных с изучением ранней скифской торевтики, поскольку редкий её предмет не украшен фигурами животных, выполненными в характерной скифской манере.
Прежде всего, следует упомянуть труд Я.И. Смирнова «Восточное серебро. Атлас древней серебряной и золотой посуды восточного происхождения, найденной преимущественно в пределах Российской империи», оказавший неоценимую помощь многим учёным. В книге был приведён ряд наблюдений относительно интересующих нас скифских памятников. Так, например, Я.И. Смирнов атрибутировал келермесскую чашу как урартское произведение, находящее аналогии в ассирийском искусстве, а голову быка из Криворожского кургана — как наконечник ритона, изготовленного в одной из малоазийских сатрапий государства Ахеменидов. При этом ученый датировал их VII-VI вв. до н.э. [Смирнов, 1909, с. 4, 7; Манцевич, 1958, с. 198, 201].
В упоминавшемся исследовании, посвящённом мельгуновским находкам, Е.М. Придик уделил большое внимание стилистике вещей. В частности, он отметил, что если изображения на мече и ножнах выполнены в традициях ассирийского искусства, то форма этих предметов, а также фигура оленя указывают на скифо-персидское производство. Местом их изготовления могли быть Персия, Армения или Кавказ. С ассирийской школой торевтики учёный связал диадему из плетёных шнуров [Придик, 1911, с. 14-16, 20-21].
Большая работа Б.В. Фармаковского, посвящённая памятникам архаики, найденным на территории России, наметила целое направление в решении задачи по определению места изготовления наиболее ранних произведений торевтики скифской эпохи. По его мнению, ответ на этот вопрос мог бы указать и на место зарождения евразийского звериного стиля. Такой гипотетический центр исследователь видел в греческих городах Малой Азии и Ионийского архипелага [Фармаковский, 1914, с. 34-37]. Несмотря на массу ценных предположений и замечаний, с общим выводом Б.В. Фармаковского трудно согласиться. По-видимому, активное влияние на его работу оказали идеи «грекоцентризма», широко распространённые в те годы, и сознательное игнорирование подобных памятников азиатского происхождения, не связанных с восточногреческой культурой.
Более прозорливым и наблюдательным оказался Г.И. Боровка, который, не отвергая переднеазиатского и греческого влияния на скифский звериный стиль, выводил его из карасукской изобразительной традиции Южной Сибири. Древнейшую основу скифского искусства Г.И. Боровка
(11/12)
видел в памятниках лесной полосы Восточной Европы и Центральной Сибири [Borovka, 1928, р. 30-31, 43, 69-70, 74-88]. М.И. Ростовцев, занимавшийся специально изучением искусства древних кочевников, отметив достаточно близкое сходство изделий скифского звериного стиля с памятниками Луристана и Ордоса, всё же в качестве возможного места зарождения скифской изобразительной традиции назвал регион Центральной Азии или Горного Алтая [Rostovzeff, 1929, р. 63]. Говоря о конкретных произведениях торевтики из скифских курганов, исследователь отметил в украшении келермесской секиры явное преобладание элементов скифской художественной традиции над восточными [Ростовцев, 1925, с. 340-341]. Тем не менее, создатель секиры, по мнению М.И. Ростовцева, «вышел из школы мастеров Передней Азии и технически вполне зависим от неё» [Ростовцев, 1925, с. 39].
Исследование Е.Р. Малкиной, посвящённое проблеме сюжетного репертуара скифского искусства, заставило её обратиться к шедеврам, обнаруженным в Келермесских и Литом курганах. Отметив доминирование элементов ассиро-вавялонского искусства в орнаментике ножен и мечей, Е.Р. Малкина заключила, что фигуры на них нанесены чисто механически, то есть имеют сугубо декоративное значение, что в принципе никак не вяжется с композиционной продуманностью и ритмикой изображений. Исследовательница подробно остановилась на вопросе об этнической принадлежности создателей секиры, чаши, меча и бляхи в виде фигуры пантеры. Она справедливо отвергла скифское авторство, указав, что мастера должны были одновременно хорошо знать переднеазиатское и скифское искусство, чего трудно было бы ожидать от скифов, и сделала вывод о греческом происхождении торевтов [Malkina, 1928, S. 164-168]. Однако такое заключение кажется странным в связи с отсутствием на этих предметах характерных античных стилистических элементов.
Интересны, но не бесспорны взгляды К. Шефольда, считавшего, что звериный стиль зародился на севере Ирана, но окончательно это искусство оформилось только при соприкосновении скифов с малоазийскими греками. На основе внимательного анализа изобразительных мотивов К. Шефольд пришёл к выводу, что келермесские и мельгуновские художественные ценности вышли из пяти ионийских мастерских. Стилистика же знаменитой келермесской пантеры и костромского оленя, по мнению учёного, чужда ионийской традиции и скорее всего связана со скифским самобытным творчеством [Schefold, 1938, S. 10-13, 70-71]. Очевидно, на идеи Шефольда в основном повлияли те же факторы, связанные с теорией «грекоцентризма», что и на взгляды Б.В. Фармаковского. Поэтому вне исследования осталось богатейшее собрание памятников искусства родственных скифам кочевнических культур.
В 1940-х гг. Э. Миннз вновь вернулся к гипотезе сибирского происхождения скифского звериного стиля [Minns, 1942], впервые высказанной им ещё в 1913 г. [Minns, 1913, р. 261].
А.А. Иессен и Б.Б. Пиотровский, неоднократно касаясь в своих работах скифских находок, обоснованно отметили значительное урартское влияние на раннее скифское искусство. Целый ряд предметов из Келермесских, Литого и Криворожского курганов А.А. Иессен предложил считать изделиями урартского производства [Иессен, 1947, с. 40, 44, 47-49; 1949, с. 65-66; 1954, с. 113]. Б.Б. Пиотровский в том же ключе писал о мечах и ножнах, допуская возможность их изготовления не только в северокавказском урартском центре, но и в местной (скифской?) среде по урартским образцам [Пиотровский, 1949, с. 84-88; 1959, с. 248-253; 1989, с. 5-7].
(12/13)
В упоминавшихся выше работах М.И. Максимовой была поддержана идея об ионийском влиянии на звериный стиль, поскольку фигуры на келермесском зеркале и ритоне, по её наблюдениям, выдержаны в духе изобразительных канонов Ионии и Эолии. Мастера, изготовившие эти предметы, как считала М.И. Максимова, работали или в Закавказье, или в греческой колонии на Тамани [Максимова, 1956, с. 235].
A.П. Манцевич выдвинула малоправдоподобное предположение о происхождении большинства художественных шедевров Скифии из фракийских мастерских. В большинстве случаев исследовательница игнорировала явное несоответствие между сопоставляемыми ею вещами из болгарских и южнорусских комплексов. Так, к произведениям фракийских торевтов ею были отнесены «обруч» из Криворожского кургана [Манцевич, 1959, с. 79], серьги из станицы Крымской, диадема и «украшения трона» из Келермеса [Манцевич, 1961, с. 161-162]. Говоря о келермесском зеркале и не имея возможности отрицать на нём явные элементы ближневосточного искусства, А.П. Манцевич всё же и его причислила к изделиям фракийцев, отметив, однако, что в орнаментике зеркала ощущается финикийское влияние [Манцевич, 1949, с. 210, примеч. 6]. Другие же два предмета — голова быка из Криворожского кургана и чаша из Келермеса — были проанализированы исследовательницей на самом высоком уровне. А.П. Манцевич выдвинула предположение, что голова являлась украшением табурета ассирийского типа и указала на типологически близкие вещи из Келермеса — львиные головы и наконечник с розеткой [Манцевич, 1958, с. 197, 200-202]. Для чаши были найдены убедительные аналогии в ассиро-вавилонском искусстве [Манцевич, 1961а, с. 338-339].
X. Потратц указывал на иное происхождение рассматриваемых келермесских и мельгуновских находок. Предполагая, что центр их производства локализовался в районах Северного Ирана [Potratz, 1959], он тем самым поддержал идею, высказанную М.И. Ростовцевым.
B.Д. Блаватский в ряде работ выступил в поддержку версии М.И. Максимовой, согласившись и с поздней датой зеркала из Келермеса, и с интерпретацией его стилистики как греческой традиции. По мнению В.Д. Блаватского, предмет был изготовлен на Боспоре, по-видимому греком — переселенцем из Малой Азии [Блаватский, 1954, с. 29-30; 1961, с. 142; 1964, с. 26; 1985, с. 79].
Р.Д. Барнетт, занимаясь изучением мидийского искусства, не смог не остановиться на проблемах скифского звериного стиля. Исследователь выделил ряд вавилонских и урартских орнаментальных элементов в оформлении секиры и мечей из Келермеса и Литого кургана, отметив при этом и собственно скифские черты, которые, по его мнению, являются чуждыми для Ближнего Востока, привнесёнными извне [Barnett, 1962, р. 80-84, 85-86, 92-93].
Много внимания уделил вопросу происхождения скифского искусства М.И. Артамонов, который последовательно доказывал гипотезу о североиранских истоках этой художественной традиции. Однако относительно происхождения конкретных находок из Келермеса и Литого кургана его взгляды со временем претерпели изменения. Если в конце 1940-х гг. местом их изготовления он называл Северное Предкавказье [Артамонов, 1948, с. 174], то в 1960-х — уже Ближний Восток [Артамонов, 1968, с. 43].
М.И. Вязьмитина, изучая памятники искусства из днепровской лесостепи, в качестве аналогий им привлекла образцы парадного оружия, найденные в Келермесском и Литом курганах. Отметив смешение в их орнаментике черт переднеазиатского (в частности ассирийского) искусства и скифского звериного стиля, она отнесла их к категории восточного
(13/14)
импорта в скифскую среду [Вязьмитина, 1963, с. 169]. Впоследствии Р. Гиршман привёл дополнительные доказательства в пользу вывода о том, что келермесские и мельгуновские изделия торевтики были изготовлены в Передней Азии. По его мнению, они делались в мастерской, существовавшей при царской ставке скифов. Как представлялось Р. Гиршману, в мастерской работали разноэтничные пленные восточные мастера, которые, пытаясь освоить изобразительный язык скифского искусства, создали в Иране смешанный ассиро-урарто-скифский звериный стиль [Ghirshman, 1964, р. 98-113]. Такое видение процесса возникновения новой художественной традиции разрешает проблему отличия искусства скифов от стилистической манеры родственных им кочевников азиатских степей.
Интересную работу провёл П. Амандри. Подробно рассмотрев каноничную схему звериного стиля, выработанную для изображения лежащего копытного животного, исследователь проследил путь зарождения и развития этой иконографии на древнем Востоке и пришёл к выводу, что скифы заимствовали её в начале I тыс. до н.э. из мест где-то «между Кавказом и Загросом» [Amandry, 1965, р. 159]. Однако, как и ряд уже упоминавшихся учёных, П. Амандри не принимал во внимание аналогии, происходящие из Средней и Центральной Азии и Южной Сибири. Учёный также, проанализировав келермесские «украшения трона», зеркало, ритон, диадемы из Литого кургана и Келермеса, отметил в их стилистике явное доминирование ближневосточных (в основном иранских) элементов над греческими. П. Амандри, вслед за Р. Гиршманом, выделял восточную фазу в развитии скифского искусства, характеризующуюся сильным импульсом переднеазиатской и восточногреческой изобразительных традиций [Amandry, 1965, р. 891-892, 895, 907-910, 913].
В.А. Ильинская, изучив ряд образов звериного стиля, выявила среди них мотивы ближневосточного происхождения таких как кошачий хищник с поджатыми лапами, козёл с подогнутыми ногами и повёрнутой назад головой, птица с распростёртыми крыльями, орлиноголовый восточный грифон, геральдические композиции. Обращаясь к конкретному материалу, исследовательница доказывала, что золотая пантера из Келермеса была изготовлена скифским мастером, использовавшим ряд восточных стилистических приемов [Ильинская, 1965, с. 92-95, 97, 106-107; 1971, с. 68-70].
В связи с публикацией находок из Чиликтинского кургана С.С. Черников коснулся как общих проблем звериного стиля, так и отдельных изделий с зооморфными мотивами из Келермеса. По его мнению, бляха-пантера и одна из диадем изготовлены скифским торевтом, ножны, меч и секира — урартским, зеркало и ритон — греческим, а чаша — ассирийским. Несомненную ценность имеет наблюдение С.С. Черникова о том, что все иноземные мастера стремились в большей или меньшей степени приблизиться к скифской стилистической манере, чем объясняется отступление их от канонов родного искусства [Черников, 1965, с. 126-127].
К. Йеттмар, собравший в книге по искусству степей Евразии громадный фактический материал, сумел показать, что изобразительное творчество скифо-сакского мира являлось сложным сплавом различных художественных традиций, среди которых на раннем этапе особенно весомым, по мнению учёного, был вклад Ирана. Обратив в своей работе особое внимание на парадную секиру из Келермеса, он атрибутировал её в качестве урартского произведения, вывезенного скифами на Северный Кавказ [Jettmar, 1967, р. 42-43, 219-223].
А.М. Хазанов в популярном обзоре различных сфер скифской культуры также не прошёл мимо данной тематики, но затронул иные проблемные аспекты памятников торевтики. В частности, он указал на отчётли-
(14/15)
вую связь предметов архаического звериного стиля с аристократической воинской средой. А.М. Хазанов считал, что многие предметы могли служить как инсигниями власти, так и маркерами родовой и социальной принадлежности. В качестве параллели исследователь указал на эмблематику средневековых феодалов [Хазанов, 1975, с. 78-79]. Вывод А.М. Хазанова можно развить, поставив вопрос о наличии в скифском обществе двух художественных стилей — народного («демократического») и элитного («аристократического»), что даёт возможность совершенно иначе взглянуть на проблему появления и развития искусства кочевников.
А.И. Шкурко, изучавший лесостепной вариант скифского звериного стиля, счёл возможным выделить «саккызско-келермесскую» группу памятников, сформировавшуюся в условиях переднеазиатских походов кочевников. Особенностью изделий этой группы является сочетание в их стилистике ближневосточных элементов с оригинальной скифской основой [Шкурко, 1975, с. 6; 2000, с. 306].
Разработкой механизма слияния скифского искусства с греческим занималась Н.А. Онайко, которая в качестве иллюстрации этого явления сослалась на декор келермесского зеркала, выполненного, по её мнению, в Гермонассе эолийским торевтом. Бляху в виде пантеры Н.А. Онайко также связывала с продукцией греческой мастерской [Онайко, 1976, с. 80-81, примеч. 24, с. 84, примеч. 39].
Особого внимания заслуживает посвященная древнеиранскому искусству монография В.Г. Луконина, где он проанализировал и целый ряд памятников раннескифской торевтики. В.Г. Луконин предположил, что эклектичные по стилю келермесские и мельгуновские предметы вооружения были сделаны восточными мастерами по скифскому заказу. Как полагал исследователь, скифское искусство зародилось на севере Ирана и распространилось через Кавказ на Кубань и в Северное Причерноморье. К сожалению, в этой работе не были привлечены аналогичные, порой более ранние, центральноазиатские памятники звериного стиля. Но как бы то ни было, несомненно, верно наблюдение В.Г. Луконина, что ранняя скифская изобразительная традиция представляла собой живое гибкое явление, которое, передвигаясь на новые территории, обогащалось новыми элементами и утрачивало старые [Луконин, 1977, с. 23-25, 30-34].
Е.В. Переводчикова впервые осуществила подробный стилистический анализ келермесской секиры на уровне изобразительной знаковой системы и
рассмотрела характерные черты прикубанского варианта звериного стиля. Исходя из идеи полицентрического происхождения искусства древних кочевников, она высказала мысль, что секира и бляха в виде пантеры из Келермеса фиксируют один из этапов формирования северно-причерноморского звериного стиля, имеющего истоки на Ближнем Востоке и отличного от скифо-сибирского искусства, происходящего из иного центра [Переводчикова, 1979, с. 153-155; 1987, с. 50]. На первый взгляд, полицентрическая гипотеза примиряет два противоположных мнения о родине звериного стиля (Ближний Восток или Центральная Азия) [Переводчикова, 1987, с. 45-46], но абсолютно не объясняет тесную близость европейской и азиатской традиции кочевнического искусства, за которой чувствуется общая основа.
На позициях моноцентризма стоял Г.Н. Курочкин. В середине 1970-х гг. он допускал, что в Передней Азии «раннескифское искусство сформировалось в основных, характернейших своих чертах ещё до появления в Причерноморье», хотя «некоторые элементы скифского искусства... могли возникнуть и за пределами этого региона» [Курочкин, 1975, с. 67]. Позднее же исследователь несколько иначе описывал этот процесс. По его
(15/16)
мнению, около середины II тыс. до н.э. с территории Афганистана в восточном и западном направлениях произошёл «выплеск» населения, представленного арийскими племенами, которые являлись носителями и распространителями каноничных образов и композиций звериного стиля, таких как орлиный грифон, кошачий хищник с оскаленной пастью и выпущенными когтями, заяц, кабан со свисающими ногами, копытные животные с поджатыми ногами, сцены терзания травоядных хищниками. После сравнительно непродолжительной стагнации вновь, в конце II тыс. до н.э., наступил период передвижек. В то время индоиранцы проникали вглубь Сибири вплоть до Монголии и Ордоса, где, соприкоснувшись с местными культурами (окуневская, карасукская), заложили фундамент скифской общности и скифо-сибирского искусства. Впоследствии именно из Центральной Азии древнейшие скифы двинулись на запад — на Ближний Восток и в Восточную Европу [Курочкин, 1987, с. 161-162; 1989, с. 115-116]. Хотя такая точка зрения схематична и слишком упрощённо представляет миграционные процессы, тем не менее она объясняет близкие параллели между скифским и ближневосточным искусством ещё на заре формирования звериного стиля.
О сильном влиянии скифо-сибирского художественного творчества на такие абсолютно «восточные» для сторонников полицентризма вещи, как ритон и секира из Келермеса, писал Д.Г. Савинов, доказывавший, что некоторые орнаментальные фигуры на них являются просто копиями с изображений, выполненных древними кочевниками Центральной Азии и Южной Сибири [Савинов, 1979, с. 121-122; 1987, с. 114; 1994, с. 128-129].
Недавние исследования по диадемам из Келермеса и Литого кургана подтвердили малоазийское влияние на раннюю скифскую торевтику. Л.С. Клочко пришла к выводу о производстве в Малой Азии келермесской диадемы с протомой грифона, а для мельгуновской диадемы из золотых шнуров и розеток нашла близкую аналогию в памятниках позднехеттского времени [Клочко, 1982, с. 38]. На ту же аналогию несколько позднее сослалась и С.С. Бессонова [Бессонова, 1990, с. 32].
В конце 80-х гг. вышло эссе Г. Коссака, посвящённое скифскому искусству. Хотя от такого рода литературы обычно не требуется разработанной системы доказательств, исследователь привёл достаточно веские аргументы, подкрепляющие высказываемые мысли. Г. Коссак разделил произведения скифской изобразительной традиции на чёткие хронологические группы и предложил считать степные районы между Тянь-Шанем и Алтаем — Саянами родиной скифского звериного стиля. Учёный обратил внимание и на присутствие в скифской культуре «придворного» искусства, отличного от «народного», но, к сожалению, не развил этот тезис [Kossack, 1987].
Раскопки кургана у х. Красное Знамя на Ставрополье пополнили собрание памятников торевтики. Найденная там бронзовая обойма от дышла колесницы с изображением богини Иштар была изучена В.Г. Петренко. Исследовательница, опираясь на проведённый Т.Б. Барцевой спектральный анализ, показавший единый состав металла обоймы и обнаруженных вместе с ней элементов упряжи, пришла к выводу о их местном производстве. Изображение самой богини, по мнению В.Г. Петренко, было выполнено пленным восточным мастером [Петренко, 1980, с. 18]. Однако такое заключение кажется недостаточно обоснованным, поскольку многие скифские металлические изделия выплавлялись из лома отслуживших вещей, происхождение которых было различным, в результате чего предметы, принадлежащие разным культурам, могли совпадать по составу их сплавов. Более правдоподобным представляется предположение В.А. Ко-
(16/17)
реняко, видящего в колеснице из Краснознаменского кургана скифский переднеазиатский трофей [Кореняко, 1990, с. 12-13].
С.В. Махортых в монографии «Скифы на Северном Кавказе» высказал мнение об изготовлении золотых серёг из Нартанских курганов в Ассирии в эпоху Ашшурбанипала [Махортых, 1991, с. 76].
А.Ю. Алексеев, занимаясь проблемой хронологии скифской культуры, коснулся и вопросов происхождения отдельных изделий торевтики, обнаруженных в скифских курганах. Для трёх предметов — зеркала и двух ритонов из Келермеса — он установил производство в одном из регионов Малой Азии [Алексеев, 1992, с. 46-47]. «Обруч» из Криворожского кургана исследователь связал с Урарту по сходству нанесенных на нём знаков с урартской иероглификой, а серьгам из Нартана нашел близкие аналогии во многих районах Ассирии, Сирии и Финикии [Алексеев, 1992, с. 46-47, 50, примеч. 26, с. 54].
Фундаментальное исследование по скифскому звериному стилю — книга М.Н. Погребовой и Д.С. Раевского продолжает отстаивать полицентрическую гипотезу происхождения этого искусства. Резко отделяя архаические памятники западной и восточной частей Евразии, они трактуют первые как результат закономерного развития луристанских бронз [Погребова, Раевский, 1992, с. 95-107, 122-134, 139-147, 159-162], что трудно принять даже из-за их хронологического разрыва.
В настоящий момент последними работами, освещающими проблему зарождения звериного стиля, являются труды Ю.Б. Полидовича. В них проводится подробный анализ изображений свернувшегося хищника и доказывается общее происхождение этой композиционной схемы как на Востоке, так и на Западе скифского мира. Вместе с тем особо подчеркивается различное развитие мотива в локальных кочевнических «провинциях» [Полидович, 1994а, с. 73-76; Полiдович, 2001, с. 11-12, 15, 18].
§ 3. Проблема использования предметов торевтики. ^
Многие исследователи часто воспринимают древние предметы декоративно-прикладного искусства, полагаясь на привычное использование внешне похожих вещей в сегодняшней жизни или в недавнем прошлом. Поэтому нередко попытки атрибуции изделий, не находящих точных аналогов в современном мире, заводят в тупик или порождают различные курьёзные определения (например, Г.Ф. Миллер трактовал серебряные ножки парадной мебели из Литого кургана как подсвечники на том основании, что «другого употребления сих вещей едва ли изъявить можно» [Придик, 1911, с. 17]). В то же время в общей массе тривиальных мнений всегда отыскиваются интересные, оригинальные решения данной проблемы.
Б.В. Фармаковский, изучив зеркало и ритон из Келермеса, высказал предположение, что они служили апотропеями, охранявшими владельца от злых сил и гарантировавшими его благополучие в потустороннем мире [Фармаковский, 1917, л. 5; 1920, л. 9-14].
К сакральному назначению зеркала и ритона склонялись М.И. Максимова и В.Д. Блаватский, допускавшие магические свойства изображений, представленных на этих предметах [Максимова, 1954, с. 301; 1956, с. 235; Блаватский, 1985а, с. 139].
Необычное суждение высказала Т.М. Кузнецова, утверждающая, что келермесское зеркало на самом деле являлось плоским сосудом типа фиалы. По мнению исследовательницы, сходное изделие описано Геродотом как легендарная чаша скифов [Кузнецова, 1987, с. 58-59]. Однако вызывает недоумение отрицание Т.М. Кузнецовой зеркальной функции келермесской находки.
(17/18)
Д.Г. Савинов, опираясь на композиционное построение фигур зверей на золотой секире из Келермеса, пришёл к заключению, что на ней представлено символическое жертвоприношение, или «реинкарнация в процессе „перехода” жертвенных животных», и поэтому предмет вряд ли использовался как оружие, а скорее служил ритуальным инструментом [Савинов, 1994, с. 149; 1997, с. 60].
Горячие споры разгорелись относительно келермесской диадемы, украшенной фигурками хищных птиц и розетками. Согласно свидетельству раскопщика Келермесских курганов Д.Г. Шульца, предмет был укреплён на бронзовом шлеме [Архив ИИМК, ф. 1, 1903, №88, л. 31]. Однако запутанность документации по раскопкам, а порой и фальсификация келермесских комплексов вызвали недоверие многих исследователей к этому сообщению [Рабинович, 1941, с. 109; Черненко, 1968, с. 80]. Все же ряд учёных поддержали версию о диадеме как декоративной детали боевого головного убора [Манцевич, 1959, с. 62, 65; Граков, 1971, с. 127] 1. [сноска:: 1 Б.Н. Граков ошибся, связав свидетельство Д.Б. Шульца с диадемой, украшенной протомой грифона [Граков, 1971, с. 116].] Убедительное подтверждение нашла А.П. Манцевич, указав на совпадение длин диадемы и нижнего края шлема [Манцевич, 1959, с. 62].
Подобная атрибуция распространилась и на другие вещи — диадему из Литого кургана [Граков, 1971, с. 127] и «обруч» из Криворожского кургана [Манцевич, 1959, с. 61; Бессонова, 1990, с. 32]. Причём исследователей не смутило, что никаких намёков на присутствие шлема в Литом кургане не было отмечено, а «обруч», представляющий собой гладкий тонкостенный цилиндр с отогнутыми наружу краями, ни на одном известном скифском шлеме не смог бы держаться прочно.
Если А.П. Манцевич приняла свидетельство Д.Б. Шульца относительно диадемы, то его же сообщение о принадлежности двух золотых чаш единому составному сосуду она отвергла [Манцевич, 1961, с. 331-333]. Однако внимательный осмотр предмета (совпадение вмятин, декорировка, рассчитанная на восприятие снаружи и изнутри, и т.д.) позволяет и в этом случае доверять словам первооткрывателя [Галанина, 1991, с. 20].
Различно трактовались золотые бляхи в виде фигур животных — келермесская пантера и костромской олень. Долгое время бытовало мнение, что они использовались как нащитные эмблемы. Однако никаких достаточно правдоподобных свидетельств о подобном украшении скифских щитов до сих пор не было известно. Зато древние кочевники часто декорировали крупными и мелкими бляшкам налучья и гориты, что даёт возможность предполагать такое же назначение и для келермесской и костромской находок [Ольховский, 1989, с. 103; Алексеев, 1996, с. 133-134].
На настоящий момент нет общего мнения о назначении золотого наконечника с рельефной розеткой из Келермеса. А.П. Манцевич отнесла его к украшениям дворцовой мебели [Манцевич, 1958, с. 200], а Л.К. Галанина — к орнаментальной детали рукоятки скипетра [Галанина, 1991, с. 16; 1997, с. 154].
Внимательное изучение келермесского вещевого комплекса позволило Л.К. Галаниной атрибутировать два предмета «неизвестного назначения» — золотую восьмёркообразную пряжку и крестовидную обкладку, соединённую с трубкой, — как принадлежности портупеи меча [Галанина, 1989, с. 259; 1997, с. 94].
§ 4. Техника изготовления предметов торевтики. ^
Техникой изготовления вещей (так или иначе) интересовалось большинство учёных.
(18/19)
С.А. Жебелёв, анализируя келермесское зеркало, указывал, что литой серебряный диск, вероятнее всего, первоначально имел две ручки — центральную, в виде дужки, и боковую, позднее отломанную. Крепление электровой накладки, по его мнению, производилось путём загибания пластин в желобки, прорезанные на диске. Многофигурная композиция была выгравирована на серебряной основе и только затем оттиснута на электровом листе [Жебелёв, 1905, л. 4-6].
По предположению Е.М. Придика, аналогичный приём был использован при оформлении меча и ножен из Литого кургана. Он отмечал, что фигуры сначала были вырезаны на деревянной основе ножен и выгравированы на железной рукоятке и перекрестье, а затем переведены на золотую обкладку [Придик, 1911, с. 6, 14].
А.А. Иессен верно определил, что золотой олень из Костромского кургана сделан в технике выколотки. Однако его предположение об использовании торевтом негативной резной матрицы [Иессен, 1949, с. 70] в настоящий момент не подтверждается исследованиями [Минасян, 1990, с. 73].
По наблюдению М.И. Максимовой, зеркало отливалось вместе с центральной ручкой, представлявшей собой фигурную бляшку на двух столбиках, после чего к серебряному диску припаивались электровые пластины обкладки. Заключительным этапом являлась орнаментация предмета, выполненная путём пунсоновки (чеканки) [Максимова, 1954, с. 282-284]. Ритон же, как установила М.И. Максимова, изготовлялся из серебряной пластины, которая для придания сосуду характерной формы накладывалась, по-видимому, на рог животного, после чего концы пластины спаивались. Сверху помещалась золотая обкладка, и только затем, как и на зеркале, при помощи пунсона наносились изображения [Максимова, 1956, с. 216]. М.И. Максимова считала, что в изготовлении предметов принимали участие два мастера: основу делал скиф, а декорировку — грек [Максимова, 1954, с. 284, 384; 1956, с. 235].
Л. Огненова-Маринова развила идею С.А. Жебелёва, доказывая применение техники репусе (басма). По её мнению, изображения на накладке являются вторичными [Огненова-Маринова, 1975, с. 130]. С этим нельзя согласиться, потому что в таком случае контуры фигур на золотых пластинах выглядели бы менее чёткими, чем на диске, чего не наблюдается в действительности.
Е.О. Прушевская, как можно заключить из её статьи, предполагала применение тиснения или штамповки в процессе украшения ножен и мечей из Келермесских и Литого курганов [Прушевская, 1955, с. 126-127]. Использование матриц в декорировке мечей, ножен, секиры и чаши не исключал и С.С. Черников [Черников, 1965, с. 126-127]. Однако такому предположению потиворечит ряд неточностей в сходных фигурах, например, различное число роговых отростков у парных фигур оленей на секире.
Е.В. Черненко считал, что у предметов вооружения из Келермеса и Литого кургана первоначально орнаментировалась основа, а уже затем — золотые обкладки [Черненко, 1980, с. 27; 1987, с. 29]. Пристальное внимание Е.В. Черненко уделил восстановлению процесса изготовления рукоятки секиры. Ему удалось опровергнуть предположение А.П. Манцевич о том, что рукоятка представляла собой золотой кожух, заполненный мастикой, и доказать наличие сложносоставной конструкции, состоящей из деревянного стержня, прослойки из мастики и золотой облицовки [Черненко, 1987, с. 27-28].
Л.К. Галанина убедительно показала, что вся орнаментика меча и ножен чеканилась и гравировалась на самой золотой обкладке и никоим образом не была оттиснута на неё с основы [Галанина, 1989, с. 259; 1997, с. 92-98].
(19/20)
Среди исследований по технике изготовления предметов торевтики наиболее убедительными представляются выводы Р.С. Минасяна. Занимаясь изучением приемов металлообработки кочевнических и земледельческих культур, он установил, что подавляющее число произведений торевтики из ранних скифских курганов могло быть выполнено только восточными мастерами с их обширным техническим арсеналом, резко отличающимся количественно и качественно от скифского [Минасян, 1988, с. 53-57; 1990, с. 74-76]. Исследователь считает, что костромской олень и келермесская пантера были изготовлены путём выколотки с использованием чеканки [Минасян, 1988, с. 50, 52; 1990, с. 75], а фигуры на ножнах, мечах и секире сделаны на их золотых обкладках чеканкой и металлопластикой [Минасян, 1988, с. 50; 1990, с. 75; 1991, с. 381]. Изображения на зеркале и ритоне наносились на пластины также методом металлопластики и чеканки [Минасян, 1988, с. 50; Кисель, 1993, с. 111]. Чаши были выполнены выколоткой и украшены при помощи металлопластики, гравировки и, возможно, чеканки [Минасян, устное сообщение].
§ 5. Трактовка смыслового значения изображений на памятниках торевтики. ^
Пожалуй, наиболее спорными и труднодоказуемыми являются соображения относительно семантики древних вещей. Несмотря на это, число исследователей, занимающихся данной проблематикой, с каждым годом множится. И если в первой половине нашего века ещё бытовали мнения о чисто орнаментальной функции украшений на скифских вещах [С.А. Жебелёв, Е.Р. Малкина], то сегодня такой точки зрения практически уже никто не придерживается.
Из всего собрания торевтики архаической скифской эпохи наибольшее внимание в рассматриваемом аспекте привлекало келермесское зеркало. Г. Раде считал, что на нем запечатлён образ Матери богов, Владычицы зверей, ποτνια θηρῶν, одним из воплощений которой являлась Кибела [Radet, 1909, р. 21]. Б.В. Фармаковский предположил, что изображения на зеркале и ритоне отображают демонические силы, связанные с потусторонним миром. И если на первом предмете хозяйкой этих сил выступает Мать богов, то на втором — Горгона с подчинённым ей Кентавром [Фармаковский, 1917, л. 5; 1920, л. 9-14]. Несколько иначе смысл изображений на мече и ножнах реконструировал Б.В. Фармаковский
из Келермеса. [так в тексте; видимо, следует читать: «Несколько иначе Б.В. Фармаковский реконструировал смысл изображений на мече и ножнах из Келермеса»] Здесь, по его мнению, ощущается скрытый дуализм: на рукоятке представлены добрые гении небесной сферы, а на ножнах — злые демоны — оборотни бездны. Оба мира, по представлениям древней эпохи, должны были оказывать воину поддержку в борьбе с врагами [Фармаковский, 1920, л. 20, 23-25].
В свою очередь, М.И. Максимова предприняла попытку расшифровки смысла изображений на келермесском зеркале. Фигуры животных, как она считала, символизируют низших богов, подчинённых высшему антропоморфному божеству — Кибеле, которая направляет свои магические силы на благо владельца зеркала [Максимова, 1954, с. 301]. Нечто подобное исследовательница предполагала и в отношении композиций, представленных на ритоне [Максимова, 1956, с. 235].
Ненамного отличается позиция, занятая в этом вопросе X. Христо. Если на зеркале, по его мнению, богиня выступает повелительницей природы, божеством всего сущего, то на ритоне показана только одна из ипостасей Владычицы — власть над темными разрушительными силами [Christou, 1968, S. 99-100, 107].
(20/21)
Иную атрибуцию предложили М.Ю. Бахтина и Д.А. Мачинский, полагающие, что на зеркале изображена греческая богиня — Крылатая Артемида [Бахтина, 1976, с. 62-63; 2000, с. 69; Мачинский, 1978, с. 136] или иранская — Анахита (скифская Аргимпаса) [Мачинский, 1998, с. 60].
С.С. Бессонова основное внимание уделила композиционной структуре фигур на зеркале. Размещение изображений в восьми секторах она связала со схемой, символизирующей вселенную — мировое пространство, заселенное богами и демонами, которые подчиняются верховному божеству, выступающему в женской (зеркало) и мужской (ритон) ипостаси [Бессонова, 1983, с. 81-86]. Позднее Д.А. Мачинский сделал похожее заключение, предположив, что «система изображений на зеркале отображает древнеиранскую картину мира и одновременно миф о великой богине и о вечной борьбе у сакрального центра мира подчинённых ей зооморфных и антропоморфных существ» [Мачинский, 1998, с. 57-60; 2001, с. 105].
Д.С. Раевский, разрабатывая проблему мировоззрения древних кочевников, пришёл к выводу, что на архаической скифской торевтике представлены божества и мифологические герои скифов, но в ближневосточной иконографии [Раевский, 1985, с. 93-101]. Декор келермесского зеркала он проанализировал с позиций зодиакальной символики, предположив, что фигуры животных и фантастических существ маркируют дни солнцестояний и равноденствий [Раевский, 1995, с. 196-197; 1996, с. 120-121]. В сходном календарном ключе рассмотрел предмет и Л.С. Марсадолов [Марсадолов, 1999, с. 159, 163].
Под иным углом зрения на предмет взглянула В. Шильц, акцентировав внимание на выявлении параллелей с памятниками шаманизма, мифологии и искусства Китая. В результате она пришла к заключению об использовании келермесского зеркала в качестве инструмента для гадания и атрибута власти. Что касается богини, то В. Шильц персонифицировала её со скифской Аргимпасой [Shiltz, 1986, S. 277, 280-283].
И.Н. Матвеев предложил отнестись к изображениям зеркала как к аллегорическим картинам ключевых моментов истории взаимоотношений киммерийцев и скифов с народами Ближнего Востока [Матвеев, 1998, с. 67-68].
Д.А. Мачинский, исследуя другие изделия торевтики, выявил в образах оленей на ножнах келермесского и мельгуновского мечей скрытую идею терзания, отражающую основной закон миропорядка — постоянное чередование жизни и смерти [Мачинский, 1989, с. 23-24].
Символику мельгуновской диадемы приоткрыли наблюдения С.С. Бессоновой. Розетки, украшающие предмет, она связала с солярными эмблемами, плетёные шнуры, из которых, собственно, и состоит диадема, — с магическими свойствами пряжи, а их количество — три — с верой древних кочевников в «тройку» как особое, священное число. Детали парадных сидений, по мнению С.С. Бессоновой, тоже заключают в себе глубокий смысл, поскольку царский трон в представлениях древних народов отражал идею сакральности верховной власти [Бессонова, 1990, с. 32-33].
Ф.Р. Балонов сопоставил скульптурное оформление «украшений трона» из Келермеса (львиные и бараньи головы, коробочки мака) с индоевропейскими божествами земли и подземного мира, грозы и дождя, войны и мира, солнца и огня [Балонов, 1992, с. 169-170].
Завершая историографический обзор, нельзя не отметить четыре недавно вышедшие сводные работы, призванные познакомить специалистов с памятниками торевтики скифской эпохи и связанной с ними проблематикой.
В статье и книге Л.К. Галаниной, посвящённой погребальным келермесским комплексам, кроме сведения воедино основных наблюдений,
(21/22)
сделанных другими исследователями относительно ближневосточных изделий из этих курганов, приведены новые аналогии рассматриваемым вещам. Л.К. Галанина уточнила функциональное назначение некоторых предметов (наконечник с розеткой, две чаши, восьмёркообразная пряжка, крестовидная обкладка с трубкой) и выявила в их стилистике смешение урартской, североиранской, малоазийской художественных школ со скифским искусством [Галанина, 1991; 1997].
Другая работа, написанная В. Шильц, рассматривает скифскую культуру с VIII в. до н.э. по I в. н.э. На обширном историческом и культурном фоне там разобраны особенности звериного стиля и приведён ряд стилистических наблюдений над памятниками торевтики, изготовленными как скифами, так и инокультурными мастерами [Schiltz, 1994].
Автор третьего обзорного исследования — Э. Якобсон, собрав описания и краткие сведения не только о ювелирных изделиях раннескифской эпохи, но и о шедеврах более позднего времени, подробно проанализировала имеющиеся публикации и выявила некоторые стилистически сходные вещи, не упоминавшиеся ранее. В своей работе Э. Якобсон воздержалась от каких-либо серьёзных выводов, но, по-видимому, это не входило в её задачу [Jacobson, 1995].
Таким образом, как показывает вышеизложенное, изучение памятников ближневосточной торевтики из архаических скифских курганов необходимо для уточнения абсолютной датировки раннескифских древностей, выяснения вопросов происхождения и формирования звериного стиля, реконструкции идеологических представлений северопричерноморских кочевников и конкретизации их контактов с населением Ближнего Востока. Для решения всех обозначенных проблем следует провести более углублённое исследование этой категории археологических источников с целью установления, по возможности, более точной их стилистической и хронологической атрибуции.
|