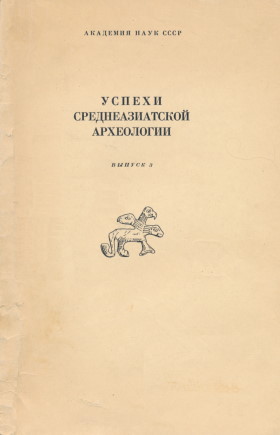 Г.А. Фёдоров-Давыдов
Г.А. Фёдоров-Давыдов
О сценах терзаний и борьбы зверей
в памятниках скифо-сибирского искусства.
Семантика древнего искусства степей Евразии, скифо-сибирского звериного стиля давно привлекает внимание учёных. Это искусство обычно связывают с магическими верованиями и исходя из этого объясняют его смысл и роль в общественной жизни кочевников (Граков, 1971, с. 99-100; Смирнов, 1972; Хазанов и Шкурко, 1972; Яценко, 1971; Артамонов, 1973, с. 235). Иногда это искусство связывают с тотемическими верованиями, астральными культами, считают, что изображались те или иные животные, посвящённые божествам скифов, или разные ипостаси ирано-индийских древних божеств. Справедливо утверждают также, что наряду с религиозно-магическими функциями это искусство играло и социальную роль, будучи связанным с выделением верхушки общества. Сцены борьбы животных и терзаний хищниками травоядных широко распространены в скифо-сибирском искусстве и неоднократно привлекали внимание учёных. Не раз указывались аналогии этим сюжетам в иранском, передневосточном и греческом искусстве. Бесспорно, что эти сцены в какой-то степени были заимствованы или сложились в скифо-сибирском искусстве под влиянием искусства других областей древнего мира, с которыми кочевники-иранцы Евразии вступали в контакт. Но последнее не исключает того, что скифские мастера вкладывали в них своё содержание.
Для объяснения рассматриваемых мотивов в скифо-сибирском искусстве привлекались различные гипотезы. Некоторые учёные предполагали, что сцены борьбы и терзаний зверей являются иллюстрацией или отражением общеиранской дуалистической концепции о борьбе зла и добра (Кузьмина, 1972). Однако остаётся неясным, почему добро всегда страдает от зла, если добро изображено в виде травоядного? Трудно допустить, что добро символизируется в образе хищника. Скотоводы не могли в сцену терзания козла или барана орлом-грифом, тигром или львом вложить содержание борьбы добра и зла и тем более конечной победы добра. Здесь явное торжество зла, если понимать сцены в прямом их значении.
Пережитки тотемизма бесспорно имеются в скифо-сибирском искусстве. Но изображение того или иного животного не было изображением тотема. Так как каждому роду свойствен свой тотем, то существовало бы множество изображений разных животных, однако у скифов и сарматов их не очень много. К тому же если допустить, что изображения животных — тотемы, то получится, что один и тот же тотем представлен у соседних племён, а, с другой стороны, в набор украшений одного человека войдут изображения самых разных тотемов. Трудно поэтому согласиться с тезисом о том, что борьба и терзания животных отражают борьбу родов (как бы борьбу их тотемов) пли военно-политических союзов (Грач, 1972). При этом допущении получается, что одни родо-племенные объединения и их тотемы или эмблемы всегда оказываются побеждёнными, другие — всегда победителями. Если олень — тотемный предок всех скифоидных народов (Абаев, 1949), то непонятно, почему он постоянно выступает в качестве страдающей стороны в сценах терзаний. Уже одно это соображение заставляет предположить, что в сценах терзаний имелся какой-то иной внутренний смысл, чем просто показ страданий и гибели оленя.
Существует мнение, что сцены терзаний и борьбы зверей являются мифологическим отражением социальных процессов, характеризующих
(23/24)
общество в эпоху разложения первобытнообщинного строя и рождения классовой структуры. Исследователи видят в этих сценах утверждение жестокости и права сильного, прославление победы в борьбе (Грач, 1972). Жестокость, кровожадность сцен терзаний при такой трактовке связывается с суровым характером эпохи, когда грабёж и войны стали обычным явлением, повседневным занятием аристократии, которую в первую очередь начиная с какого-то определённого момента обслуживало это искусство.
Отдельным изображениям и сценам борьбы животных придавали одновременно с магическим и геральдический смысл — они служили эмблемами той или иной аристократической семьи, рода, династии, гербами или эмблемами того или иного вождя (Гольмстен, 1946). Это противоречит хорошо прослеженному факту сходства и сюжетов, и иконографии, и в некоторой степени видов изображаемых животных на весьма широкой территории. Действительно, если тому или иному животному или паре животных придавался геральдический смысл, то трудно объяснить, как в могилах разных вождей оказываются одни и те же по сюжету и подбору изображения животных.
При толковании скифо-сибирского искусства очень убедительным кажется тезис о значении этого искусства как социального индикатора, выделяющего определённый круг лиц из массы рядовых людей. Но в этой роли искусство выступает всегда, когда есть имущественная, классовая дифференциация в обществе. Потому данный тезис мало что даёт для понимания внутреннего смысла изображения животных и сцен терзаний или борьбы их, тем более что со временем искусство скифо-сибирского стиля превращалось во всё более и более декоративное. Главной в нем становится функция украшения вещи, принадлежащей знатному лицу. Другие функции — религиозно-магические — отступают на задний план перед орнаментализмом и декоративностью.
Рассматривая ранние памятники скифо-сибирского искусства, мы замечаем, что в них широко представлены одиночные фигуры зверей. М.И. Артамонов, выводящий скифо-сибирский звериный стиль из искусства стран Древнего Востока, признаёт, что скифы и другие «скифоидные» ираноязычные народы заимствовали оттуда только одиночные фигуры животных, но остались совершенно чуждыми той изобразительности, которая создавала сцены-жертвоприношения, поклонения богу и т.п. (1973). Только позднее, примерно с V в. до н.э., появляются сцены с участием пары животных, редко трёх или четырёх. Первоначально скифо-сибирский стиль не был приспособлен для изобразительного повествования.
Памятникам греческого искусства, предназначавшимся для скифов, свойствен повествовательный характер. В собственно скифском искусстве классической его поры, так же как в искусстве номадов Евразии, вплоть до Байкала, такой приём отсутствует.
Нам представляется, что в парных сценах на изделиях скифо-сибирского звериного стиля мы имеем дело не с иллюстрацией мифа, не с рассказом о каком-либо событии и не с фольклорным, мифическим, эпическим и т.п. сюжетом, а с другим отношением к изображаемому, вероятно, мало отличающимся от того, что древние кочевники вкладывали в одиночные изображения животных.
Появление в V в. до н.э. композиций с участием двух, реже трёх зверей не было, по-видимому, внесением в скифо-сибирское искусство элемента изобразительной повествовательности или простым воспроизведением наблюдаемых в природе сцен.
И.В. Яценко справедливо пишет, что, когда от скифского искусства социальные запросы потребовали именно изобразительной повествова-
(24/25)
тельности и иллюстративности, оно оказалось не приспособленным для этого и греческое искусство лучше удовлетворило данные запросы (1971). В этом отношении весьма интересны некоторые поясные бляхи из сибирской коллекции и ордосских комплексов, которые мы склонны датировать временем не ранее конца IV — III в. до н.э. На них мы видим изображение линии земли, ландшафта, элементов разных пространственных планов, рамки, отключающей всю сцену от внешнего мира. Все эти элементы говорят именно о приспособлении позднего сибирского искусства звериного стиля к задачам изобразительного повествования. На писаницах (например, Боярской писанице на Енисее), где имел место изобразительный рассказ, повествование на бытовую или мифическую тему, так же как на поясных пластинах с сюжетным изображением («отдых в лесу», «охота на кабана»), черты собственно скифо-сибирского звериного стиля незначительны. Видимо, до конца IV — III в. до н.э. главной задачей скифо-сибирского искусства звериного стиля было создание обобщённого образа животного, тесно связанного (изобразительно и, вероятно, в сознании древних кочевников) с утилитарным назначением предмета.
Почти все исследователи скифо-сибирского звериного стиля согласны, что, изображая животное, древние мастера вкладывали в это изображение магический смысл привлечения на пользу человеку различных способностей животного, его силы, смелости, быстроты, ловкости и т.п. Многие авторы согласны с тем, что, дополняя изображение одного животного деталями другого, мастера стремились усилить эти способности. Многие согласны с тезисом, что изображение на животе, бёдрах, лапах или хвосте одного животного фигур других зверей преследовало те же цели. В таком случае можно заключить, что грифон или хищник, помещённый не на бедре или на животе оленя или козла, а на его спине, с вонзившимся в тело травоядного клювом, клыками или когтями, выполняет тоже роль усилителя основного образа. Сцена терзания, возможно, была не столько собственно терзанием, сколько проникновением одного звериного существа в другое. Такой же смысл, вероятно, вкладывали и в сцены борьбы зверей.
Существует мнение, что фантастические существа и композиции, комбинированные из деталей животных, изображали древние иранские божества, для которых характерна была множественность ипостасей (Кузьмина, 1972). Этот тезис трудно аргументировать, но нелегко и опровергнуть. Нам представляется более убедительной именно магическая функция изображения, при которой та или иная деталь на предмете становилась как бы полезной его частью, помогая работать орудием, сражаться оружием, пользоваться пряжкой и т.п. Это согласуется и с бесспорно имевшей место в скифо-сибирском искусстве парциальной магией (часть заменяет целое), и с той характерной художественной особенностью этого искусства, когда животное так гармонично вписывается в очертания предмета, что создаётся как бы единый предмет-животное. Но даже если указанное предположение и справедливо, оно тоже исходит из бесспорной художественной особенности скифо-сибирского звериного стиля — его «зооморфных превращений» и стремления создать синтетические, комбинированные, сложные образы.
Хорошо известна вера многих народов в то, что именно через рот, через поедание происходит переселение духа одного существа в другое. Достаточно заметить, что у древних иранцев поедание тела или части тела человека его потомками или тотемными животными означало переселение духа. В таком случае для изображения идеи взаимопроникновения и слияния двух враждебных существ вполне уместным оказывался мотив терзания, поедания, кусания и т.п.
Изложенное всегда будет только предположением, как и всякая другая гипотеза, пытающаяся истолковать то, что вкладывали древние степ-
(25/26)
ные художники в сцены терзаний и борьбы зверей. Отсутствуют и вряд ли будут выявлены прямые аргументы, подтверждающие эти гипотезы. Но косвенные соображения в пользу высказанного нами предположения привести можно.
На некоторых памятниках скифо-сибирского звериного стиля наблюдается стремление просто приставить одно животное к другому, не показывая кровожадность хищника, муки травоядной жертвы, т.е. особенности, которые должны были быть в сцене терзания, если бы ей придавался прямой смысл показа драки и гибели животных. В отличие от скифов греки вкладывали в эти сцены именно такое содержание, изображая со свойственным им реализмом муки оленя, жестокость и опьянение хищника кровью.
В скифо-сибирском зверином стиле тоже встречаются изображения терзаний с подчёркнутыми чертами динамизма и жестокости, но часто эти черты отсутствуют. Иногда создается впечатление, что древним мастерам нужно было подчеркнуть именно слияние различных существ в одно. Хищники просто приставлены пастями к телу оленя, лося или другой жертвы, причем и ряде случаев жертва крупнее хищников и никаких признаков боли не обнаруживает. Она — явно главный персонаж сцены, а хищники лишь дополняют её. Таков рисунок на золотой пластине из Куль-Обы. Благодаря дополнительным фигурам животных на теле оленя создаётся синтетический образ, усиленный свойствами грифона, зайца и льва. Собака, впившаяся в горло оленя, с нашей точки зрения, это такая же добавочная фигура, но только вынесенная за контур изображения оленя. Олень ни в коей мере не показан страдающим, терзаемым существом. Он — главный член композиции, носитель основной семантической нагрузки (видимо, магической), остальные звери — лишь дополнительные существа и особом процессе «зооморфных превращений».
Б.Н. Граков отмечал, что в Скифии сцены терзаний и преследований отличаются слабой динамикой, схематичны и мало жизненны (1971). Интересна в этом отношении и роговая пластина из Пятимары (Смирнов, 1964, с. 240, рис. 33). Здесь изображена сцена терзания двумя медведями горного козла. Но козёл так велик, а хищники так малы и, кроме того, так механически приставлены своими пастями к округлой морде и колену козла, что терзание превращается просто в соединение разных животных на одном предмете. То же можно сказать про деревянную пластину из Котандинского кургана со сценой нападения тигра на оленя. Если рассмотреть золотую бляху из сибирской коллекции Петра I с изображением нападения тигра на фантастическое существо с огромными розетковидными рогами, то у нас останется то же впечатление, хотя здесь более подчёркнут сам факт нападения: тигр кусает грудь фантастического животного, но последнее к этому относится совершенно спокойно. Сцена терзания в усечённом варианте (голова грифона держит и клюве голову барана) помещена на бедрах фантастического животного с рогами, а перед его тулова занят изображением части грифона с крыльями. Фигуры на теле основного животного расположены так же компактно и так же вписываются в его контуры, как вписываются фигуры зверей на памятниках скифо-сибирского стиля в контуры предмета. Искусство этого стиля свидетельствует об умении древних мастеров связать предмет с помещённым на нём изображением, об их настойчивом стремлении к объединению предмета и животного, наделённого, видимо, магической функцией. Мы наблюдаем у них стремление зрительно связать изображения дополнительных животных с основной фигурой, создать единое синтетическое существо. Нарисованный на котандинской пластине нападающий тигр смотрится лишь как один из элементов этого сложного конгломерата.
(26/27)
Характерны конские маски из Пазырыкских курганов. Эти предметы связаны с культом, с чем согласно большинство исследователей (Грязнов, 1950, с. 120; Артамонов, 1973, с. 64). Можно предположить, что в некоторых случаях имелась в виду своеобразная магическая трансформация коня в иное животное, в частности в оленя. Об этом говорит маска, найденная в [Первом] Пазырыкском кургане, в виде чехла. При помощи такой маски уши лошади превращаются в уши оленя и ещё добавляются рога оленя. Но тем самым одновременно лошадь трансформируется в терзаемого тигром оленя. Последнее было бы странным, если видеть в сопоставлении данных животных тот или иной вид терзания, а не предполагать, что древние художники стремились в этих композициях к соединению несовместимых в природе зверей, к созданию синтетического образа.
Как показали наблюдения М.И. Артамонова (1973, с. 226), в тех районах евразийской степени, где были особенно распространены «зооморфные превращения» частей одного животного в детали другого, мало представлены изделия с изображением сцен терзаний, и наоборот. В Сибири и на Алтае были редки и ограничены «зооморфные превращения», но зато распространены композиции со сценами терзаний и борьбы животных. У собственно скифов сравнительно редки композиции борьбы и терзаний, но для них характерны приёмы накладывания фигур животного или его деталей на те части другого зверя, которые хотели как-то выделить и подчеркнуть (Яценко, 1971, с. 118, 125).
Напрашивается предположение, что одинаковые идеи мастера выражали в разных районах степи по-разному: в одном месте в виде «зооморфных превращении», в другом — в виде мотива терзаний и борьбы зверей. В таком случае и там и здесь одной из основных задач этого явно единого в своей основе искусства было создание особых синтетических существ, обладающих усиленной магической силой апотропея, или помощника человека. Когда на теле оленя рисовали грифона или хищника, то имели в виду примерно то же синтетическое существо, представления о котором отражены в сценах терзаний. В этом отношении особенно интересно навершие из кургана Слоновской Близницы с изображением героя, борющегося с чудовищем (Граков, 1950, с. 14 [рис. 2]). Чудовище показано терзающим какое-то другое животное. Сцена терзания была бы несовместима здесь со сценой борьбы, если бы понималась скифами непосредственно и прямо: не мог же фантастический зверь одновременно бороться с героем и терзать другого зверя. Человеку здесь противостоит одно как бы двутелое фантастическое существо. То же можно сказать по поводу круглой бляхи из кургана V — начала IV в. до н.э., раскопанного в Белгородской области (Пузикова, 1966. рис. 29, 4). Здесь терзание — фактически лишь приём совмещения различных звериных существ. Мотив борьбы и терзаний зверей пришёлся по вкусу кочевникам евразийских степей, быть может, именно потому, что в нем они увидели мотив слияния и объединения несовместимых в природе частей, возможность создания особых, синтетических существ, в которых, например, мощный хищник сливался бы с быстроногим оленем и т.п.
Какого-либо показа напряжения борьбы и жестокости терзания лишена резьба знаменитого Башадарского саркофага. В ней мы видим простое соединение животных: изогнутые тела копытных лишь приставлены, да и то не всегда, к мощной клыкастой пасти львов. Больше в этой резьбе стремления соединить животных, вписать фигуры копытных во все пустоты фона, оставляемые крупными фигурами хищников, создать как бы сплошной ковровый узор из звериных тел.
В пользу высказанных выше предположений говорит и то, что в ряде районов, особенно в Сибири, терзанию стали придавать вид поедания, делался акцент именно на проникновение одного животного в другое че-
(27/28)
рез рот, пасть (например, зеркало из с. Николаевского на р. Чулыме, фигурка тигра, пожирающего грифа, с горы Изых, фигурка львёнка с головой барана в зубах из Красноярского края и т.п.) (Левашева, 1971, с. 278, 279, рис. 400, 401, 404).
В скифо-сибирском искусстве звериного стиля мотив поедания используется иногда для обозначения того места, где одна деталь вещи соединяется с другой. Примером может быть бронзовая пластина из Семибратнего кургана 4 (Артамонов, 1966, табл. 126).
На ней мы видим изображение льва и профиль. В спину ему впился другой хищник, у которого показана анфас сверху только передняя часть тела. Она помещена как раз на детали пряжки, служившей для прикрепления к ремню. Художник в этом изделии заставляет нас почувствовать, что ремень как бы превращается на своём конце в хищное существо и не просто прикрепляется к пластине, а зубами этого существа вонзается в бляху, которая к свою очередь оказывается львом. Берккаринская пряжка из Казахстана даёт другой пример функционального назначения мотива терзания в зверином стиле (Бернштам, 1947).
Таким образом, мотив терзания часто оказывается соединительным узлом в вещи, понимается функционально, как полезная её деталь. Изображения животных в сценах терзании и борьбы выполняли особую, полезную, по мнению древних людей, функцию. Они играли роль своего рода оберега, помощника человека в его действиях. При помощи мотива поедания и терзания соединялись, например, детали пряжки или пластины, при помощи мотива терзания объединялись разные животные в одно синтетическое существо. С нашей точки зрения, в этих проявлениях звериного стиля можно усмотреть определённое внутреннее единство.
Литература. ^
Гольмстен В.В. 1946. По поводу книги Д.Н. Эдинга «Резная скульптура Урала». — КСИИМК, в. XII.
Грязнов М.П. 1950. [Рец. на:] С.И. Руденко, Н.М. Руденко. Искусство скифов Алтая. — Вестник ЛГУ, в. 1.
Левашева В.П. 1971. Искусство племён Хакасско-Минусинской котловины. — В кн.: История искусства народов СССР. Т. I. M.
Пузикова А.Н. 1966. Новые курганы скифского времени в Белгородской области. — КСИИМК, в. 107.
Яценко И.В. 1971. Искусство скифских племён Северного Причерноморья, — В кн.: История искусства народов СССР. Т. I. M.
|