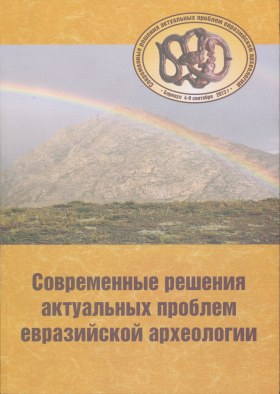 Д.Г. Савинов
Д.Г. Савинов
О «скрытой» стороне южносибирской археологии.
Археология Южной Сибири, как, впрочем, и любой другой области, оперирует, в первую очередь, вещественными материалами. В этом плане отношение исследователей к поселенческой и курганной археологии в принципе одинаково. Вместе с тем изучение погребальных комплексов, наряду с материальным выражением культуры, иначе говоря — «археологией артефакта», неизбежно сталкивается с ещё одной, скрытой стороной археологических исследований, которую можно условно определить как «археология ритуала». Она в значительно меньшей степени обеспечена вещественными материалами и может быть восстановлена только в реконструированном виде и то, как правило, предположительно.
Появившееся в литературе определение «погребально-поминальное сооружение» (комплекс) только завуалирует эту ситуацию, а именно отсутствие достаточного количества источников для изучения «археологии ритуала». Само понятие «поминки» (помины, поминальник и др.), взятое из русской этнографии, в лучшем случае определяет, что происходило во время и после совершения погребения. Однако в действительности, а особенно в древности, не меньшее, если не большее значение имело то, что предшествовало фактическому захоронению. Между тем в обширном списке специальных работ, посвящённых погребальному обряду (В.А. Алёкшин, В.Ф. Генинг, В.И. Гуляев, И.С. Каменецкий, В.А. Кореняко, Г.С. Лебедев, B.C. Ольховский, Ю.А. Смирнов и др.; «Общие проблемы изучения погребального обряда в современной археологии»), конкретному анализу этой первой «главы» погребально-поминального цикла, уделяется недостаточно внимания.
С точки зрения теоретической этнологии, она составляет важнейшую часть того, что определяется как «обряды перехода», когда «живые и мёртвые составляют особое сообщество, которое находится между миром живых, с одной стороны, и миром мёртвых — с другой» [Геннеп ван А., 1999, с. 135]. Археологически очень трудно проследить следы этого «сообщества», но всё же определённые наблюдения применительно к археологии Южной Сибири можно сделать.
Реализация обрядов перехода должна была включать какой-то период сохранения тела умершего (или его «заместителя»), по отношению к которому осуществлялись необходимые ритуальные действия. Очевидно, должны были существовать и специально выделенные места для их проведения. К сожалению, археологически они пока не выявлены и соответствующим образом, как категория археологических памятников, не атрибутированы. Вместе с тем в подтверждение возможности существования таких мест можно привести определённые нарративные свидетельства. Причём, судя по всему, это было одной из самых устойчивых особенностей погребальной обрядности населения Южной Сибири — от глубокой древности до раннего средневековья.
(42/43)
М.П. Грязнов первым предположил, что необычная поза погребённых в захоронениях афанасьевской культуры — на спине, коленями вверх — объясняется тем, что «умерших на время похоронных обрядов усаживали на какое-то сиденье» (наподобие древнеегипетской скульптуры? — Д.С.) [Грязнов, Вадецкая, 1968. с. 160]. Факт достаточно длительного пребывания на поверхности до окончательного захоронения подтверждается также тем, что иногда на костях скелета «сохраняются следы зубов волка или собаки» [Вадецкая, 1986, с. 16-17]. В пользу данной точки зрения свидетельствуют и отдельные захоронения черепов (подробнее об этом см.: [Вадецкая, 1980, с. 104-110]), и коллективный характер захоронений больших афанасьевских могил, который М.П. Грязнов [1999, с. 47] объяснял невозможностью устройства погребений в зимнее время или как «обычай хоронить весной в общей могиле всех умерших за зиму». Такое рациональное объяснение вполне вероятно, но не обязательно. На Алтае не менее суровая зима, но нет коллективных афанасьевских захоронений, причину появления которых, скорее всего, следует искать в сфере обрядовой деятельности.
Ещё более показательна ситуация, прослеживаемая на Енисее в связи с интерпретацией погребений окуневской культуры. Коллективных захоронений типа афанасьевских здесь нет, зато встречается такая же поза погребённых. Найденные в окуневских могилах каменные плиты с изображениями, чаще всего разбитые, перевёрнутые и т.д., по условиям нахождения как будто были использованы как строительный материал при изготовлении каменных ящиков, а нанесённые на них рисунки, таким образом, уже потеряли своё значение и собственно окуневскими не являются. На этом основании в свое время была высказана (А.Н. Липский, Л.Р. Кызласов, Д.А. Мачинский) и всё ещё сохраняется (Я.А. Шер, Л.С. Клейн) точка зрения об отнесении этих плит с изображениями к какой-то мифической предшествующей культуре, до сих пор не выявленной.
Вместе с тем уже имеется немало свидетельств того, что погребения окуневской культуры и использованные для их сооружения каменные плиты с рисунками археологически одновременны. Декоративные элементы и солярные знаки, характерные для изображений на плитах, обнаружены на костяных изделиях из погребений [Максименков, 1980, табл. XXIV. — 11; Лазаретов, 1997, табл. XIV. — 3; Гультов, Подольский, Цыганков, 2006, рис. 10]; на некоторых окуневских черепах раскраска соответствует приёмам передачи личин на изваяниях и штатах из погребений [Миклашевич, 2003-2004, рис. VI]; в самих погребениях (могильник Уйбат-III) найдены достаточно простые, но вполне «узнаваемые» изваяния окуневского типа [Лазаретов, 1997, табл. ХI. — 1-4]. Всё это вместе взятое требует иного, чем простое использование в качестве строительного материала, объяснения нахождения каменных плит с изображениями в погребениях окуневской культуры.
На наш взгляд, объяснение здесь может быть только одно: обломки каменных плит с изображениями в погребениях окуневской культуры следует рассматривать как намеренно сохранённые остатки ритуально-образного оформления каких-то специально выделенных «капищ», на которых осуществлялись необходимые с точки зрения всего погребально-поминального цикла обряды «перехода» (наподобие опять-таки росписей на стенах древнеегипетских гробниц из Долины Царей. — Д.С.). После завершения этих обрядов с сохранением трупа умершего (или его «заместителя») плиты с изображениями «участников» погребальной церемонии (или их фрагменты) становились своеобразным сопровождением умершего. С целью придания этим плитам и нанесённым на них изображениям инакового состояния, соответствующего новому статусу погребённого, их намеренно ломали, переворачивали и т.д. О том, что плиты с изображениями были сделаны специально для погребения или незадолго до их помещения в могилу, свидетельствует также отсутствие каких-либо следов изношенности, которые, несомненно, должны были бы быть, если бы их изготовление было отделено значительным промежутком времени. В таком «переотложенном» состоянии они и были найдены при раскопках погребений известных окуневских могильников (Тас-Хазаа, Черновая-VIII, Верхний Аскиз, Разлив, Лебяжье и др.).
Таким образом, можно предполагать, что в системе погребального обряда помещение плит с изображениями в могилу (уже неважно, в каком состоянии и положении) составляло один из завершающих этапов ритуальных действий, а сами плиты с изображениями, как неотъемлемые «участники» обрядов «перехода», должны были сопровождать умершего и после окончательного захоронения. Образно говоря и пользуясь словами Э. Хемингуэя, это был «праздник, который всегда с тобой». Вместе с тем известны случаи, когда окуневские плиты с изображениями были использованы при устройстве погребений заведомо более поздних андроновской и карасукской культур. Кроме того, многие окуневские изваяния были найдены в оградах курганов тагарской культуры, а также в кыргызских чаатасах эпохи раннего средневековья. Во всех этих случаях они действительно использовались как строительный материал.
Аналогичная модель ритуальной сферы культуры ещё более ярко выражена в росписях на внутренних стенках каменных ящиков каракольской культуры Горного Алтая (могильники Каракол, Озёрное, Беш-Озек и др.), близкородственной окуневской культуре Среднего Енисея [Кубарев, 1988; 2009].
(43/44)
Сам погребённый здесь выступает в качестве экстраверта, а в окружающих его изображениях очевидно соблюдение определённого порядка. На торцевых стенках ящиков представлены красочные изображения антропоморфных персонажей в масках с огромными бычьими рогами; на боковых стенках — ряды фронтально расположенных стоящих фигур в солнечных «коронах» и с поперечным членением лица. Те и другие достаточно близки окуневским.
По замечанию Ю.И. Михайлова [2001, с. 9], в искусстве эпохи бронзы «личина неизменно предстаёт как объект, на который направлено внешнее воздействие, или выступает как композиционный центр, к которому направлено движение». В данном случае это «движение» осуществляют как сам погребённый, так и более мелкие профильные фигурки, идущие в одном направлении (к «головной» стенке каменного ящика). Эта же особенность отмечена в работе М.Б. Слободзяна [2004, с. 237]: реконструкция изобразительного ряда изображений на каракольских плитах показывает, что фигуры-маскоиды занимали среди них «доминирующее положение по основной оси погребения». Остальные персонажи, по всей видимости, должны были обозначать «участников» обряда. Можно предполагать, что в росписях Каракола и других аналогичных памятниках воспроизведены не зафиксированные археологически ритуальные действия, связанные с проводами умерших [Савинов, 2005, с. 221].
Другие рисунки, выполненные выбивкой или гравировкой, а также отличные в стилистическом отношении, находятся на внешних стенках каменных ящиков. Плиты с такими рисунками положены «на боку», могут быть перевёрнуты, как и окуневские, и т.д. Хронологический промежуток между ними и красочными изображениями мог быть небольшим, так как в некоторых случаях наблюдается совмещение различных техник нанесения при исполнении одного и того же изображения. Кроме того, трудно предположить, что их собирали специально из множества каких-то других местонахождений, разрушенных погребений и пр. Скорее всего, плиты с выбитыми рисунками и гравировками могли сохраниться от проведения предшествующих обрядов (?) или занимать, по сравнению с красочными изображениями, второстепенное положение.
Что касается красочных (полихромных) изображений, в наибольшей степени напоминающих окуневские и, как правило, расположенных фронтально по отношению к погребённому, то одновременность их с окончательным актом захоронения зафиксирована самими создателями каменных ящиков, объединивших составляющие их плиты с рисунками сплошными полосками красной охры, проведёнными по верхнему краю этих плит [Кубарев, 1988, с. 32, 37; 2009, рис. 58; 77] и как бы замыкающих ритуальное пространство, в котором предстояло продолжать свой посмертный путь погребённому. К такому же выводу пришёл и В.Д. Кубарев [2009, с. 41], отметивший, что полихромные изображения Каракола «задуманы как один непрерывный фриз, единый повествовательный рассказ, призванный проиллюстрировать конкретные культовые действия, теперь уже связанные только с ритуалом погребения». Следы таких же полос, только сделанных чёрной краской, были обнаружены и по верхнему краю каменных плит в окуневском могильнике Верхний Аскиз-I, курган №2 [Ковалёв, 1997, с. 89].
Если обратиться к материалам более позднего скифского времени, то и здесь мы находим подтверждение существования обрядов «перехода» в наскальных изображениях, рисунках на курганных плитах и в архитектурном оформлении наземных сооружений — оград курганов тагарской культуры. Так, известная Боярская писаница с рисунками котлов и жертвенных (?) животных, судя по всему, представляет собой изображение не поселения бытовой тагарской культуры, как это принято думать, а может быть интерпретирована как «посёлок мёртвых» или место для совершения обрядов проводов покойных [Савинов, 2003]. Очевидно, в этом же ключе следует рассматривать сцены с изображением каких-то загадочных персонажей, перемешивающих «нечто» в котлах скифского типа на уникальном петроглифическом фризе Кызыл-Хая [Appelgren-Kivalo, 1931, abb. 297-300]. На одном из рисунков Кызыл-Хая рядом с котлами показана четырёхкопыльная нарта с «седоком» и лошадиной запряжкой [Там же, abb. 298]. Сочетание в одной композиции с такими культовыми предметами, как котлы, не позволяет интерпретировать данную сцену с чисто утилитарной точки зрения. Скорее всего, как справедливо отметил И.Л. Кызласов [1981, с. 65-7], здесь следует видеть изображение погребальных нарт. В таком случае фигура человека в нартах может представлять самого покойника, в честь которого приготовляли жертвенную пищу.
Можно предположить, что к тому же циклу ритуальных действий относятся и некоторые многофигурные композиции на тагарских курганных плитах с изображением лабиринтов (символов «пути»); жертвенных животных (в нижней части плиты); наклонной линии с «зарубками» или «лестницы» (посередине); фигуры «Небесного всадника» в солнечной короне (условно — Ульгеня), венчающей продвижение по этому «пути» [Savinov, 1999, pl. 23; 24]. Поскольку подобные изображения находятся, как правило, на внешних сторонах курганных плит, то не исключено, что само их нанесение могло составлять какую-то часть погребального обряда, предшествующую окончательному захоронению.
(44/45)
Интересные наблюдения высказала О.В. Ковалёва [2006] относительно плит с рисунками из ограды Большого тагарского кургана Барсучий Лог, раскопки которого производились в 2004-2005 гг. Включённые в ограду кургана с приблизительно равными промежутками, они были явно подобраны здесь не случайно, а с определённым умыслом. Сами рисунки на этих плитах, как отмечает О.В. Ковалёва, разновременны: самые ранние из них (мужские фигуры в грибовидных головных уборах) относятся ещё к эпохе бронзы; более поздние могут быть одновременны сооружению кургана. При этом важно, что данные плиты не были выломаны из каких-то соседних скальных плоскостей с уже нанесёнными на них изображениями, а были заготовлены и украшены рисунками уже в процессе их последующих обработки и использования. Трудно предположить, как и в случае с каракольскими плитами, что их собирали со всей окружающей местности и затем устанавливали в ограде кургана. Вероятнее всего, они должны были находиться в каком-то одном месте, где использовались по назначению, а уж затем были перенесены на место строительства кургана и включены в его ограду, возможно, также с какими-то определёнными целями.
Дальнейшие рассуждения о каких-то ритуальных действиях, предшествовавших погребению, уже не требуют особых доказательств, так как их существование отражено в известных всем исследователям материалах. Тесинские «головы» и таштыкские маски, как и само препарирование тела умершего и подготовка его к погребению, являются археологически засвидетельствованным фактом [Кузьмин, Варламов, 1988; Вадецкая, 1999, с. 154-159]. Но ведь эти операции по изготовлению гипсовых масок, армированию тела покойного и подготовка его к погребению производились не на месте захоронения, а в каких-то других специально выделенных для этого местах (кстати, археологически также не выявленных), и уже потом помещались для окончательного захоронения в склеп. Имеются все основания предполагать, что в этот период по отношению к покойному (или к его «заместителю») производились все необходимые обряды, обеспечивающие его благополучное «переселение» в потусторонний мир. Если это так, справедливо отмечает Э.Б. Вадецкая [1986, с. 86]. то «встаёт вопрос о “жизни” мумии-куклы и роли, которую она играла в промежутке между её изготовлением и погребением».
Данная особенность проведения поэтапной церемонии проводов умершего у раннесредневековых кочевников Центральной Азии и Южной Сибири была настолько выразительной, что, как непременный атрибут их культурной характеристики, была отмечена свидетельствами китайских письменных источников. Так, при описании погребального обряда тюрков-тугю сообщается, что «когда один из них умирает, то труп ставится на возвышении в юрте...». Относительно уйгуров говорится, что «мёртвых они относят в выкопанную могилу, ставят труп на середине; с вытянутым луком, как будто живой, но могилу не засыпают» [Бичурин, 1950, с. 216, 230]. В данном контексте предполагается, что какое-то время (для совершения необходимых ритуальных действий?) тело покойного сохранялось до окончательного захоронения. Тогда приобретает смысл известная идиома, с которой начинается описание погребального обряда древних тюрков: «Умершего весною и летом хоронят, когда лист на деревьях и растениях начинает желтеть и опадать (т.е. осенью. — Д.С.); умершего осенью и зимой хоронят, когда цветы начинают развёртываться (т.е. весной. — Д.С.) [Бичурин, 1950, с. 230]. Та же самая предполагаемая «афанасьевская модель», перемещённая в совершенно иную историческую эпоху! Очевидно, что к этому имеют отношение и некоторые упоминания в древнетюркских рунических надписях-эпитафиях, связанных с обрядами «перехода»: «Моя княжна в тереме сделала тул...» (т.е. временного «заместителя» умершего); или — также известное — «их витязей убив... приготовил себе балбалов» (т.е. «сопровождающих» при переходе в потусторонний мир) [Савинов, 1993].
Если заглянуть через призму средневековых письменных источников в погребальную обрядность гунно-сарматского времени, то и здесь мы находим определённые соответствия. Так, при раскопках Шестаковского могильника в Кемеровской области была выявлена площадка из обожжённой глины, где «выставлялись манекены умерших с масками и портретными скульптурными головами... Вероятно, они были поставлены в рост или посажены, если учесть, что голова прочно крепилась в вертикальном положении. Сверху, а может быть и над всей площадью, возводилась крыша из берёсты... Это был своего рода пантеон» [Мартынов, 1974, с. 241]. Как описание места нахождения умерших до погребения, это пока единичный случай, но достаточно показательный.
Обычай общения с умершими (или их «заместителями») в период между моментом смерти и временем захоронения широко представлен в этнографических материалах. Но, пожалуй, наиболее яркое (и самое архаичное?) воплощение он нашёл в погребальном обряде нганасан, обитающих на крайнем севере той же водной системы Енисея. По материалам А.А. Попова [1935], роль умершего здесь исполнял один из его ближайших старших родственников, который принимал соответствующие наставления и пожелания покойному, сам от его имени участвовал в последней совместной трапезе и приводил аргиш с нартой умершего на место будущего захоронения в тундре. Как здесь не вспомнить изображение ритуальной
(45/46)
сцены с изображением погребальной нарты и «покойного» (?) в наскальных рисунках Кызыл-Хая! Более разнообразную и детальную картину проводов умершего у нганасан, уже несколько трансформированную временем, рисует Г.Н. Грачёва [1983, с. 76-125]. Но суть явления от этого не меняется. По словам Г.Н. Грачёвой [1983, с. 98], «смерть не воспринималась как единовременный акт, а представляла длительный переход от существования к исчезновению». Именно в указанном промежутке должно располагаться всё то, что в переводе на язык артефактов может быть определено как «археология ритуала».
Библиографический список. ^
Вадецкая Э.Б. О каменных стелах эпохи бронзы в Хакасско-Минусинской котловине // СА. 1965. №4.
Вадецкая Э.Б. Изваяния окуневской культуры // Э.Б. Вадецкая, Г.А. Максименков, Н.В. Леонтьев. Памятники окуневской культуры. Л., 1980.
Вадецкая Э.Б. О культе головы по древним погребениям Минусинских степей // Духовная культура народов Сибири. Томск, 1980а.
Геннеп ван А. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов. М., 1999.
Грачёва Г.Н. Традиционное мировоззрение охотников Таймыра. Л., 1983.
Грязнов М.П. Афанасьевская культура на Енисее. СПб., 1999.
Гультов С.Б., Подольский М.Л., Цыганков И.Н. Окуневский курган «94-й километр» // Окуневский сборник-2. Культура и её окружение. СПб., 2006.
Кызласов И.Л. Древнехакасские сани (Из истории средств передвижения) // Вопросы этнографии Хакасии. Абакан, 1981.
Максименков Г.А. Могильник Черновая-VIII — эталонный памятник окуневской культуры // Э.Б. Вадецкая, Г.А. Максименков, Н.В. Леонтьев. Памятники окуневской культуры. Л.. 1980.
Мартынов А.И. Скульптурный портрет человека из Шестаковского могильника // СА. 1974. №4.
Миклашевич Е.А. Некоторые дополнительные материалы в связи с публикацией плит из могильника Лебяжье // Вестник САИПИ. 2003-2004. Вып. 6-7.
Михайлов Ю.И. Мировоззрение древних обществ юга Западной Сибири. Эпоха бронзы. Кемерово, 2001.
Общие проблемы изучения погребального обряда в современной археологии // КСИА. М., 2010. Вып. 224.
Попов A.A. Тавгийцы. М.; Л., 1936.
Савинов Д.Г. Темы «перехода» из мира живых в мир мёртвых в древнетюркских рунических текстах // Жизнь. Смерть. Бессмертие: мат. науч. конф. СПб., 1993.
Савинов Д.Г. Ритуальная сфера бытия в наскальных изображениях эпохи бронзы Саяно-Алтайского нагорья // Мир наскального искусства. М., 2005.
Appelgren-Kivalo H. Alt-Altaische Kunstdenkmäler. Briefe und Bildermaterial von J.R. Aspelins Reisen in Sibirien und der Mongolei 1887-1899. Helsingfors, 1931.
Savinov D. Stèles de Khakassie // Répertoire des Pétroglyphes D’Asie Centrale. Paris, 1999. Fase. 4. Tome V.
|