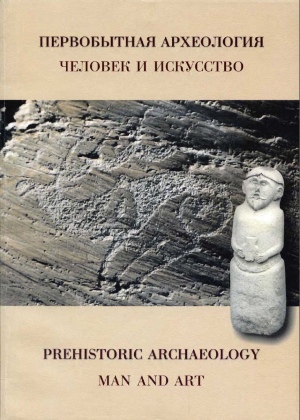 Д.С. Раевский
Д.С. Раевский
Об игровом начале в скифском зверином стиле.
// Первобытная археология. Человек и искусство. Сборник научных трудов, посвящённый 70-летию Я.А. Шера. Новосибирск: 2002. С. 178-181.
Любому специалисту известно, как много сил и времени Яков Абрамович Шер, юбилею которого посвящён этот сборник, отдаёт в своих научных изысканиях изучению сибирского и среднеазиатского наскального искусства. Интерес к этой тематике закономерно привёл его к анализу ключевых проблем генезиса и семантики евразийского звериного стиля скифской эпохи, самым непосредственным образом связанных с исследованием петроглифов. Его перу принадлежит ряд концептуально значимых трудов по звериному стилю. И хотя толкование Я.А. Шером вопросов, связанных с этим искусством, зачастую представляется мне достаточно спорным, нельзя не отметить, что его работы такого плана всегда создают поле для активной полемики и способствуют выдвижению весьма плодотворных гипотез и концепций. Поэтому я с удовольствием посвящаю юбиляру статью по этой тематике, представляющей интерес для нас обоих, как, смею надеяться, и для некоторых наших коллег.
Речь, как уже сказано, пойдёт об одном из аспектов изучения евразийского звериного стиля скифской эпохи. Этот термин является производным от предложенного в своё время автором данной статьи понятия «евразийский культурный континуум скифской эпохи» (Раевский, 1993). По моему убеждению, оба эти названия более пригодны для определения известного культурно-исторического феномена и одного из входящих в него элементов, чем обычно употребляемые термины «скифо-сибирское культурно-историческое единство» и «скифо-сибирский звериный стиль», поскольку в них в большей степени учтены природа и соотношение этих явлений.
Исследование звериного стиля скифской эпохи, насчитывающее в качестве самостоятельного направления скифологии около ста лет, в наши дни вступает, как представляется, в новую стадию: от простой систематизации эмпирического материала и конкретных наблюдений относительно его генезиса и характера исследователи всё активнее переходят к всестороннему рассмотрению этого явления в общем контексте культурной истории. Изучение звериного стиля в таком ракурсе требует уделять большое внимание тем проявлениям связанной с ним культуры, которые, по первому впечатлению, могут и не сказываться в конкретном исследуемом материале в явном виде. Тем не менее, попытки выделения в этом материале таких особенностей представляются необходимыми ввиду вполне надёжно доказанной их связи с широким кругом других культурных явлений. В данной статье будет рассмотрен вопрос, насколько правомерно соотносить звериный стиль с таким важным в истории культуры феноменом, как игровое начало.
Большое значение игры в культурной истории признано наукой вполне надёжно, но в зверином стиле, как феномене изобразительного искусства, игровой элемент в качестве структурообразующего фактора, на первый взгляд, почти не ощущается. Такой вывод, в частности, можно сделать, опираясь на высказывания Й. Хёйзинги — автора ключевого исследования о роли игрового начала в человеческой культуре. По его убеждению, игровой элемент проявляется в корне различно в мусических искусствах, с одной стороны, и в искусствах пластических, с другой.
Исследователь отмечает, что мусические искусства, оперирующие при создании произведения человеческим телом и его способностями, реализуются в многократно исполняемом танце, драматическом действе или музыкальном создании. «Мусическое искусство есть деятельность, и как деятельность восприни-
(178/179)
мается в процессе исполнения всякий раз, когда повторяется это исполнение» (Хёйзинга, 1992, с. 187-188; курсив мой — Д.Р.). Именно по этой причине создание произведения мусического искусства всегда представляет собой игру как таковую.
Если благодаря этому игровой элемент выражен в мусических искусствах весьма отчётливо, то в искусствах пластических, именуемых также искусствами класса техне, Й. Хёйзинга констатирует «кажущееся отсутствие игрового элемента». Характер таких искусств, реализующихся в ремесленном мастерстве, определяется, по его мнению, прежде всего их прикованностью к материи и тем, насколько ограничены возможности формотворчества, предоставляемые избранным материалом. Здесь воздействие искусства на зрителя обеспечивается вовсе не многократным исполнением, поскольку любое произведение, будучи единожды создано, «неподвижное и немое, осуществляет своё воздействие, пока есть люди, которые им любуются». Поэтому, по определению исследователя, «продуцирование в изобразительном искусстве протекает совершенно вне сферы игры, и даже публичный показ произведений входит лишь вторичным элементом в формы ритуала, празднества, увеселения, общественного события» (Хёйзинга, 1992, с. 188-189; курсив мой — Д.Р.).
Такое понимание коренного контраста между мусическим и пластическим искусством позволяет Й. Хёйзинге усматривать воздействие в последнем игрового фактора лишь как специфическое проявление назначения его произведений, в первую очередь, его сакральных потенций. Однако этот подход представляется весьма уязвимым, поскольку выявляет игровое начало в каждой из двух обозначенных категорий искусства качественно по-разному: предполагается, что в мусических произведениях оно обнаруживается вне зависимости от их назначения, тогда как в созданиях пластического искусства действенность вовсе не проявляется, а игровой эффект обеспечивается лишь прагматикой памятников и состязательным моментом, обнаруживающимся в процессе их созидания (Хёйзинга, 1992, с. 192-193). Между тем, можно, как представляется, подойти к обоим обозначенным видам искусства с единым критерием и попытаться обнаружить игровой элемент в пластических памятниках посредством выявления в них того же, что и в мусических произведениях, действенного начала. Образцы звериного стиля скифской эпохи представляются для этого едва ли не особенно пригодными. Полученные данные можно затем попытаться приложить к другим областям изобразительного искусства.
Хорошо известно стремление создателей памятников звериного стиля помещать в пределах некоторых входящих в них зооморфных изображений дополнительные фигуры зверей или их части. Этот приём является одним из типичных для рассматриваемого искусства и именуется обычно «зооморфными превращениями». Случаи использования таких превращений весьма разнообразны. Так, среди самых характерных его проявлений можно назвать часто встречающееся придание отросткам оленьего рога формы птичьего клюва или целой головы птицы (SА, * 1986, fig. 97, 101; Грязнов, 1958, рис. 38). Другой пример — трактовка концов лап знаменитой келермесской пантеры и её хвоста как ряда изображений кошачьего хищника, свернувшегося в кольцо (SA, 1986, fig. 17). Названные случаи демонстрируют зооморфные превращения, наиболее простые для восприятия. Но уже само наличие таких двояко значимых элементов изображения предполагает возможность существования различных трактовок всего памятника в целом. Иногда же зооморфные превращения используются для создания значительно большего числа вариантов осмысления анималистического образа. Так, в некоторых случаях, к примеру, на предметах из Ак-Мечетского кургана (SA, 1986, fig. 99) или из 1-й Завадской Могилы (Мозолевский, 1980, рис. 47) голова хищной птицы трактована так, что её затылок, в свою очередь, может восприниматься как самостоятельная птичья голова, затылочная часть которой опять-таки трактована как голова птицы; в ак-мечетском изображении таких уровней восприятия три, а в завадском — даже четыре; каждый подобный памятник поддаётся последовательному рассмотрению на всех возможных уровнях.
Как один из примеров особенно многозначных зооморфных образов следует назвать скульптурную фигурку птичьей головы из кургана на Темир-горе, служившую, как считается, украшением окончания древка лука (SA, 1986, fig. 2). Эта фигурка может трактоваться и как целостный одиночный образ, и как целый ряд автономных зооморфных мотивов: затылочная часть основного изображения выступает в то же время как лежащая фигурка хищника (?) с поджатыми под живот ногами, корпус которого как бы развернут на обе стороны птичьей головы; в области восковицы птичьего клюва находится протома животного с прижатым к шее ухом; в верхней части клюва птицы с каждой его стороны помещено по длинноухой головке, отдалённо напоминающей лосиную. К этому уже давно признанному набору зооморфных превращений разных частей птичьей головы из Темир-горы М.Н. Погребова и автор данной работы в своё
(179/180)
время предложили добавить голову козла, которую, по нашему мнению, составляет абрис клюва и восковицы основной птичьей головы (Погребова, Раевский, 1992, с. 234, прим. 24).
Наконец, несомненный интерес представляет бронзовая бляха с изображением свернувшегося в кольцо хищника из кургана Кулаковского в Крыму (SA, 1986, fig. 61). Она примечательна как пример такого анималистического произведения, в котором некоторые зооморфные превращения ряда деталей основной зооморфной фигуры предполагают единственное (помимо роли в изображении основной фигуры) значение, тогда как другие допускают целый ряд толкований. К примеру, передняя лапа кошачьего хищника, его хвост и заднее бедро наряду с основным значением в фигуре хищника могут быть трактованы и как изображения клюва хищной птицы, а его переднее бедро одновременно изображает фигурку горного козла. В то же время когти задней лапы основного хищника одновременно выступают и как клюв хищной птицы, аналогичный воспроизведённому на передней лапе, и как рог лося, головой которого служит переднее бедро хищника. Вместе с тем эти же голова и рог лося при обратном повороте могут восприниматься как голова волкоподобного хищника.
Все приведённые и многие другие примеры визуальных зооморфных превращений предполагают одинаковую правомерность двоякой или даже многообразной трактовки многих элементов изображения. При этом теоретически допустима актуализация не обязательно всех присутствующих в таком памятнике «малых» изображений, но лишь каких-либо из них. Все же мыслимые их сочетания создают максимальный набор заложенных в произведении мотивов. По существу такое толкование обеспечивает последовательную — одна за другой — интерпретацию всех возможных вариантов рассматриваемого визуального образа. Тем самым пластический образ, на первый взгляд, лишённый временно́й координаты и соответственно как бы не имеющий игрового потенциала, развёртывается во времени. Можно, таким образом, констатировать, что любое произведение визуального искусства, где откровенно используется приём многоуровневого толкования зрительного образа, предполагает последовательное постижение и в момент предъявления такого произведения зрителю от него требуется значительная активность, что по существу равносильно деятельности. Оговоримся, правда, что эту активность проявляет не художник, совершивший акт творения единожды, а именно созерцатель.
Художник, действующий в сфере пластического искусства, при создании произведения может, таким образом, обеспечить зрителю потенциальную возможность в дальнейшем, при обозрении этого произведения, включать механизм последовательного постижения различных уровней изображения и тем самым обеспечивать действие игрового начала. Следовательно, в рассмотренных случаях реализуется та самая модель игрового поведения, которая была продемонстрирована Ю.М. Лотманом на материале вербального творчества и, по его формулировке, допускает неоднозначные решения, не отменяющие друг друга, а взаимно между собой соотносящиеся (Лотман, 1970, с. 85-86). При этом «механизм игрового эффекта заключается не в неподвижном, одновременном сосуществовании разных значений, а в постоянном сознании возможности других значений, чем то, которое сейчас принимается» (Лотман, 1970, с. 89).
Итак, оказывается, что в пластических памятниках, допускающих последовательное осмысление разных пластов изображения, игровое начало выявляется практически тем же способом, каким оно обнаруживается в вербальных или вообще мусических произведениях. Один из наиболее ясных примеров подобного использования игрового фактора в произведениях звериного стиля являют многократные случаи превращения двух симметрично размещенных профильных изображений головы животного в голову зверя, представленную en face (Грязнов, 1958, рис. 25; подробнее об этом см.: Фурсикова, 1999). Самый же замечательный из известных сегодня случаев являет найденная недавно на Нижней Волге пара бронзовых псалиев савроматского времени из Хошеутова, опубликованных наряду с другими предметами из того же комплекса В.В. Дворниченко и М.А. Очир-Горяевой (1997, с. 107, рис. 1, 7). Авторы этой публикации, к сожалению, не обратили внимания на одну особенность декора этих псалиев, который они трактуют как изображение двух оленьих голов, направленных мордами к центральной части псалия. Особенность эта состоит в том, что одна из этих голов расположена вверх ногами относительно другой и при таком развороте из головы копытного превращается в голову волкоподобного хищника (Раевский, 2000). Поскольку ввиду этого при любом повороте псалия изображение на нём предстаёт как сочетание оленьей (или лосиной) и волчьей голов, эта композиция представляет совершенный изобразительный палиндром, с обоих концов читающийся одинаково.
Не случайно именно звериный стиль скифской эпохи едва ли не нагляднее других видов изобразительного искусства позволяет выявить присущий этим искусствам способ применения игрового фактора. Наличие этого фактора и некоторые иные особенности художественной культуры евразийских степных народов напрямую выводят нас на проблему близости между их пластическим и вербальным творче-
(180/181)
ством. Представляется, что в зверином стиле в дальнейшем удастся выявить такую же, как и в вербальном искусстве древних арийских племён, важную роль «тайного, неявного и суггестивного» (Елизаренкова, 1993, с. 125). В частности, в вербальном творчестве игра предполагает перекличку формального и смыслового начал, т.е. звукового и семантического аспектов текста: игра звуками зачастую перетекает в игру значениями и наоборот. В визуальном же искусстве игра формами выявляется более или менее легко, но уловить при этом скрытую за ней семантическую игру мы часто оказываемся не в состоянии ввиду незнания точного смысла многих, если не большинства, изобразительных мотивов. Тем не менее, если в таких памятниках также удаётся уловить действенное начало и соответственно признать наличие в них игрового эффекта, можно и здесь с достаточной долей уверенности говорить о таком же взаимодействии формы и семантики. В дальнейшем, как представляется, удастся выявить в зверином стиле скифской эпохи не только игровые, но и иные формальные приемы, связанные с воплощением различных особенностей семантики. При этом следует исходить из наблюдения, что все элементы художественного текста «суть элементы смысловые», а сам он есть «сложно построенный смысл» (Лотман, 1970, с. 19).
Конечно, евразийский звериный стиль скифской эпохи — отнюдь не единственная область применения игрового фактора в пластическом искусстве. Хорошо известны случаи его использования и в иных культурных традициях, где способ его выявления оказывается сходным. В то же время понятно, что игровое начало проявляется в визуальном искусстве отнюдь не повсеместно. Не случайно изобразительная многозначность как непременное условие обнаружения в пластических памятниках игрового фактора особенно часто проявляется там, где произведения искусства класса техне сопряжены с архаическими ритуалами, и почти не прослеживается в профессиональном искусстве нового времени. Спрос на неё вновь становится заметен в связи с развитием модернизма, оперирующего многими приёмами первобытности, уже лишёнными, однако, её цельности и органичности.
Что касается искусства скифского звериного стиля, предполагающего, как я попытался здесь продемонстрировать, не пассивное созерцание, а крайне высокую степень зрительской активности, следует признать, что ему свойственно виртуозное применение этого эффекта в визуальной сфере.
Литература. ^
* Здесь и далее: SA – Scythian Art. The Legacy of the Scythian World: mid-7th to 3rd Century B.C. – L., 1986.
|