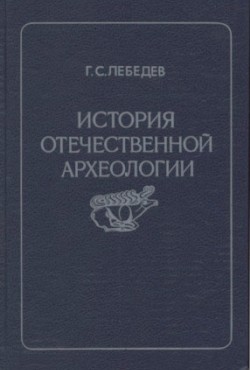 Г.С. Лебедев Г.С. Лебедев
История отечественной археологии. 1700-1917 гг.
// СПб: Изд-во СПбГУ. 1992. 464 с. ISBN 5-288-00500-1
(в выходных данных на с. 2 опечатка: 1971 вместо 1917)
Скачать полностью: .djvu, 19 Мб
Часть III.
Развитие историко-археологических концепций
в мировой и отечественной науке в начале XX в. (1899-1918).
Глава II.
Смена парадигм.
Становление научного аппарата отечественной археологии.
1. Методологический кризис 1890-х годов. ^
Разрыв между естественнонаучным подходом, ориентированным главным образом на первобытную археологию, и остальными разделами российской археологической науки, среди которых лидирующее место занимала классическая, античная археология и близкие к ней отрасли (наиболее полно выражавшие себя в художественно-историческом подходе), в конце XIX в. не являлся специфичным лишь для русской гуманистики. О таком же резком расхождении парадигм первобытной и классической археологии в западноевропейской археологии «перед 1900 г.» в фундаментальном очерке «Сто пятьдесят лет археологии» писал британский учёный Глин Даниэл. [10] Преодолеть расхождение между эволюционистской, естественнонаучной парадигмой, в перспективе развивавшейся к парадигме экологической, и художественно-историческим подходом (с опорой на искусствознание, оперировавшее высшими сферами человеческой культуры) можно было только при условии и в ходе создания целостной концепции культуры. Появление лишь в наши дни, в середине 1980-х годов обоснованного акад. Д.С. Лихачёвым понятия «экология культуры» фиксирует, видимо, конечную точку этого встречного движения научных парадигм. Для его осуществления потребовалось почти столетие и воздействие мощных факторов как внутренней логики развития науки и культуры, так и «экстранаучных» (в том числе таких беспрецедентно-глобальных, как угроза ядерного уничтожения и экологический кризис «индустриального общества»). Археология же рубежа XIX-XX вв. (и в России, и во всём мире) вместе со всей гуманистикой находилась ещё в самом начале этого пути.
Необходимыми этапами движения к современной, системной «культурно-экологической» парадигме конца XX столетия было само по себе осознание специфики различных форм культурных общностей (в их числе и «археологической культуры»), их взаимосвязи (проблема «культура — этнос»), места в культурно-историческом процессе. Целостная концепция культуры будет неполноценной без столь же целостной концепции общества — социально-экономической формации. К изучению социально-экономического аспекта культуры не только отечественная, но и зарубежная археология обратились лишь после рево-
(342/343)
люционного переворота 1917 г. Во второй половине 1920 — начале 1930-х годов появились первые опыты построения на основе марксистской методологии, «социологической концепции» понятия «археологическая культура», сначала в работах советских археологов-стадиалистов, а затем, в значительной мере под их воздействием, в трудах крупнейшего археолога первой половины XX столетия, британского учёного Гордона Чайльда.
Отсутствие социально-экономического аспекта в исследованиях 1890-х годов существенно тормозило, но не останавливало научного процесса: движение в этом направлении развивалось и в рамках формирующейся «экологической парадигмы», неизбежно подходившей к постановке проблемы «человек и среда» («Земля и люди» Э. Реклю), разрешаемой прежде всего с позиций исследования диалектического взаимодействия окружающей среды (естественных ресурсов), производительных сил людей и созданной ими техники, и производственных отношений в человеческом обществе. Как следствием, так и в определённой мере компенсацией отсутствия позитивного решения этой проблемы на рассматриваемом этапе развития науки наличествовала и наметившаяся дифференциация научных подходов, позволявшая в конечном счёте сформировать разностороннее представление о предмете и, в результате своего рода стихийной «мозговой атаки», прийти к осознанию, на новом концептуальном уровне, целостности, структурной сложности и взаимосвязанности всех его компонентов.
Стихийность этого пути, однако, определяла и неизбежные его издержки. Для выхода на новый парадигматический уровень даже в рамках одной парадигмы необходимым условием развития является столкновение гипотез («позитивной» и «альтернативной»), но ещё более острыми оказались столкновения взглядов представителей нескольких подходов, сформированных на основе резко возраставшего объёма исходного материала. Возможностям этого роста не соответствовали ни организационная структура, ни понятийный аппарат науки, но именно такое положение сложилось в российской археологии «постуваровского периода».
Если в рамках этого отрезка времени (1884-1899) примерно первые десять лет можно считать этапом первоначального размежевания сторонников нескольких научных течений, то по мере их оформления отнюдь не сразу устанавливалось взаимопонимание и взаимодействие между ними. Ситуацию, складывающуюся с начала 1890-х годов, следует охарактеризовать как методологический кризис: нарастающее количества материала резко превосходило познавательные возможности имеющихся научных школ.
В значительной мере, несомненно, это — кризис роста; любая наука, в том числе и археология, не раз проходила в своём развитии этот болезненный, но неизбежный этап (ситуация
(343/344)
повторилась, например, в советской археологии начала 1960-х годов). Методологический кризис 1890-х годов проходил особенно болезненно, хотя и не вполне осознанно, вероятно, потому, что, во-первых, археология как только что сложившаяся дисциплина переживала его впервые; во-вторых, существовавшая организационная структура, так и не обеспечив систематичного преподавания дисциплины, т.е. решения задачи планомерной преемственности поколений внутри научных школ (ведущие археологи лишь приступали к чтению пробных курсов!), не справлялась и с организацией взаимодействия этих школ и течений, а, наоборот, лишь способствовала углублению их разобщённости и соперничества; в-третьих, дифференциация подходов совпала по времени с осознанием качественной специфики археологического источника, что требовало как раз разностороннего и согласованного подхода к основному объекту археологического исследования; но именно эта согласованная разносторонность в данных условиях была неосуществима.
Вещь как материализация исторического времени, «памятник» в точном значении слова осознавалась на качественно новом уровне, как основная ценность научного знания. «Предмет, — по Кондакову, — форма материи, обязанная своим происхождением, во-первых, потребности, которую мы должны себе объяснить, и, во-вторых, техническими и материальными условиями, создавшими и самую форму, и её организацию, и вызвавшими её дальнейшее развитие», [11] — выдвигается как универсальная единица археологического исследования. Это делало задачу исследования древних вещей (артефактов) общепонятной и доступной, хотя неизбежным стал уклон и заслуженный в дальнейшем упрёк в «вещеведении», вызывающий заострённую (в последние десятилетия развития советской науки, правда, с некоторыми сомнениями в правомерности такого заострения) критику. Кондаковская формулировка являлась необходимой ступенью представления о научном интересе «через вещь — к историческому процессу, к истории общества, которая через многие звенья и посредствующие моменты обязательно отражается так или иначе, в большей или меньшей степени, прямо или косвенно в вещи». [12] Развивающая исходные кондаковские установки 1890-х годов, эта формулировка Ф.В. Кипарисова появилась лишь в 1933 г., а реализация её в развернутую систему понятий была осуществлена спустя ещё почти полвека, в монографическом исследовании Л.С. Клейна «Археологические источники» (Л., 1978). Между тем сама формулировка Н.П. Кондакова зафиксировала сдвиг, произошедший за несколько десятилетий от выдвинутых А.С. Уваровым внешних «условий», определяющих позицию «памятника» в культурно-историческом процессе, к выявлению взаимосвязи с этим процессом — внутренней организации и формы «предмета».
(344/345)
Вещи как главный объект археологического изучения в превосходном полиграфическом воспроизведении становятся основным содержанием многотомных и многочисленных публикаций, а их поиск и накопление — преимущественной задачей раскопок. Осмысление дальнейших задач исследования всё ещё оставалось предметом в значительной мере безрезультатных дискуссий.
Естественным и приемлемым выходом из этой кризисной ситуации на первых порах было расширение ареала археологических исследований, вовлечение в обсуждение материалов с новых территорий, остававшихся до сих пор за пределами внимания археологов России. Выход этот не решал проблемы, но на некоторое время её отодвигал, что во многом отвечало и задачам развития организационной структуры российской науки.
IX Археологический съезд в Вильно, состоявшийся 1-14 августа 1893 г., в значительной мере соответствовал всем этим условиям. Археологи, развернувшие изучение памятников Белоруссии и Литвы, получили здесь возможность широко представить свои материалы. Результаты курганных раскопок В.З. Завитневича позволили впервые точно очертить племенной ареал летописных дреговичей. Обширная коллекция находок памятников неолита и бронзы к этому времени была собрана в западной части территории Белоруссии М. Федоровским. Сводки данных по Могилевской губернии, включавшие результаты работ В.З. Завитневича, С.Ю. Чаловского, М.В. Фурсова и других исследователей, подготовил А.С. Дамбовецкий. За десять лет до IX АС исследовал и обобщил результаты своих разработок по более 300 «каменным могилам» летописной Чёрной Руси В.А. Шукевич. Архитектурные памятники Витебска и Полоцка исследовал А.М. Павлинов. Важной в источниковедческом отношении сводкой памятников стала «Археологическая карта Виленской губернии» Ф.В. Покровского.
Х Археологический съезд в Риге (1-20 августа 1896 г.) также значительно расширял и территорию, и проблематику, и круг участников археологической деятельности. В неё были вовлечены такие организации, как Общество истории и древностей прибалтийских губерний, Латышское литературное общество, Учёное Эстонское общество, Рижское общество естествоиспытателей, Рижское латышское общество, Эстляндское литературное общество, Курляндское общество искусств и литературы, а также губернские статистические комитеты — Эстляндский, Лифляндский, Курляндский, Витебский, наряду со Смоленским и другими традиционными участниками и организаторами АС. Археологическая, лингвистическая, этнографическая проблематика прибалтийских народов и финно-угров обсуждалась наряду с материалами Киевщины, рязано-окскими, белорусско-литовскими памятниками. Особо следует вы-
(345/346)
делить на X АС два выступления А.А. Спицына. Уже в качестве сотрудника Археологической комиссии он подготовил, во-первых, «Общее обозрение доисторических древностей прибалтийских областей», что полностью соответствовало и позволяло в значительной мере упорядочить тематику съезда, и, во-вторых, «Обзор работ по доисторической археологии России, проведённых в период между Виленским и Рижским АС».
Если учесть, что к этому времени Спицын осуществил публикацию MAP 14, MAP 18, MAP 20, охвативших материалы памятников близкой к Прибалтике территории Северо-Запада европейской части страны, а с 1896 г. начал публикацию «Погубернских обозрений», то можно констатировать, что именно к X АС 1896 г. наметился выход из «методологического кризиса». Он заключался прежде всего в организации источников, новой систематизации накопленных материалов. Эта напряжённая и трудоёмкая работа должна была дополняться и появлением первых обобщений по истории археологической науки, осмыслением её опыта; реорганизацией форм учёта и хранения материалов, повышением требований к качеству коллекций (отсюда — спицынская критика состояния материалов раскопок Уварова, хранившихся в Историческом музее) и поиском новых культурно-исторических интерпретаций (образцом их стали «Дополнительные замечания» Спицына к публикации приладожских курганов). Но главным, решающим условием выхода на новый уровень археологического мышления была систематизация материалов.
Предстоявшая и начатая, грандиозная по объёму работа вступала в противоречие с господствовавшей тенденцией к широкому развёртыванию раскопок. Немногие осознавали это с такой остротой, как А.А. Спицын. «Какой смысл копать, когда не знаешь, что ищешь, а накопав вещей, не знаешь, что с ними делать», — обращался он к петербургскому РАО в докладной записке, поданной совместно с Н.И. Веселовским. [13] Эти строки написаны 15 января 1899 г. Ещё до конца того же года вышло в свет «Расселение древнерусских племён» А.А. Спицына — первый результат проделанной работы по систематизации, убедительно раскрывающей, «какой смысл» может нести историко-археологическое исследование. Систематизация, позволяющая освоить новые теоретические понятия, оперировать типами и культурами в эмпирических исследованиях — таков был один из путей выхода из кризиса научного знания.
В том же 1899 г. В.А. Городцов выступил на XI АС с докладом «Русская доисторическая керамика». Переход с эмпирического уровня применения к дальнейшей разработке базовых теоретических понятий — новый виток в развитии научного знания. Годы между X и XI АС были годами активного выхода на арену широкой научной деятельности ведущих представите-
(346/347)
лей нового поколения российских археологов, временем выхода из методологического тупика. Завершился «постуваровский период» (1884-1899), распадающийся на два этапа: дифференциации научных подходов (1884-1893) и методологического кризиса (1893-1899). Начался новый период развития отечественной археологии, связанный прежде всего с именами А.А. Спицына и В.А. Городцова.
2. «Спицынско-городцовский период» развития российской археологии. ^
Подоснова быстрого развития археологических знаний в начале XX столетия была заложена новыми открытиями, осуществлявшимися со второй половины 1890-х годов археологами в основном представлявшими господствовавшее «общекультурно-историческое направление». С 1894 г. блистательные раскопки Н.И. Веселовского открыли серию новых курганных комплексов — Майкоп (1897), Царская (1898), скифские курганы у станиц Костромской, Ульской, кубанские курганы «римско-сарматского времени». С 1901 г. в полевое изучение скифских курганных погребений активно включился H.Е. Бранденбург (Макиевка), В.В. Хвойка (Галущина), А.А. Бобринский (Константинова, Журовка). Новые, при этом часто ключевые скифские комплексы входят в научное обращение одновременно с материалами планомерно исследующегося Б.В. Фармаковским крупнейшего в Северном Причерноморье греческого полиса Ольвии: 1901-1908 гг. — время раскопок Верхнего города. Греко-скифские связи в свете новых, эффектных и сравнительно хорошо документированных находок исследовались на всё более высоком историко-культурном уровне с позиций «художественно-исторического течения».
Методические разработки этого подхода позволяли наметить новые, масштабные обобщения и перспективные области исследования. В 1899 г., через год после публикации «Русских кладов», Н.П. Кондаков выступил в Обществе любителей древней письменности и искусства с докладом «О научных задачах истории русского искусства». Вскоре, в 1903-1904 гг., Н.К. Рерих приступил к внимательному и систематичному изучению древнерусских памятников зодчества и живописи, предпринимая исследовательские поездки по древнерусским городам. Публикацией в 1900 г. работы «Эллинистические основы византийского искусства» Д.В. Айналов, ученик Н.П. Кондакова, обосновал концепцию, раскрывающую место византийско-русских культурных связей во всемирно-историческом процессе.
Наряду с художественно-историческим в рамках общекультурного подхода обретает всё более самостоятельное значение «лингво-историческое течение», стимулировавшее археологиче-
(347/348)
ские разработки принципиально важными построениями на языковом, эпическом, фольклорном, ономастическом, письменном материале. Именно на основе этого подхода в конкретно-исторической проблематике Северного Причерноморья произошёл резко расширивший её качественный сдвиг, связанный с публикацией в 1899 г. монументальной работы Ф.А. Брауна «Разыскания в области гото-славянских отношений». Охватившая наиболее ранний, доступный изучению, этап славяно-германских связей, она значительно активизировала усилия исследователей исторических судеб «Готской державы» Северного Причерноморья III-IV вв. н.э. (в начале 1980-х годов, как свидетельствует современная историография, выдвинувшейся в ряды весьма актуальных и перспективных проблем ранней истории Восточной Европы). Гото-славянские связи в работах В.Г. Васильевского, А.Н. Веселовского исследовались на материалах раннесредневековых письменных памятников, освещающих начальные этапы становления Руси. Наметилось изучение гото-славянских взаимодействий в сфере фольклора и эпоса (а по мнению одного из ведущих советских специалистов в данной проблематике В.Н. Топорова, «можно поставить вопрос и о возможном контакте изоморфных звеньев готской и праславянской мифологических структур» [14]). Особое значение по своей освещённости источниками различного времени и профиля приобретала тема «готов в Крыму». Археологи, начиная с И.Р. Аспелина, одним из первых обратившегося к готской тематике именно в изучении «Крымской Готии», добились первых заметных успехов: памятники Алушты, Гурзуфа, Гугуша начал исследовать В.Ф. Миллер, А.И. Харузин, к «готским древностям» обратился Э.Р. Штерн. С важнейших открытий памятников крымских готов началась самостоятельная научная деятельность одного из заметных представителей нового, предреволюционного поколения археологов Николая Ивановича Репникова (1883-1940). В 1948 г., подводя итоги его деятельности, В.И. Равдоникас писал: «Византийский Херсонес, готский могильник Суук-Су и другие аналогичные могильники, Партенитская базилика VIII в., пещерные города Крымского Нагорья — таковы важнейшие темы исследований Н.И. в Крыму. Открытие могильника Суук-Су (1903 г.) и блестящий, добытый из него раскопками Н.И., материал, ныне хранящийся в Государственном Эрмитаже, привлекли в своё время к себе всеобщий интерес археологов не только в России, но и за границей». [15] Великолепные комплексы женских серебряных украшений V-VII вв., массивных пальчатых фибул, браслетов, поясных пряжек были превосходными образцами ювелирного ремесла эпохи Великого переселения народов, новыми типохронологическими показателями, наглядными характеристиками этнографического своеобразия населения раннесредневекового Крыма, тех «готских красных дев» из «Слова
(348/349)
о полку Игореве», которые, по мысли А.А. Шахматова, могли сохранить эпические предания о борьбе с готами антского князя Божа-Буса.
Хронологический и культурно-исторический диапазон «южнорусской» тематики в эти годы быстро расширялся за счёт освоения памятников не только поздних, но и ранних горизонтов первобытности: шло формирование культурной стратиграфии широкой территории, примыкавшей к Северному Причерноморью, где исследовались группы памятников, как сменяющие «греко-скифское время», так и предшествующие ему. Именно здесь наиболее полным образом реализовывались возможности формирующегося «индуктивно-аналитического подхода», подходившего к выделению «археологических культур». Первичное же упорядочение материалов, определение стратегических направлений во многом удалось осуществить для этой территории ещё и за счёт возможностей сложившихся организационных форм научной деятельности.
XI Археологический съезд, состоявшийся в Киеве в августе 1899 г., должен быть отмечен как одна из последних крупных попыток усовершенствовать именно организационную сторону дела. Проходивший под председательством П.С. Уваровой и Д.Н. Анучина, съезд, собравший более 540 участников, обсудил организационно-методические вопросы, поставленные на X АС в Риге: о деятельности архивных комиссий в Прибалтике, а также об обязательной передаче археологических находок «с казённых земель» в коллекции местных музеев. Рассматривался также проект архивной реформы, предусматривавший создание центрального органа (подобного существовавшим в Англии, Франции, Германии, скандинавских и других западноевропейских странах) — Исторического архива (где были бы сосредоточены дела, начиная с древнейших письменных актов русского средневековья и до 1825 г.), а также 12 областных архивов. Упорядочивавшая источниковедческую организацию страны, эта структура могла бы способствовать и развитию археологических исследований. П.С. Уварова ставила вопрос и об организации кафедр археологии в университетах.
Состоянию археологических исследований обширного южного региона были посвящены выступления Н.Ф. Биляшевского и В.П. Бузескула, организационные проблемы славяноведения рассматривались в докладе Любора Нидерле. Сводную археологическую карту, а также результаты раскопок памятников Волыни (от каменного века до древнерусского времени) представил на XI АС В.Б. Антонович, древности Поднепровья были систематизированы В.Г. Ляскоронским, материалы новых раскопок на Киевщине представил H.Е. Бранденбург, а также ряд других исследователей. Центральным событием XI АС следует считать, однако, выступление В.В. Хвойки. Его работа «Каменный век Среднего Поднепровья» представ-
(349/250)
ляла собой первый из опытов построения сплошной хронологической колонки от палеолита до эпохи металла, и главное место здесь занимали впервые исследованные и дифференцированные в хронологическом отношении памятники трипольской культуры.
Древности Триполья и их место в культурной стратиграфии Поднепровья оставались основной темой В.В. Хвойки на ближайшие годы: им посвящены его выступления на XII (1902), XIII (1905), XIV (1908) Археологических съездах, когда он продолжал раскопки новых памятников «в области трипольской культуры». К изучению Триполья в эти годы обратился и В.Н. Доманицкий, Н.Ф. Биляшевский; с 1900 г. появились посвящённые трипольской культуре публикации Ф.К. Волкова; её изучением занимались А.А. Скрыленко, Э.Р. Штерн, К.В. Хилинский. Материалы трипольской культуры сравнивают с раннеземледельческими энеолитическими «домикенскими» памятниками Балкан и Подунавья; таким образом, «в первом приближении» они включались во вполне верный культурно-хронологический контекст.
Вопрос о месте трипольской культуры на археологической карте Украины вызывал интерес и к сменяющим её группам древностей. На XI АС Ю.В. Кулаковский (в 1899 г. опубликовавший «Карту Европейской Сарматии», обобщившую данные античной географической традиции о Восточной Европе) обращался к курганам эпохи бронзы «с окрашенными костяками». Этой же группе древностей посвятил одну из своих многочисленных публикаций 1899 г. А.А. Спицын. Находки и памятники «медного века» Украины, Поволжья, Средней и Северной России стали одной из его постоянных научных тем.
1899 г. был ознаменован и первыми открытиями «полей погребений», раскопки которых к 1901 г. занимали основное место в полевых работах В.В. Хвойки. В «Записках РАО» за 1901 г. (вып. XII) он опубликовал первую обобщающую характеристику этих памятников — «Поля погребений в среднем Поднепровье». Зарубинецкая и черняховская культуры становились важнейшими звеньями этнокультурной схемы В.В. Хвойки, а его работа «Древние обитатели Среднего Поднепровья и их культура в доисторические времена» (Киев,1913) по существу была первой и самостоятельной «археологической версией» славянского этногенеза.
Правда, вскоре славянство «полей погребений», прежде всего черняховской культуры, было поставлено под сомнение. В 1903 г. Н.Ф. Биляшевский обратил внимание на сходство черняховских памятников с германскими культурами римского времени. Через три года крупный немецкий археолог Пауль Райнеке выступил с развёрнутым обоснованием германской принадлежности «культур полей погребений». [16] Так началась растянувшаяся на десятилетия дискуссия по «черняховской
(350/351)
проблеме», в конце концов завершившаяся формированием развёрнутых представлений о её происхождении и этнокультурных связях лишь на исходе 1970-х годов.
Проблема этнической принадлежности черняховской культуры требовала не только её сопоставления с синхронными культурными группами «римского времени», но и уточнения характера древностей более раннего и более позднего хронологического горизонта памятников «железного века». А.А. Спицын обратился к разработке этих задач, исследуя и близкие по времени, но несколько более поздние «предметы с выемчатой эмалью», а также хронологически и культурно с ними связанные вещи с инкрустацией (как их называли тогда, «готского стиля»), и одновременно выявляя древности среднеевропейского круга периода до рубежа нашей эры (относящиеся к связанной с кельтами «латенской культуре» железного века).
В этих публикациях рассматривались эффектные, выразительные и интересные, а порой весьма значимые и информативные в историческом отношении вещи. «Инкрустационный стиль», в частности, вызвал волну интереса к «готским древностям» после открытия в 1904 г. богатых склепов на Госпитальной улице в Керчи. В могилах боспорского правителя конца IV — начала V в. и членов его семьи были найдены великолепные золотые изделия, украшения и оружие с гранатовой инкрустацией, богатое конское снаряжение, серебряная и стеклянная посуда (в том числе чаша из массивного серебра с портретом и латинской надписью императора Констанция II — подарок правителю Боспора, изготовленный в 343 г. н.э.). Но для раскрытия культурно-исторического процесса в широком географическом диапазоне, для решения масштабных проблем начальной славянской истории сами по себе такие эффектные комплексы давали немного: они требовали включения в систематизированный контекст массовых, порой достаточно невыразительных, но зато широко распространённых памятников середины — второй половины I тыс. н.э.
Публикация «Расселения древнерусских племён» А.А. Спицына в 1899 г. означала для него и немедленный переход к практическому решению этой, следующей, задачи. Одновременно он написал большую статью о сопках и жальниках. В 1902 г., после издания MAP №28 «Курганы Смоленской губернии» В.В. Сизова, Спицын осуществил сводку данных по ещё одной категории погребальных памятников, и в 1903 г. вышла его небольшая статья — «Удлинённые и длинные курганы». Длинные курганы и сопки, выделенные А.А. Спицыным, с этого времени занимали всё более важное место в острой и напряжённой дискуссии о культурных группах, относящихся к эпохе славянского расселения в лесной зоне Восточной Европы (VI-VIII вв.).
(351/352)
Выделение и изучение достоверно славянских памятников ранних эпох требовало развёрнутой сравнительной характеристики памятников неславянских племён. Собственно с них начиналась научная деятельность А.А. Спицына, и занятия финно-угорскими древностями Северо-Востока он успешно продолжал в дальнейшем. В том же 1899 г. он опубликовал небольшую обобщающего характера статью об этих древностях, через год — обстоятельное источниковедческое исследование, посвящённое одному из центральных культовых памятников Прикамья — Гляденовскому костищу, а затем подготовил подряд два фундаментальных тома: MAP №25 «Древности бассейнов рек Оки и Камы» и MAP №26 «Древности Камской чуди».
Не остались вне поля его зрения и древности кочевнического юго-востока: ещё в 1898 г. он опубликовал небольшую заметку о степных «каменных бабах». Через несколько лет научный интерес к этим памятникам заметно возрос — после сенсационного открытия всемирно известного Салтовского могильника на холмах правого берега Северского Донца (рядом с развалинами белокаменной крепости того же времени и обширным селищем). С 1900 г. в науку входило представление о «салтово-маяцкой культуре» VIII-IX вв.— археологическом отображении многоэтничной Хазарской державы, одного из первых раннесредневековых государственных образований Восточной Европы.
Первые раскопки салтовских погребений в катакомбах провел в 1900 г. местный учитель В.А. Бабенко: его работы продолжались более десяти лет и дали обширную, хотя в значительной мере депаспортизованную коллекцию древностей, поступивших в Эрмитаж и Исторический музей. С 1905 г., по решению Археологической комиссии, контроль за этими работами был поручен опытному полевому археологу H.Е. Макаренко. Квалифицированные раскопки катакомбных погребений в Салтово произвёл также А.М. Покровский. И первый исследователь Салтовского могильника В.А. Бабенко, и ряд других археологов не сомневались в его хазарской принадлежности. А.А. Спицын придавал открытию Салтовского могильника исключительное значение, полагая, что это событие можно считать началом новой эры в изучении древностей Южной России. При этом он первым понял связь салтовских древностей со вторым по значению после тюркского (хазаро-булгарского) ираноязычным (аланским) компонентом Хазарской державы. Как отмечает авторитетный современный исследователь салтово-маяцкой культуры С.А. Плетнёва, «со свойственной ему почти чудодейственной интуицией, А.А. Спицын не только правильно датировал этот памятник по аналогиям с северокавказскими древностями, но и дал в целом верное этническое их определение: все они принадлежали аланам VIII-IX вв.». [17]
(352/353)
Важный вклад в изучение салтово-маяцких древностей, наряду со Спицыным, внёс и В.А. Городцов: в 1901 г. он провёл раскопки одного из наиболее представительных могильников салтовской культуры, Зливкинского (в Изюмском уезде Харьковской губ.). Разработка культурной стратиграфии южнорусских степей уже в начале 1900-х годов перерастала возможности эмпирических, «спицынских» индуктивно-аналитических исследований и становилась базой для развития и реализации положений дедуктивно-классификационного «городцовского подхода».
На XI АС 1899 г. в Киеве В.А. Городцов уже выступил с первым своим крупным теоретическим исследованием «Русская доисторическая керамика». Методические принципы полевых исследований, обосновывавшиеся «дедуктивно-классификационным подходом», с характерной для В.А. Городцова последовательностью и точностью были отработаны и реализованы уже в его исследованиях древностей широкого диапазона — от неолита до древнерусского средневековья Волго-Окского междуречья, и прежде всего — долины р. Оки. Археологическая карта окских памятников, представленная им на XII АС 1902 г., подводила первые итоги этих исследований. Методика и принципы, разработанные Городцовым к этому времени, были уже перенесены на новые, южнорусские территории, где дали и наиболее значимые результаты.
XII Археологический съезд 1902 г. в Харькове, продолжавший тематику XI АС и дополнивший её, в частности, обсуждением сенсационных открытий в Салтове, отмечен развёрнутой публикацией В.А. Городцова «Результаты археологических исследований на берегах р. Донца Изюмского уезда Харьковской губ.». Работа, по существу представлявшая собой издание полевых результатов отчётного характера, была построена и выполнена как вполне законченное историко-археологическое исследование, реализующее принципы дедуктивной классификации. На её основе была намечена хронологическая дифференциация памятников и позднее развивавшееся Городцовым деление на «периоды» (каменный и металлический), в свою очередь подразделяющиеся на «эпохи» (выделена «бронзовая эпоха» внутри «металлического периода»), внутри которых материал сгруппирован по «типам курганов» и, главное, по «типам погребений». Типологическая группировка погребальных комплексов у Городцова выступила и как культурно-хронологическая: в пределах эпохи бронзы последовательно сменяли друг друга культуры «со скорченными и окрашенными костяками», представленные погребениями в ямах, затем погребениями в катакомбах и, наконец, погребениями в срубах. Ямная, катакомбная и срубная культуры бронзового века со времени этой городцовской публикации стали важнейшим звеном культурной стратиграфии степной зоны Восточной Ев-
(353/354)
ропы. Верхние её звенья в публикации В.А. Городцова были представлены новыми материалами, полученными для характеристики «древностей VIII-XIII вв.» (в том числе комплексами салтовской культуры) и «памятниками русской исторической эпохи». По мысли В.А. Городцова, подобно «Русской доисторической керамике» (1899 г.), это археологическое исследование своей культурно-типологической классификацией должно было охватить максимально широкий хронологический диапазон.
Большое значение в методическом отношении имела и публикация документальной стороны полевых работ на Донце: приводимый текст дневников и описания сопровождался подробными чертежами, сводными таблицами, диаграммами. Труд В.А. Городцова становился образцом методически-строгого подхода, равномерно охватывавшего все уровни археологического исследования (от полевых разведок и раскопок с фиксацией и систематизацией материала до культурно-хронологического обобщения в широком временном и географическом диапазоне).
Точной строгостью предлагавшихся методов городцовский подход перекликался с зарождавшимся в российской археологии «палеоэтнологическим течением», которое на материалах древнейших горизонтов первобытности в эти годы ещё не получило заметного развития. Обобщения накопленного опыта в изучении палеолита приходилось делать далеко за пределами крупнейших научных центров. Так, в 1895 г. Г.О. Оссовский опубликовал работу «О геологическом и палеоэтнологическом характере пещер юго-западной окраины Европейской России и смежных с нею местностей Галиции» далеко в Сибири, в Томске. Вскоре в Сибири были открыты два новых палеолитических памятника — стоянки Томская (1896) и на Верхоленской горе (1897). Однако дальнейшее развитие палеолитической проблематики пошло преимущественно под знаком противоборства «палеоэтнологического» и «дедуктивно-классификационного» подходов: «в противовес антрополого-этнологическим исканиям палеоэтнологов, школа Городцова очень рано у нас пошла по пути изучения орудий труда первобытного человека в связи с их функциональным назначением, дав археологическую классификацию, основанную на изменении технических приёмов изготовления орудий труда, вытекавшем из развития производственных отношений в первобытном обществе, из роста материальной культуры». [18] Эта характеристика, данная уже в советское время (с учётом послереволюционного развития), несколько усиливает историко-материалистическую направленность городцовских построений. В начале столетия «дедуктивно-классификационная» схема прежде всего преследовала цели максимально строгого упорядочения материала, обоснования формально безупречной и функционально мотивированной
(354/355)
его классификации. Городцов вполне самостоятельно стремился преодолеть именно «нестрогость» построений эволюционистов, претендовавших на универсальную значимость хронологической системы палеолита, выработанной на материалах Франции. Русская наука к тому времени уже составила собственное представление об этой системе. В 1902 г. Н.И. Веселовский под названием «Первобытный человек» опубликовал свой курс лекций, прочитанный им в Петербургском археологическом институте, где в первой главе изложил общие понятия о «доисторической археологии», основанные на работах Мортилье. В следующем, 1903 г., вышел в свет русский перевод книги Г. Мортилье «Доисторическая жизнь».
Всё более уверенно осваивая мировую археологическую проблематику и теоретические достижения вместе с нерешенными с позиций эволюционистской парадигмы проблемами, российская археология завоевывала устойчивое международное признание. В 1905 г. на Международном археологическом конгрессе в Афинах были объёмно представлены наиболее существенные достижения учёных России. Но именно в это время русская археология, как и в целом вся страна, переживала глубочайшие общественно-политические потрясения: разразилась буря первой русской революции 1905-1907 гг.
Люди, занимавшиеся археологией в России рубежа XIX-XX вв., составляли часть российской интеллигенции, представленной в ту пору многими десятками блистательных имён во всех практически сферах искусства, культуры, науки, но притом разнородной и относительно немногочисленной. В России на исходе XIX в. насчитывалось 170 тыс. учителей, 17 тыс. врачей, 18 тыс. артистов и художников, 3 тыс. профессиональных литераторов и учёных. Внушительным дополнением к этой армии людей, чьё общественное положение определялось занятиями «умственным трудом», были 250 тыс. священнослужителей. Священники и иерархи русской православной церкви занимали заметное место и в деятельности Археологических съездов, где обязательным было отделение «Древности церковные», а церковно-археологические публикации от съезда к съезду занимали все более и более внушительный объём в очередных «Трудах АС».
Поэтому неудивительно, что в событиях первой русской революции 1905-1907 гг. руководители организационной структуры российской археологии видели катастрофический взрыв, угрожавший их собственному существованию и требовавший решительного противостояния с последовательных, православно-монархических позиций. Процесс научного развития, развернувшийся в первые годы XX в., практически был парализован.
XIII Археологический съезд 1905 г. в Екатеринославе, с большими усилиями проведённый 15-27 августа, во многом носил характер проправительственной политической демонстра-
(355/356)
ции. Российская археология того времени состояла под «высочайшим покровительством» вел.кн. Сергея Александровича — генерал-губернатора Москвы, который был убит 4 февраля 1905 г. эсеровским боевиком Иваном Каляевым, Съезд был задуман и проведён как дань памяти одного из представителей «царствующей фамилии» и свидетельство незыблемости политических и культурных устоев царской России.
Это не означало, разумеется, резкой перестройки археологической проблематики, да и не требовало её. Обсуждение вопросов изучения трипольской, ямной, катакомбной, салтовской культур, проходившее на съезде, подчёркнуто отстраняющемся от общественных проблем и революционных лозунгов, само по себе было последовательной политической акцией.
XIV Археологический съезд 1908 г. в Чернигове сохранил почти неизменной тематику XIII АС. Революционная буря закончилась, и археологи «обеих столиц», Москвы и Петербурга, едва ли не впервые за минувшее десятилетие совместно обратились к анализу нового положения, складывавшегося в изучении «южнорусских древностей»: Триполье, памятники степной бронзы, салтовские могильники, сенсационные открытия в древнерусском великокняжеском Киеве требовали и осмысления, и дальнейшего развёртывания новых работ. Но достигнутое, казалось бы, примирение и взаимодействие московского и петербургского научных центров было поверхностным и происходило под воздействием откровенно реакционных сил. Даже попытки обеспечить более высокий уровень раскопок обретали характер грубого «силового давления» со стороны АК под председательством графа А.А. Бобринского, будь то по отношению к раскопкам В.В. Хвойки в Киеве или В.А. Бабенко — в Салтове. XIV АС произвёл в целом тягостное впечатление на общественное сознание. Не случайно, как отмечал А.А. Формозов, цитируя украинского писателя M.М. Коцюбинского, одного из участников XIV АС, что тот «с глубокой антипатией говорил о Черниговском археологическом съезде как о чём-то глубоко реакционном и бесконечно далёком от народных нужд». [19]
Разумеется, в среде русских историков, как и деятелей культуры в целом, события и результаты революции 1905-1907 гг. вызвали широкий диапазон оценок и отношений. Крупнейший представитель российской либеральной историографии Василий Осипович Ключевский (1841-1911) накануне революции начал публикацию своего «Курса русской истории», а в разгаре революционных событий опубликовал сжатое его изложение, [20] завершающееся оптимистичными и сочувственными оценками первых достижений буржуазно-демократической революции. В 1907 г. обзорные «Лекции по русской истории» издал другой крупный историк, Сергей Фёдорович Платонов (1860-1933), в советское время возглавлявший Археографическую комис-
(356/357)
сию (1918-1929), академик Российской Академии наук (с 1920 г.). В 1905 г. вступил в ряды большевиков первый в России профессиональный историк, занявшийся формированием марксистских представлений о развитии отечественной истории, Михаил Николаевич Покровский (1868-1932). Годы с 1909 по 1917 он провёл в эмиграции, но именно в это время им была написана и издана пятитомная «Русская история с древнейших времён» (1910-1913). Как и у Ключевского, в его работе большое место в общественно-политическом развитии Древней Руси занимало движение «торгового капитала», ранние формы товарно-денежных отношений (связанных со становлением древнерусского города). Покровский стремился выявить в Древней Руси формационные черты феодализма. Это, как он писал: «Во-первых, господство крупного землевладения, во-вторых, связь с землевладением политической власти... в-третьих, те своеобразные отношения, которые существовали между этими землевладельцами-государями: наличность известной иерархии землевладельцев». [21] К разработке социологической проблематики Древней Руси обратился и Николай Александрович Рожков (1868-1927), в 1905 г. также примкнувший к большевикам, и с 1910 г. находившийся в сибирской ссылке. Уже после революции увидела свет его 12-томная «Русская история в сравнительно-историческом освещении» (1918-1926). В этих исследованиях закладывались «первые контуры синтетической основы для изучения древнейшего периода в истории России», а в контексте марксистской концепции социально-экономических формаций подчеркивалось познавательное значение таких исторических дисциплин, как «экономическая» археология и этнология. Однако реальная характеристика, особенно ранних этапов славянской и древнерусской истории, строилась практически полностью на базе письменных источников. Оценивая славяноведческую концепцию Ключевского, М.И. Артамонов позднее писал, что археология «ещё находилась на стадии первоначального накопления материалов и не могла внести реального вклада в конкретную историю русского народа. Заключения археологов, основанные на явно недостаточных, разрозненных фактах, игнорировались исторической наукой, не признававшей самостоятельного значения археологии и рассматривавшей её как вспомогательную дисциплину, способную в лучшем случае доставлять иллюстрации к явлениям, установленным по письменным источникам». [22]
Цеховая замкнутость археологов (как и представителей университетской исторической науки, с другой стороны) в эти годы способствовала лишь сосредоточению исследователей на вопросах внутреннего состояния собственной научной дисциплины. Однако именно в это время наметилось стремление к созданию обобщающих обзоров, что позволило бы историкам более широко привлекать археологические данные.
(357/358)
Так, в 1908 г. В.Е. Данилевич опубликовал в Киеве «Курс русских древностей», где большое внимание, в частности, уделялось характеристике только что открытых «полей погребений». В эти годы важный этап качественного преобразования источниковедческой базы проходил не только в археологии. В 1908 г. А.А. Шахматов опубликовал в Петербурге «Разыскания о древнейших русских летописных сводах». Акад. Б.А. Рыбаков дал следующую оценку этой работе: «Как высокая вершина возвышается среди знатоков летописного дела А.А. Шахматов. Он единолично расположил в строгой системе колоссальный разновременный материал множества списков, сопоставил их между собой и воссоздал все этапы переделок, копирования, редактирования текстов, угадывая протографы, воскрешая контуры исчезнувших летописей». [23] Именно шахматовские работы составляют современную базу летописного источниковедения для истории Древней Руси.
В сходном положении находились и другие дисциплины, составлявшие славяноведческий комплекс. В 1909 г. Любор Нидерле издал предназначенный для русского читателя обзор, свидетельствующий о необходимости большой работы по систематизации разностороннего фактического материала. [24] Координация разработок по существу давно уже междисциплинарной гуманитарной проблематики нуждалась не только в устранении накопленных десятилетиями организационных неурядиц, но и в качественном преобразовании большинства имеющихся «научных служб», и археологической — едва ли не в первую очередь. Действовала, однако, тенденция прямо противоположная. Разобщённость исследователей и центров нарастала, и если в той или иной мере её воздействие преодолевалось, то поистине титаническими усилиями немногих ведущих учёных. Это, однако, способствовало в числе прочего и закреплению индивидуалистических настроений, порой завышенных самооценок, обострённо-самолюбивого отношения к личным достижениям в разработке той или иной проблемы. Между тем для нормализации научного процесса была необходима консолидация усилий, которые могли бы обеспечить не только систематизацию тех или иных объемов конкретного материала, но и реализовать затем познавательный потенциал таких систематичных сводок.
Мировая археологическая наука в середине 1900-х годов выходила примерно на этот же уровень новых систематичных обобщений конкретного материала. Блистательным образцом такого обобщения, стимулировавшим усилия археологов многих стран, не исключая и России, стало 4-томное издание «Руководство по археологии первобытной, кельтской и галло-римской», которое во Франции осуществил Жозеф Дешелетт (1862-1914). Первый том (1908 г.) содержал материалы каменного века, прежде всего эталонных палеолитических памят-
(358/359)
ников Франции. Труд же в целом представлял собой вполне успешную и притом богато и качественно иллюстрированную классификацию и хронологически последовательную характеристику всего массива археологических памятников Западной Европы.
Русская археология вплотную подходила к постановке подобной же задачи. Появлявшиеся в это переломное десятилетие новые обобщения на материале русской истории требовали повышения познавательного потенциала археологических данных, в первую очередь по славяно-русскому разделу. Наряду с продолжением экстенсивных исследований и параллельно упорядочению источниковой базы, возникла острая необходимость постановки принципиально новых исследовательских задач.
А.А. Спицын оставался в центре этой работы: в 1905 г. он заново рассмотрел (в ИАК, вып. 15) материалы «Владимирских курганов» из раскопок А.С. Уварова и там же опубликовал новые результаты раскопок С.И. Сергеева в Гнёздовском могильнике. На протяжении последующих лет в обстоятельных статьях А.А. Спицын постоянно освещал материалы полевых работ И.С. Абрамова, С.А. Гатцука, В.Н. Глазова, Л.Ю. Лазаревича-Шепелевича, Н.И. Репникова, А.А. Смирнова, В.А. Шукевича и других исследователей. Наряду с раскопками главным образом славяно-русских курганов, которые вели эти археологи, во второй половине 1900-х годов первыми крупными успехами отмечена «городская археология» Древней Руси: начатые В.В. Хвойкой в 1907-1908 гг. работы в Киеве с 1909 г. продолжал Б.В. Фармаковский, сам В.В. Хвойка последние пять лет своей жизни отдал раскопкам древнерусского Белгорода (1909-1914). Н.К. Рерих и Е.Р. Романов в 1910-1912 гг. провели архитектурные обмеры древнерусских памятников Изборска, Пскова, Новгорода. Наконец, важнейшим, хотя первоначально в достаточной мере и не оценённым, событием, стали проведённые в эти же годы Н.И. Репниковым раскопки Земляного городища в Старой Ладоге.
Проведя в 1909 и 1910 гг. разведочные работы, в 1911-1913 гг. Н.И. Репников вскрыл на Земляном городище Старой Ладоги в общей сложности 780 кв.м культурного слоя, мощность которого достигала 3 м. Впервые в славяно-русской археологии на широкой площади, систематично, с полным раскрытием построек, фиксацией планиграфии и стратиграфии всех видов находок был исследован культурный слой древнерусского города, великолепно сохранивший деревянную застройку VIII-X вв. и многочисленные предметы из органики. Превосходные по качеству, сохраняющие до сих пор значение первоклассного научного документа фотографии раскопок были выполнены В.М. Машечкиным и А.А. Гречкиным; чертежи, представлявшие собой первый и вполне успешный опыт работ такого рода в отечественной археологии, изготовляли С.С. Некрасов,
(359/360)
С.M. Сулин, И.Э. Свидзинский — штатные сотрудники экспедиции. Коллекции Н.И. Репникова поступили в Этнографический отдел Русского музея, полная их публикация была осуществлена Государственным музеем этнографии народов СССР уже в советское время (её подготовили, после смерти Н.И. Репникова, В.И. Равдоникас, Г.П. Гроздилов и П.Н. Третьяков).
Результатам своих разведок и раскопок Репников посвятил две статьи с отчётными данными о произведённых работах, опубликованные в «Сборнике Новгородского Общества любителей древности» (вып. 6, 1911 г., и вып. 7, 1915 г.). Культурный слой Старой Ладоги он разделил последовательно на три горизонта: древнейший — «финский», затем «норманнский» (относящийся ко времени летописного «призвания варягов» и «русский» (древнерусского времени, в основном XI-XII вв.). Это членение вошло в русскую и мировую науку. В 1914 г. в обобщающей сводке археологических данных по «варяжскому вопросу» материалы Репникова использовал шведский археолог Туре Арне, в 1930 г. много внимания уделил им в своей публикации В.И. Равдоникас, продолживший затем крупномасштабные исследования в Старой Ладоге (как показывают установленные в 1930-х годах дендродаты, именно Ладога сохранила древнейшие на севере Руси горизонты городской застройки, относящиеся к 750-м годам). По словам В.И. Равдоникаса, именно в результате работ Н.И. Репникова «открылась совершенно новая перспектива изучения культуры древнерусского города в период его возникновения и начальных стадий исторического развития». [25]
Перспектива эта оказывалась особенно актуальной в свете «теории городской жизни» и «городовых волостей», развивавшейся в те же годы В.О. Ключевским. Новое поколение археологов обратилось к углублённому поиску и изучению ранних славяно-русских памятников Новгородской земли: начатые в 1910-е годы разведки и раскопки Б.В. Александрова, П.Г. Любомирова, А.В. Тищенко и ряда других исследователей, продолжались вплоть до первой мировой войны, и во многом именно с возобновления этих работ началась деятельность археологов в первые десятилетия Советской власти.
Продолжались полевые исследования не только славянорусских, но и скифских курганов. 1910-1911 гг. отмечены раскопками Частых курганов под Воронежем (работы Воронежской учёной архивной комиссии под руководством А. Мартиновича), в 1912-1913 гг. Н.И. Веселовский осуществил раскопки царского погребения в кургане Солоха. Оживился интерес и к глубокой первобытности. Открытия Ульской стоянки на Кавказе (1898), затем — Боршевской под Воронежем (1905), и особенно — Мезинской на Черниговщине (1908) позволили развернуть новые исследования верхнепалеолитических
(360/361)
памятников европейской части России. С 1908 г. раскопки в Мезино вёл Ф.К. Волков, посвятивший их результатам и значению обстоятельную публикацию. [26] Под его руководством, в составе формирующейся «палеоэтнологической школы» Петербургского университета, получил археологическую подготовку крупнейший из советских специалистов по палеолиту П.П. Ефименко, первые публикации которого появились в 1912-1916 гг. [27]
В 1912 г. в составе трёхтомного энциклопедического издания «Человек в его прошлом и настоящем» вышел фундаментальный труд крупнейшего западноевропейского специалиста по археологии палеолита Гуго Обермайера «Доисторический человек», опубликованный издательством Брокгауза и Ефрона в русском переводе под редакцией Д.Н. Анучина (дополнившего текст краткой характеристикой Мезина на основе публикаций Ф.К. Волкова и П.П. Ефименко). Монументальный том был вершиной и итогом достижений археологии позднего эволюционизма. И в том же 1912 г. Густав Коссинна опубликовал свою программную работу «Немецкая доистория — выдающаяся национальная наука», ставшую воинственным манифестом новой, «этнологической парадигмы», выдвигающейся на смену парадигме эволюционистов.
Основанное на представлениях о языковом развитии словаря и грамматики, строго говоря, глотто-генетическом процессе, уравнение «культура-этнос», лежащее в основе этой парадигмы, объективно отражало значение для этого периода развития гуманистики лингвистической науки. В России предреволюционных десятилетий поиском новых направлений развития лингвистической теории, преодолевавшей ограничения и резко разрывавшей с компаративистским, сравнительным языкознанием, занимался крупный ученый, который в первые десятилетия Советской власти возглавил археологию СССР.
Николай Яковлевич Марр (1864-1934) родился в Кутаиси. Он писал в своих воспоминаниях: «Отец мой — старик-шотландец, мать — молодая грузинка из Гурии... Мать и отец не имели общего языка. Отец, кроме своего родного, английского языка, свободно изъяснялся и на французском; мать знала только грузинский». Детские годы, в окружении многоязычной кавказской детворы, вероятно, предопределили и во всяком случае способствовали очень раннему раскрытию блистательного языкового дарования Н.Я. Марра. Окончив гимназию, в 1885 г. он поступил в Петербургский университет на восточный факультет, где занимался «по трём разрядам: кавказскому, где тогда были лишь армянский и грузинский языки, арабо-персидско-турецкому и семитическому, где были языки — еврейский, арабский и сирийский». Марр стал одним из самых талантливых учеников В.В. Розена. В 1903 г. он защитил докторскую диссертацию, в 1909 г. был избран акаде-
(361/362)
миком. Главный его труд той поры — «Основные таблицы грамматики древнегрузинского языка», опубликованный в 1908 г., сопровождался статьёй «Предварительное сообщение о родстве грузинского языка с семитическими». Методы и выводы языковедческого исследования, изложенные здесь Н.Я. Марром впервые, получили дальнейшее развитие и стали называться впоследствии «яфетической теорией» в языкознании.
Задолго до 1917 г. Н.Я. Марр стал признанным и оригинальным учёным, стоявшим в центре большой исследовательской работы. «Проблем было много, сменявших одна другую, — вспоминал он спустя много лет, — изучение Кавказа, его культурной истории, языка, литературы и памятников материальной культуры. Начав с грузинского и армянского языков, круг изучаемых предметов поставленной задачи постепенно расширялся целым рядом внекавказских языков, связанных одни с грузинским, другие с армянским... Интересы историко-литературные были замещены интересами археологическими, нашедшими себе материал в раскопках в Ани, средневековом городище Армении, имеющем исключительное значение для изучения всех народов Кавказа, хотя первоначально крепость и основное население были там армянскими. Здесь же была создана лаборатория по изучению древностей Кавказа. Однако шаг за шагом вопрос о происхождении кавказских языков вырос в проблему о возникновении звуковой речи человека». Поиск всеобъемлющей языковедческой теории шёл в тесном сопряжении с поиском закономерностей развития древней культуры, осмыслением археологических данных; по существу это был собственный путь к решению все того же уравнения «культура=язык=этнос=социум». В 1933 г. Марр писал: «Яфетическая теория, обнимающая в настоящее время все языки мира, завершилась постановкой вопроса об увязке языкознания с историей материальной культуры и общественности и положением, что как все культуры Востока и Запада, так и все языки являются результатом одного и того же творческого процесса». [28] Чтобы подойти к такой констатации, необходимо было пройти долгий исследовательский путь. При безусловной масштабности построений и напряжённости научной работы, несмотря на высокое звание и авторитет, в дореволюционные годы он оставался учёным-одиночкой не только среди археологов, но и языковедов, в основном работавших в русле традиционного сравнительного индоевропейского языкознания. Ни лингвистика, ни археология не были ещё готовы к планомерной работе по решению тех задач, к постановке которых приближался в своих исследованиях в 1900-х годах Н.Я. Марр.
Требовала решения и была решена в эти же годы другая задача — создание собственно «археологической версии» культурно-исторического процесса, развёрнутой картины последовательного хронологического развития первобытных, «доистори-
(362/363)
ческих» и раннеисторических культур, построенной на материалах археологических памятников России.
Именно эту задачу стремился решить В.А. Городцов публикацией своей двухтомной обзорной работы, которая представляла систематичный лекционный курс, разработанный им для открытого в 1907 г. Московского археологического института. Это первое развёрнутое обозрение археологии России, таким образом, не только подвело итоги и связало в единое целое достижения осуществлённого этапа развития отечественной археологической науки, но и непосредственно отвечало самым насущным её научно-организационным потребностям, обеспечивая систематичное преподавание археологических знаний. Это принципиально важное качество работа В.А. Городцова сохраняла в течение нескольких десятилетий, став вполне надёжной основой для подготовки первых поколений советских археологов.
«Первобытная археология» (М., 1908) и «Бытовая археология» (М., 1910) В.А. Городцова — издания, ставшие центральным событием «спицынско-городцовского периода» развития отечественной археологии. Последовательно и компактно эти труды объединили в себе теоретические аспекты (излагающие основные понятия и принципы дисциплины в сжатом очерке истории археологии), учебно-справочные (излагающие последовательно характеристики археологических культур от палеолита до средневековья), собственно историко-археологические концепции (рассматривающие развитие культур на территории России как конкретно-исторический процесс, проходящий определённые ступени и стадии и обусловливающий внутреннюю структуру, внешние связи, основные направления развития в последующие, «исторические эпохи».
Деление на «первобытную» и «бытовую» (позднее — «историческую») археологию у Городцова основано на сравнительно- источниковедческом, информационном значении её источников: к первобытной археологии относились древнейшие памятники, возникшие до появления первых письменных свидетельств или устных преданий об исторических событиях» в «историческую эпоху» археология дополняет письменные и фольклорные свидетельства характеристиками преимущественно «бытовой» стороны древней жизни, раскрывая тем самым материальную основу исторических событий. Соответственно этому делению определялось и место археологии в общей классификации наук — между антропологией (как наукой «о человеке вообще») и этнологией (которая для Городцова была прежде всего наукой о живых, этнографических культурах, развиваемых существующими народами и обществами).
Первобытная археология непосредственно примыкала к комплексу естественно-исторических дисциплин, являясь их прямым продолжением, и развивалась под действием прежде всего
(363/364)
общеэволюционных закономерностей; обзор древнейших этапов развития человечества Городцов предварял вводным очерком о зарождении жизни на земле, развитии её высших форм и происхождении человека. [29] С геологическими, палеоонтологическими и антропологическими процессами соотнесена была собственно археологическая периодизация («хронологическая классификация»), и здесь он стремился снять ограничения эволюционистских схем членения палеолита, предлагая универсальную хронологическую систему, построенную на принципах дедуктивно-классификационного подхода.
«Эра» кайнозойская (по геологической периодизации), или «индустриальная» (как обобщенно обозначено появление антропогенного фактора в естественной истории Земли), разделена на два «периода»: каменный и металлический. Каждый период — на «эпохи»: эолитическую, палеолитическую, неолитическую, бронзовую и железную. Для более дробного членения «эпох» Городцов ввёл понятия «пора» (в большинстве случаев он различает «раннюю пору» и «позднюю пору»), и всегда при этом деление основано на принципиальных технологических изменениях в изготовлении орудий: пора сомнительных орудий (эолитическая эпоха), пора тёсаных орудий и пора сколотых орудий (ранняя и поздняя для палеолитической эпохи), пора полированных и пора сверлёных орудий (ранняя и поздняя для неолита), медных и бронзовых (для бронзовой эпохи), пора железных орудий (железная эпоха металлического периода).
В основе периодизации — «общие законы», формулируя которые, Городцов пытался определить генеральные культурно-исторические закономерности: применение их позволяло исследовать механизмы распространения культурных явлений, обобщавшиеся в эти десятилетия создателями диффузионной и миграционной теорий в археологии и этнографии. Уровень исторической интерпретации, который обеспечивался этим теоретическим аппаратом, конечно, не исчерпывал всего содержания исторического процесса, но по сравнению с интерпретационными возможностями эволюционизма он был качественно новым достижением и для археологии, и для этнографии (точнее же — в целом для «этнологической науки», как обобщённо называли на рубеже XIX-XX вв. весь комплекс родственных дисциплин, связанных единством формирующейся «этнологической парадигмы»).
Хронологически упорядоченное членение памятников «каменного периода» на территории России, в увязке с естественнонаучными данными и соотнесённости с эволюционистской периодизацией палеолита Западной Европы, было необходимым и вполне приемлемым решением задачи первичной систематизации накопленного материала. Характеристика культурно-исторического процесса «первобытной археологии» носила в основном
(364/365)
внешний, описательный характер (подобно крупнейшим обобщениям того времени в мировой археологии). Внутренние закономерности развития палеолитических и неолитических культур, социокультурные механизмы этого развития не были и ещё не могли быть раскрыты. Эта задача выдвигалась в ходе дальнейшего развития археологических знаний.
«Бытовая археология» В.А. Городцова связала общие естественнонаучные построения эволюционистов с появившимися в мировой науке культурно-экологическими представлениями. Он сочувственно и подробно излагал основы «географической теории» Л.И. Мечникова, рассматривая с её позиций материалы древнейших цивилизаций «металлического периода»: «сумеро-аккадской» (в сравнительно-исторической оценке её достижений явно склоняясь к зарождающемуся в древневосточной археологии «шумероцентризму» диффузионистов), египетской, эгейской. В широком мировом контексте он затем рассмотрел и материалы первой крупной культуры «металлического периода» — трипольской. Определяя время и связи этой культуры, верно наметив общую направленность формирования раннеземледельческих общностей, возникавших в широком культурно-историческом поясе от Передней и Средней Азии до Подунавья, Городцов при этом подчёркивал отсутствие связей между трипольской культурой и более поздними скифскими, поскольку прямолинейная схема автохтонного развития, намечавшаяся В.В. Хвойкой, противоречила реальностям древнего культурно-исторического процесса.
Для его реконструкции большое значение имела намеченная Городцовым схема распространения «культурных влияний» в степной зоне Восточной Европы: «Древнейшее из них шло из Месопотамии и отчасти Малой Азии через Кавказ, откуда широким веером распространялось по степи и проникало далеко в глубь леса. Вторым течением явилось среднеазиатское, покрывшее восточную часть леса до р. Камы и всю степь новым наслоением памятников. Наконец, третьим течением последовало сибирское, давшее в пересечении со среднеазиатским течением в области Камы нечто вроде культурного очага, развитие которого, однако, следует отнести уже к железной эпохе». Енисейский культурный центр в Сибири, майкопская культура Северного Кавказа, катакомбная, связи которой были прослежены в широком средиземноморском ареале (от Кипра до Португалии) — впервые все эти общности были сгруппированы в культурно-хронологическую систему, включённую в историческое развитие всей совокупности древних цивилизаций и культур медно-бронзового века Старого Света. То же следует сказать и о фатьяновской культуре в лесной зоне: южные её связи (отмечавшиеся и А.А. Спицыным) учитывались В.А. Городцовым, но при этом он подчёркивал её родство с аналогичными культурами Западной Европы. Кобанская
(365/366)
культура Кавказа, по Городцову, выделяется как одна из наиболее передовых общностей времени, переходного от бронзового к железному веку, поскольку в это время Кавказ опережал западноевропейскую гальштаттскую культуру, и «лишь в латенское время культурная база была передвинута на запад, и главными очагами её явились Греция и Рим, быстро овладевшие инициативой мировой культуры». Закавказье, где уже были открыты и исследовались города царства Урарту, выступало в его схеме важным связующим звеном между цивилизацией Месопотамии, культурами Северного Кавказа, гальштаттом Западной Европы.
Скифские древности Городцов охарактеризовал не только по хрестоматийным курганным погребениям, но включил в этот раздел и подробное описание грандиозного Вельского городища, а также «зольников» (эти своеобразные сооружения, входившие в состав скифских поселенческих комплексов, ещё только начинали привлекать к себе внимание исследователей и требовали дальнейшего изучения). С появлением в Причерноморье продвинувшихся с востока сарматов положение в степной зоне постепенно менялось, и началось встречное движение среднеевропейских культур «полей погребальных урн», завершившееся формированием Готской державы, в конце IV в. н.э. разгромленной гуннами. Отмечая в целом принадлежность «полей погребений» народу «славяно-германской семьи», Городцов при этом подчёркивал, что «преемственной связи позднейших славянских памятников в России с описываемыми ещё не установлено, и разница между ними представляется значительной». И в этом случае прямолинейная этногенетическая схема Хвойки, включавшая «поля погребений», как и трипольскую, в число славянских культур, не исчерпывала всей сложности реальных этнокультурных процессов.
Ключевым этапом этих процессов, начинавшимся в южнорусских степях и определившим формирование этнокультурной ситуации в масштабах всей Европы, было Великое переселение народов, развернувшееся после гуннского вторжения в 375 г. Археологическим индикатором этой эпохи стали инкрустационные вещи «готского стиля». Городцов пользовался этим принятым определением, подчёркивая его условность и неточность, так как начальные истоки инкрустационного декора он видел в Древней Греции, а затем в Средней Азии: «Ко времени появления готов на берегах Чёрного моря восточный азиатский стиль вместе с кочевниками начал проникать в ту же область, где подвергся вновь влиянию античного искусства, что особенно хорошо выразилось в вещах Новочеркасского клада. Готы, проникнув в Причерноморье, быстро усвоили себе новый стиль, корни которого процветали, по словам Э.Р. фон Штерна, в Эфесе, в городах Вифинии и под их влиянием и в греческих колониях на северном побережье Чёрного моря. Усваивая
(366/367)
этот стиль, готы сами наложили на него особую печать искусства и в этом виде распространили по всему длинному пути своих передвижений, что и даёт некоторое (условное) право называть стиль их именем». Формы вещей эпохи Великого переселения — пальчатые и двупластинчатые фибулы, поясные пряжки, браслеты — распространились до Скандинавии, но истоки их в некоторых случаях прослеживаются далеко на Восток, вплоть до Месопотамии; их распространение в V-VII вв. охватило огромную территорию, вплоть до Волго-Окского междуречья, отразив сложное переплетение разнообразных межплеменных отношений, и «принадлежали ли эти вещи готам, заходившим на Оку, или они попали сюда случайно, благодаря, например, торговле, военной добыче и т.п., сказать затруднительно. Во всяком случае они несут все характерные черты готского стиля». Яркие и эффектные древности, составившие основу германского искусства «звериной орнаментики» (базовая сводка по ней была опубликована шведским археологом Бернгардом Салином незадолго до этого, в 1904 г.), обоснованно рассматривались Городцовым как продукт длительных и сложных взаимодействий «варварских» культур Северного Причерноморья с античным и древневосточным миром. Изучение ранних этапов этого взаимодействия становилось предметом углублённых исследований Б.В. Фармаковского и М.И. Ростовцева, и прежде всего потому, что именно здесь лежали ключи к оценке подлинной роли «Скифии» античной древности и раннего средневековья во всемирно-историческом процессе культурного развития.
Великое переселение народов в построении В.А. Городцова выступало как экспозиция славянской истории. Ранние её этапы он рассматривал обобщённо и суммарно, не скрывая гипотетичности и неразработанности многих проблем славянского этногенеза (однозначно не решённых и в наши дни). Правильно были намечены и конкретные археологические задачи, необходимость систематического изучения поселений: «Как ни странно, — писал он, — но до сих пор славяно-русские городища ещё не получили специального археологического исследования. Все археологи одинаково приписывают этим памятникам выдающееся научное значение, но никто не посвящает своего труда для их раскопок». Между тем именно поселения, и прежде всего городские центры развития местного производства и дальней торговли, определяли «основной тон и единство форм, замечаемые со времени славяно-русской гегемонии в культуре всех народов, населявших в то время обширную русскую равнину, независимо от её лесного или степного покрова». Начинавшиеся в эти же годы раскопки первых древнерусских городских центров в Киеве и в Старой Ладоге фактически открывали новый этап развития славяно-русской археологии; его задачи, как и важнейшие результаты предшествующего, племен-
(367/368)
ные характеристики погребального обряда полян, волынян, древлян, дреговичей, северян, радимичей, вятичей, кривичей, словен В.А. Городцов обобщил в своей книге в 1910 г. вполне своевременно и точно.
Значительные разделы «Бытовой археологии» посвящены культурам неславянских народов: салтово-маяцким памятникам, курганам печенегов, торков и половцев в степной зоне, финно-угорским древностям Средней и Северной России (последняя свита культур, от неолита до средневековья, оставалась в центре непосредственных исследовательских интересов В.А. Городцова). Во многом благодаря его открытиям и раскопкам, выявлялась важная роль «волжско-камского очага» финских культур, со времён ананьинской установивших стабильные связи по Волге со степными и более южными культурами. Материализованные в сокровищах серебряной торевтики, монетных кладов, массивных украшений, они, по Городцову, отразились в преданиях о богатствах легендарной Биармии, воспетой «в скандинавских сагах, в основу которых, по-видимому, легли рассказы о реальных богатствах капищ именно волжско-камской области». Дьяковская культура «сетчатой керамики», положившая «прочное начало среднерусскому культурному очагу», окские могильники, отличавшиеся «чистотою и устойчивостью типов местных изделий», прибалтийские древности, позволявшие связать археологические характеристики, общие для всей системы финно-угорских культур, с этнографией и фольклором Эстонии и Финляндии, завершали культурно-историческую картину Восточной Европы, создавая вполне целостную в базовых своих основаниях и принципиально уже не пересматриваемую систему древностей. Без особого преувеличения можно констатировать, что именно с появлением 2-томного труда В.А. Городцова (суммарный объём его курса лекций приближался к 1 тыс. стр. текста) археология России приобретала полноценные «права гражданства» в мировой археологической науке. Русские археологи могли вести дальнейшую работу, определяя её задачи и перспективы в сравнительном соотношении фундаментальных зарубежных сводок и обобщений, и систематической характеристики культур, материалов, проблематики отечественной археологии. Продолжавшиеся под руководством А.А. Спицына концентрация и упорядочение материалов, с 1910 г. приобретали новый смысл: эти материалы занимали строго определённое место в системе культур, описанной В.А. Городцовым. [30]
Задача освоения «археологического богатства» России, уникального исторического комплекса, сформированного «крупными культурными центрами древнего человечества», поставленная Н.И. Веселовским в 1900 г., в значительной мере была решена в течение десятилетия усилиями лучших представителей нового поколения учёных. К 1909 г., времени проведения
(368/369)
Международного археологического конгресса в Каире, русская наука приступала уже к практической разработке нового эшелона исследовательских и организационных задач.
В совершенствовании организационной структуры российской археологии наибольшее значение имело открытие в 1907 г. Московского археологического института, с филиалами в Смоленске, Нижнем Новгороде, Калуге, Воронеже, Оренбурге. В Петербурге одновременно начало свою деятельность Русское военно-историческое общество, в котором Н.И. Веселовский возглавил «разряд археологии и археографии». В 1910 г. было основано Общество защиты и сохранения в России памятников искусства и старины, инициаторами его создания выступили Н.К. Рерих, И.Э. Грабарь, А.Н. Бенуа, П.П. Вейнер и ряд других деятелей русской культуры и искусства. Был подготовлен законопроект об охране памятников, согласно которому на территории страны предполагалось организовать 10 «археологических округов» во главе с инспекторами. Эти меры по развитию и упорядочению «археологической службы» России остались, однако, не осуществлёнными.
В 1911 г. в Новгороде состоялся XV Археологический съезд. В его подготовке и проведении приняли участие такие видные учёные, как Д.Н. Анучин, Д.Я. Самоквасов, В.А. Городцов, А.С. Лаппо-Данилевский, археологи из Финляндии и Швеции (Ю. Айлио, О. Альмгрен, Т. Арне). Тематика съезда охватывала широкий круг вопросов (от археологии каменного века до палеографии и диалектологии), хотя размах и характер собственно археологических исследований на Северо-Западе России были отражены в материалах съезда далеко не в полной мере (так, практически не освещались работы, организованные Петербургской археологической комиссией).
Предвоенные годы стали временем развёртывания новых полевых исследований. В работу включались археологи нового поколения, среди которых были будущие крупные советские исследователи, такие, как Александр Александрович Миллер (1875-1935), в 1908-1911 гг. на высоком методическом уровне осуществивший раскопки Елисаветовского некрополя скифского времени в Воронежской губернии. Скифо-сарматская археология выдвигалась на методические рубежи, вполне соответствовавшие уровню, на котором продолжал свои исследования Б.В. Фармаковский (1909-1915 гг. — время планомерных раскопок Нижнего города Ольвии). В соединении с углублёнными вещеведческими исследованиями, новые материалы стали основой фундаментального обобщения «Архаический период в России», представленного Фармаковским на Международном археологическом конгрессе 1913 г. в Лондоне. Скифо-эллинские культурно-исторические связи прочно вошли в сферу интересов мировой археологии: в том же 1913 г. им посвятил обстоятельное исследование английский учёный Э. Миннз. Первый
(369/370)
крупный очерк в качестве доклада на тему «Иранизм и ионизм в Южной России» на том же лондонском конгрессе представил М.И. Ростовцев, вскоре опубликовавший программную статью «Научное значение истории Боспорского царства», где определялись перспективные задачи нового этапа развития археологии Северного Причерноморья.
Скифской проблематикой углублённо занимался А.А. Спицын: в 1911 г. вышла в свет его работа «Скифы и гальштатт», а через несколько лет (в ИАК 65) следующая — «Курганы скифов-пахарей». М.И. Ростовцев отмечал выдающееся источниковедческое значение составленных А.А. Спицыным археологических карт, обеспечивших полный и подробный учёт материала, особенно важного для проблематики лесостепной Скифии. К этому же времени относятся раскопки сарматских памятников Оренбургской области, получивших позднее название «прохоровской культуры». Осуществлённые по рекомендации М.И. Ростовцева молодым в те годы археологом Сергеем Ивановичем Руденко (1885-1969), в дальнейшем — прославленным исследователем алтайских курганов, они открывали этап развития скифо-сарматской археологии, планомерное развёртывание которого стало одной из важнейших и успешно решённых задач советской археологии. [31] Источниковедческая база причерноморской археологии обогатилась и новыми публикациями памятников: от материалов «Литого кургана», раскопанного ещё в XVIII столетии, до найденного в 1912 г. «Перещепинского клада», одного из принципиально важных погребальных комплексов эпохи Великого переселения народов. [32]
Заслужившие международное признание, успехи скифо-сарматской археологии последних предреволюционных лет были тесно связаны не только с достижениями классической археологии, но и с принципиально важными результатами русских ориенталистов. 1913-1914 годы — время публикации «Истории Древнего Востока» Б.А. Тураева, фундаментального и оригинального исследования, посвящённого древнейшим цивилизациям. Их изучение продолжалось даже во время первой мировой войны: в 1914-1916 гг. в Закавказье развернула работы Ванская экспедиция под руководством Н.Я. Марра и И.А. Орбели, занимавшаяся исследованием памятников Урарту.
Славяно-русская проблематика в предвоенные годы также вовлекалась в сферу широких международных интересов, которые были сосредоточены преимущественно на изучении «варяжского вопроса». Публикация материалов, новые раскопки таких памятников, как Гнёздово, приладожские, ярославские и владимирские курганы, исследования Земляного городища Старой Ладоги, создали объективные условия для обсуждения «норманнской проблемы» на археологическом материале. Тесно связанный с русскими учёными, неоднократно участвовавший
(370/371)
в раскопках и проводивший самостоятельные полевые исследования в России шведский археолог Туре Арне (1875-1969) подготовил и опубликовал в 1914 г. (на французском языке) большую сводную работу «Швеция и Восток. Археологические исследования отношений Швеции с Востоком в эпоху викингов», где весь этот материал был исчерпывающим образом систематизирован. Представленная сводка археологических данных существенно дополняла подобную же сводку письменных материалов по «варяжской проблеме», осуществленную в 1870-1890-х годах датским историком В. Томсеном. В работе Арне более отчётливо выступали основные области и центры славяно-скандинавских контактов, пути международных торговых связей, их хронологическое соотношение. С этого времени «варяжский вопрос» становится по преимуществу вопросом археологическим. Своеобразным откликом на работу Арне стала опубликованная в 1930 г. в Стокгольме (на немецком языке) монография В.И. Равдоникаса «Норманны эпохи викингов и Ладожская область», а дальнейшая разработка проблемы, в своём развитии прошедшей несколько сложных и острых этапов, завершилась к середине 1980-х годов принципиально новыми обобщениями, позволившими на историко-археологическом материале раскрыть культурно-историческую специфику полиэтничного «Балтийского Средиземноморья», формированием которого (по Л.И. Мечникову) завершался один из важных периодов исторического развития человечества.
В области первобытной археологии 1910-е годы также были отмечены новыми обобщениями: в статье А.А. Спицына «Русский палеолит» (1915)
материалы России были соотнесены с системой Мортилье и намечались ближайшие задачи её уточнения и модификации для условий Восточной Европы. В.А. Городцов в тот же год опубликовал «Курганы бронзовой эпохи в Средней России» (с развернутой стратиграфической колонкой степных культур). Если к середине 1910-х годов вклад археологов России в развитие мировой науки уже определился как весьма существенный в таких сложившихся разделах, как классическая и скифо-сарматская, восточная и славянорусская археология, то развитие первобытной археологии во многом зависело от успешного решения методологических проблем, на которых в эти переломные десятилетия сосредоточивались усилия не только отечественной, но и зарубежной науки.
3. Синхронизация развития русской и зарубежной науки. ^
Рубеж XIX-XX вв. и в российской, и в мировой археологии был временем вполне закономерного методологического кризиса и разносторонних поисков новых подходов к предмету.
(371/372)
Русская наука подошла к этому рубежу своим путём, минуя важный этап развития эволюционистской парадигмы и лишь осваивая, вместе с грузом уже накопленных методических проблем, наиболее существенные её достижения. Некоторые важные задачи, решённые западноевропейской археологией, прежде всего — создание развернутых и подробных типохронологических систем (Мортилье, Монтелиуса, Рейнеке) на российском материале, — ещё не только не были решены, но фактически даже не ставились. Постановка же такого рода задач, когда она происходила (как к 1915 г. — в изучении палеолита), сопровождалась прежде всего осознанием ограниченности имеющихся эволюционистских систем и методов их построения.
Задача синтеза — главная задача реализации историко-познавательной функции археологии, объединяющей свои результаты с результатами лингвистики, антропологии, истории, перед археологами России и других стран вставала на качественно новом уровне. С началом XX столетия человечество вступало в эпоху смены социально-экономических формаций и, следовательно, глубокого идейно-политического, философски-мировоззренческого размежевания, поляризации взглядов на содержание и сущность исторического процесса. Общие концепции гуманистики стремились максимально полно охватить разносторонность культурно-исторического развития, всё более стремясь к глобальному масштабу обобщений, способных выразить и единство, и внутреннюю противоречивость исторического процесса, что необходимо было адекватно отразить и в понятийном аппарате гуманитарных наук.
Дифференциация подходов и в российской, и в зарубежной науке отражала в конечном счёте стремление археологов к освоению многообразных аспектов предмета археологии. Каждая из парадигм давала несомненные достижения в этом движении; однако точная оценка дальнейшей перспективы, продвижение вперёд совершалось в условиях резко обострявшихся противоречий.
Кризис типологии был наиболее заметным проявлением этих противоречий в развитии археологической науки. Поиски путей его преодоления средствами дедуктивно-классификационного подхода (общего для Н. Оберга и В.А. Городцова) отчасти позволяли решить проблему на уровне первичных классификаций и культурно-стратиграфической организации материала. Но попытки сформулировать «общие законы» (основанные на механистическом переносе биологических принципов применительно к культуре) результатов не давали. «Саморазвитие вещей», о котором много и резко писали оппоненты этого течения, никогда не осознавалось его сторонниками как действительное явление, но объяснить источники культурно-исторических изменений на основе одних только типологических рядов было невозможно. Типы требовалось соединить
(372/373)
в комплексы, а комбинации комплексов и типов не описывались применявшимся в типологии языком дедуктивных классификаций.
Стратиграфия комплексов или «комплексно-хронологическая версия» понятия «археологическая культура», разработанная первоначально С. Мюллером для повышения надежности типо-хронологических систем, могла нарушить стройность типологических рядов, но зато отражала реальную последовательность смены комплексов и культур (на западном материале это установил П. Райнеке, а для культур степной бронзы этот подход реализовал В.А. Городцов). Культурная стратиграфия, последовательная колонка культур, «колонная секвенция» уже в принципе была своего рода археологическим описанием исторического процесса (для определённой, ограниченной территории). Но требовалось, во-первых, перевести это описание «на язык истории», а во-вторых, связать его с процессами, происходившими на других обширных территориях.
Построить «колонную секвенцию», или культурно-хронологическую, стратиграфическую классификацию, умели уже эволюционисты, и они же предложили её первые объяснения. По мере расширения содержательного объема понятия «археологическая культура» и выделения этнического аспекта, эволюционистское объяснение колонных секвенций развивалось в концепцию автохтонного, непрерывного для одной территории, этнического развития. Так интерпретировал свою колонку культур В.В. Хвойка: его автохтонная концепция славянского этногенеза по существу была соединением эволюционистской и этнологической парадигм. Также последовательную смену культур — от скифских к древнерусским курганам — рассматривал как последовательное отражение развития славянства Д.Я. Самоквасов. Со ссылками на «автохтонизм великих эволюционистов» Мортилье и Монтелиуса, которые «смело мыслили об эволюционном процессе как о мощном движении, синтетически связывающем все древности данной области в единую общую схему», где «отдельные моменты этого процесса мыслились ими как стадии, как ступени или эпохи в развитии единой местной культуры», сочувственно излагали «этноавтохтонную концепцию развития» молодые советские археологи-стадиалисты. Однако, имея множество «колонных секвенций», рано или поздно необходимо было связать их между собой, выявить генетически связанные культуры, которые могли оказаться в разных стратиграфических колонках, т.е. объединить культуры в «генетическую секвенцию». Получить надёжное решение такой задачи можно лишь на основе картографического метода.
Процесс формирования «территориальной версии» понятия «археологическая культура», основанный на достижениях картографии и базовый для этнологической парадигмы, в России и на Западе шёл практически одновременно. Мощным стиму-
(373/374)
лом развития «территориальной версии» были открытия новых культур, осуществленные Хвойкой, Городцовым да и многими другими русскими исследователями одновременно с открытием западными археологами культур и «цивилизаций», резко изменивших традиционную для классической археологии «греко-римско-центрическую» картину древнего мира. Вместе с картографическим методом утверждалась этнологическая парадигма археологии, с новыми «культурами» во всемирную историю входили забытые или неизвестные ранее народы, «этносы». Картографический метод, простой по исполнению и эффективный по результатам, группировавший типы, комплексы и памятники в «культуры», хорошо соответствовал возможностям индуктивно-аналитического подхода. Отождествление понятий «культура» и «этнос» раскрывало для археологии выход собственно в историю: от древностей — к народам. Российская наука пришла к этнологической парадигме практически одновременно с западно-европейской: методические принципы Г. Коссинны (с первого по пятый) были безусловно справедливыми и приемлемыми и для А.А. Спицына. И взаимосвязи культур (проблемы их распространения и формирования) решались сходным образом. К интерпретации археологических карт и вопросу о появлении на них той или иной культуры Спицын подходил обычно с миграционистских позиций. Также в виде последовательных волн нового населения рассматривал смену культур степной бронзы и В.А. Городцов.
Правда, и здесь далеко не всегда удавалось логично построить «генетическую секвенцию», проследить трассу культурно-генетических связей от исходного очага к ареалу позднего расселения, поскольку корни многих культур обычно расходятся в разные стороны и их можно проследить по отдельным элементам, но не по всему комплексу признаков от культуры — к культуре. В таких случаях миграционное решение могло быть дополнено диффузионным, распространение одних элементов объяснялось переселениями, а других — влияниями культур и народов друг на друга, обычно — более развитых на сравнительно отсталые (могло быть, впрочем, и наоборот; так, боспорские греки усвоили многое у «варварских» культур Северного Причерноморья). Культурным влияниям, особенно для ранних этапов истории, большое значение придавал В.А. Городцов, но наиболее стройным аппаратом их изучения были оснащены работы Н.П. Кондакова и других археологов-классиков и византинистов «художественно-исторического» направления.
В сфере первобытной археологии критерии и методы этого подхода находили ещё очень ограниченное, робкое применение как в России, так и на Западе (где К. Шуххардт разрабатывал «стилистическую версию» определения первобытных культур). «Палеоэтнологический подход» в изучении глубокой древ-
(374/375)
ности преимущественно опирался на этнографию и лингвистику (отчасти совмещавшихся в понятии «этнология»), и в лингвистической части этих разработок учёные России выдвинули ряд перспективных идей. Синтез археологических данных с результатами других дисциплин требовал прежде всего равноценных, по объёму и качеству систематизации материала, междисциплинарных сводок. Для германистики такими стали работы К. Мюлленгофа и О. Шрадера, для славистики — многотомные «Славянские древности» Л. Нидерле. В России письменные и археологические, эпиграфические и нумизматические, языковые и отчасти этнографические источники к концу XIX в. были систематизированы на уровне, не уступавшем западноевропейскому, прежде всего в классической археологии Северного Причерноморья (следовательно, и скифо-сарматской), в тематически смыкавшемся с нею византиноведении и в немалой мере родственном обеим этим областях кавказоведении («Scythica et Caucasica» — один из базовых сводов). Открытие двух культурно-исторических миров — Скифии и Кавказа — принадлежало российским учёным и вполне было сопоставимо по значению с открытием шлимановой Трои или месопотамских цивилизаций, с которыми эти миры были связаны. Археологические материалы Кавказа и Скифии в первые десятилетия XX в., наряду с русскими исследователями, изучали К. Мюлленгоф и С. Рейнак, О. Дальтон, И. Гампель, Э. Миннз, А. Ригль и многие другие западноевропейские специалисты.
Ведущие исследователи «понто-каспийского субконтинента» — В.В. Латышев, Б.В. Фармаковский, С.А. Жебелёв, М.И. Ростовцев, Н.П. Кондаков, Я.И. Смирнов, открывавшие его для мировой археологии, получили международное признание. В этой сфере археологических дисциплин определились и принципиально новые, притом несомненно перспективные направления и подходы к решению задачи междисциплинарного синтеза данных археологии и других гуманитарных наук. «Лингво-археологический» принцип исследования, опиравшийся на данные языкознания первоначально с целью атрибуции археологических культур (скифских древностей, идентифицированных как иранские в исследованиях В.Ф. Миллера), постепенно расширял область применения, формулируя задачи реконструкции не только этногенетических связей, но и форм общественных отношений, в «увязке языкознания с историей материальной культуры» (по определению Н.Я. Марра). Следует отметить, что дореволюционное кавказоведение, ставшее основным полигоном для отработки этих экспериментальных поисков, испытывало немалые трудности. Изучение Кавказа, одной из национальных окраин царской России, замедлялось нерешённостью ряда организационных, кадровых, идейно-политических проблем. Как и в других случаях, методологический и познавательный потенциал (уже накопленный в отдельных
(375/376)
отраслях научного знания) оставался в значительной мере не реализованным и не развитым далее. Между тем без глубокого освоения культурно-исторической темы «Кавказ» невозможно было и дальнейшее развитие обширного, связанного с нею комплекса гуманитарной проблематики не только для российской, но и для крупнейших зарубежных научных школ, специализированных в ориенталистике, византиноведении, древневосточной и классической археологии.
Методические принципы культурно-исторического исследования, основанные на освоении эллинистическо-византийского и восточного (включая малоазийско-кавказский и севернопричерноморский) материалов, наиболее существенное выражение получили в «иконографическом методе» Н.П. Кондакова, представлявшем собой первое открытие в конкретной сфере (византийском искусстве) понятия, в современной науке обозначаемого термином «культурный тип». Это — материальная объективация культурных стереотипов («мысленных шаблонов», mental memplates, по более позднему определению англо-американской археологии), выработанных древними человеческими группами (для Кондакова ими были заказчики и исполнители византийских икон, древнерусских украшений, скифского оружия и т.п.). Для решения задачи междисциплинарного культурно-исторического синтеза кондаковское открытие было чрезвычайно важным, так как именно применение «иконографического метода» обеспечило высокий уровень исследований и придало византиноведению в археологии статус нового, полноценного и самостоятельного раздела археологической науки (как и скифология, и кавказоведение, смыкающаяся с ними византийская археология была создана прежде всего силами российских учёных). Правда, реализованный здесь теоретико-методический опыт не удавалось последовательно перенести на другие разделы археологии (даже вполне близкой славяно-русской).
В стратегии теоретико-методических усилий дореволюционной археологии наметилось четыре основных направления, которые, развиваясь в дальнейшем, собственно характеризуют и современное соотношение исследовательских течений в поисках теоретического обоснования группировки и интерпретации археологического материала. [33]
Первое из них, художественно-историческое, ранее других выделившее ключевое понятие («культурный тип»), реализацию, выводило культурно-историческую интерпретацию этого понятия за пределы собственно археологического уровня исследования. И для Кондакова, и для К. Шуххардта «стилистический» или «иконографический подход» оставался средством первичной, формальной группировки вещественного материала. Объяснение этой группировки опиралось уже на внеархеологические характеристики: для византиноведения они основывались на обширном и богатом фонде письменной традиции визан-
(376/377)
тийской культуры, эстетических категориях античного искусствознания. Для первобытной археологии реконструкции духовной стороны культуры (документированной гораздо хуже) строились с помощью уравнения «стиль = народный дух», что в конечном счёте приводило к биологически детерминированным категориям «расовой теории». Альтернатива решениям «венской культурно-исторической школы» лишь постепенно складывалась в структуралистских исследованиях первобытных культур, осуществленных в работах французского этнографа и социолога Клода Леви-Стросса, в сравнительно-историческом изучении материалов первобытных мифологий, сосредоточенных в монументальном собрании «Золотая ветвь» Дж. Фрэзера. И даже эти существенные достижения в изучении первобытной духовной культуры, основанные на этнографическом материале, оказалось очень непросто перенести на материал археологический. В 1924 г., подводя итог изучению палеолитического искусства, Г. Осборн подчёркивал, что «степень духовного развития, возникшего в условиях жизни древнекаменного века, является одной из величайших загадок психологии и истории». Это положение практически не менялось ещё полвека. [34]
Художественно-исторический подход требовал дополнения представлениями о структуре культуры и о её взаимосвязи со структурой общественной; без этих дополнений оперирование «культурными типами» на уровне иконографического метода сохраняло эффективность лишь в сфере изучения сложившегося и достаточно документированного искусства: археология сливалась с искусствознанием, становилась его составной частью, источниковедческим дополнением. В.И. Равдоникас в 1930 г. определил эту «пережиточную установку» как «стремление подменить историю культуры эстетствующим формальным искусствоведением». [35]
Индуктивно-аналитический подход в те же 1930-е годы чаще называли «эмпирическим», связывая его с именами А.А. Спицына, А.А. Миллера и многих других исследователей дореволюционной школы. Это определение, правомерное, если иметь в виду преимущественный интерес представителей «эмпирического подхода» к конкретным, предметным исследованиям (категорий вещей, памятников, культур, регионов), создавало одностороннее впечатление о методической последовательности и планомерности их работ. В основе эмпирического подхода лежала вполне оправданная стратегия «классификации снизу», т.е. группировка археологических явлений от уровня элементов (признаков, форм) — к уровню типа, от типов — к культурам. Основная идея этой стратегии, развивающейся и в современной науке, заключается в том, что на корреляции элементов основывается характеристика типа, а на комбинации типов — культура. Выделенные по непосредственно наблюдаемым признакам, «эмпирические типы» могут иметь культурное
(377/378)
значение, но могут и не иметь его (однако из самостоятельного, как бы самопроизвольного коррелирования признаков и свойств получить «культурные типы» принципиально невозможно). Индуктивная стратегия (наблюдение — свойство — эмпирический тип — археологическая культура) реализовывалась и во второй половине XX в. в исследованиях Д. Кларка, И.С. Каменецкого, Б.И. Маршака, Я.А. Шера и других советских и зарубежных исследователей. Она вполне надежно позволяла выделить конкретные археологические культуры, но не раскрывали их внутренней структуры, а, следовательно, и закономерностей, и факторов развития. Но как средство выделения и описания археологических культур эту стратегию уже в начале XX в. вполне успешно реализовал А.А. Спицын. По методическому уровню его работы принципиально не отличались от работ Коссинны и других исследователей, основывавшихся на «этнологической парадигме» и индуктивной стратегии группировки материала.
Дедуктивная стратегия дедуктивно-классификационного подхода, представленная в исследованиях В.А. Городцова, основывалась на противоположном принципе — «классификации сверху»: сеть классификационных ячеек, образующих иерархию, накладывалась на материал, а затем последовательно производился отбор от вышележащих к нижележащим уровням иерархии. Такова структура работы «Русская доисторическая керамика» 1899 г., так же строились городцовские классификации палеолитических материалов. В дальнейшем развитии дедуктивная стратегия превратилась в «гипотезно-дедуктивную», разработанную в американской «новой археологии» 1960-х годов (Л. Бинфорд и его последователи): искусственные ячейки классификации, единицы отбора и принятая для них иерархия здесь определялись, исходя из априорной гипотезы, представляющей собой некоторую модель культуры. Типы, основанные на этой модели, следует считать «условными типами», сконструированными из заранее данных признаков и уровней (подобно подходу Городцова). Модели культуры археологи 1960-х годов брали «со стороны» — из социологии, этнографии, географии или же, как предлагал один исследователь, «хоть из снов и галлюцинаций». Собственно, Городцов также прилагал к материалу своего рода «модель культуры», в основном сконструированную по аналогии с развитием биологических видов и популяций, а в декларативной форме — заимствованную из «географической теории» Л.И. Мечникова. Дедуктивная стратегия, в отличие от индуктивной, имеет целью выявление в материале не только эмпирических регулярностей, но и открытие «законов археологии», системы законоутверждающих (номологических) предложений, составляющих ядро, суть научной теории. [36] Городцовское направление одно из первых относилось к «теоретической археологии», но монографии именно
(378/379)
с таким названием в мировой науке появились только спустя полвека [37] после того, как В.А. Городцов опубликовал последние из своих опытов формулировки «законов археологии». В начале XX в. дедуктивная стратегия как необходимая альтернатива и дополнение индуктивной по существу лишь определялась в археологии. На этом поприще русская наука делала принципиально важные первые шаги; в 1920-е годы городцовский подход был использован для разработки «метода восхождения» А.В. Арциховским с целью решения новаторской задачи социологической реконструкции на основе археологических данных.
Дедуктивная стратегия с помощью типологического метода стремилась выявить определённые закономерности развития типов, действующие во времени, найти строгие формулы для характеристики хронологических изменений внутри типологического ряда. Индуктивная стратегия в конечном счёте распределяла эволюционные ряды типов или комбинации таких рядов в пространстве археологической карты, добиваясь их группировки в отчленённые друг от друга «замкнутые культурные группы». Формировавшаяся в западноевропейской науке 1920-х годов «археология поселений» выдвинула принципиально новую проблему внутренней структуры археологической культуры. Археология России в работах М.И. Ростовцева подошла к этой проблеме и принципам её решения одновременно (если не раньше) с западной. К концу «спицынско-городцовского периода» развития отечественной археологии в ней определяется новое стратегическое направление — культурно-историческое. Именно в нём «культурные типы» должны были занять фиксированное место в структуре культуры, выявлению и описанию которой был подчинен набор строгих и последовательных методических приёмов. Этот, четвёртый по счёту, научный подход, реализованный Ростовцевым, объединял («снимая» противоречия) достижения альтернативных подходов Спицына и Городцова, и в то же время на качественно новый историко-культурный уровень выводились задачи, сформулированные в рамках исходного и господствовавшего художественно-исторического подхода, преодолевалась его избирательная ограниченность.
В определении стратегии культурно-исторического исследования решающее значение имели осуществлённые в первые полтора десятилетия XX в. этнокультурные разработки европейской преистории, которые от первичного выделения ареалов крупных этнических общностей переходили к углублённому изучению культурных взаимодействий между ними. Такое изучение требовало научного аппарата, более гибкого, чем характерные для «этнологической парадигмы» однозначное соотнесение всего массива археологической культуры (или, тем более, представляющих, как бы «замещающих» её отдельных «характерных типов» или особенностей стиля) с массивом эт-
(379/380)
ническим. Западноевропейская археология ощутила необходимость такого более гибкого подхода в середине 1910-х годов. От наивной «кельтомании» (начала — середины XIX в., о которой иронически писал С. Рейнак) галло-римская археология трудами Ж. Дешелетта (наряду со все более дробным, гибким и отмеченным локальным своеобразием темпов развития хронологическим расчленением, разработанным П. Райнеке) пришла к выделению, в рамках латенской общности, её локальных этнокультурных разновидностей. Дешелетт делил латен не только на три этапа (латен I, II, III, 500-300, 300-100 и 100 — рубеж эр), но и на три территориальных области ( 1) кельтскую континентальную, 2) кельтскую островную, 3) германскую). Австрийский археолог Р. Питтиони выделял уже шесть локальных разновидностей латена ( 1) собственно латен, 2) «отсталая» альпийская зона, 3) нордическая (германская), 4) кельто-иберская, 5) иберская, 6) дако-фракийская под скифским влиянием). Таким образом, однозначность уравнения «культура—этнос» была разрушена.
В германской археологии исследования П. Рейнеке по существу вели к тем же результатам: эпоха бронзы — раннего железа в Северной и Средней Европе развивалась в разных ритмах, при этом древности германцев «переплетались» с древностями кельтов, широко расселившихся в 1 тыс. до н.э. и распространивших на не-кельтские племена латенские формы культуры. В 1896-1909 гг. Густав Швантес исследовал «поля погребений» в районе Ульцена на р. Ильменау (Нижняя Саксония) и в 1911 г. опубликовал детальную периодизацию этих памятников, вошедших в науку как «ясторфская культура» Нижней Эльбы. Насыщенная гальштаттскими и особенно латенскими элементами, она (по результатам последовательно примененного «ретроспективного метода», связавшего её с культурами рубежа эр — римского времени) была определена как «самая древняя культура, о которой можно говорить как об определённо германской». [38] Именно с этого времени началось строгое археологическое исследование проблемы германского этногенеза, подводившее к выводам о сложном этническом составе и процессе формирования древних общностей: «Кроме «коссинновских германцев» существовали другие, чуждые им по крови, которые тем не менее имеют такое же право называться германцами», — писал X. Бехагель (Висбаден, 1943 г.).
К проблемам этнокультурных взаимодействий славяно-русская археология подходила во многом через «варяжский вопрос». Публикуя гнёздовские материалы, и В.В. Сизов, и А.А. Спицын отмечали инфильтрацию норманнов в славянскую среду. В работе 1914 г. Т. Арне пришел к выводу о существовании в различных местах Восточной Европы нескольких «скандинавских колоний». Дальнейшая разработка проблемы
(380/381)
и решение вопроса о роли норманнов требовали углублённого изучения хозяйственного уклада восточных славян, плотности их расселения и системы поселений, времени образования укреплённых и торгово-ремесленных центров. На смену «ареальному картированию» летописных племён выдвигалась задача создания развёрнутой структурной характеристики славянской археологической культуры. И только принципиальное её решение, осуществлённое археологами советского поколения, позволило в 1937 г. Б.Д. Грекову сделать вывод о том, что проникавшие в Восточную Европу варяги подчинились существующей на Руси социально-экономической структуре и влились в неё. [39]
Стратегия, основанная на развёрнутой характеристике структуры культуры, в российской дореволюционной археологии ранее всего была разработана преимущественно на материале наиболее изученных и систематизированных её разделов: классической и скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья. Именно антично-византийская «Скифия», в географической традиции охватывавшая всю восточноевропейскую часть континента (со сменившей её «Сарматией», простиравшейся для античных авторов от Вислы до Дона-Танаиса) в трудах русских учёных стала ареной исследования, подходившего к созданию новой, более прогрессивной и ёмкой парадигмы по сравнению с утвердившейся в начале XX в. парадигмой этнологической.
Это был очень важный шаг, если процесс развития мировой археологии представить как последовательную смену основных научных парадигм.
1) Эволюционистской (Томсен — Мортилье — Монтелиус, середина — вторая половина XIX в.),
2) Этнологической (Коссинна, рубеж XIX-XX вв.),
3) Развитие по параллельным линиям (первая половина XX в.) — реконструкция общественно-экономических структур (стадиалисты) и реконструкция структуры культурной.
В середине XX столетия в разработке Г. Чайльда обе линии объединились в концепции развития материальной культуры, прошедшей через две экономическо-социальные революции первобытности: «неолитическую» (переход от присваивающего к производящему хозяйству) и «городскую» (с выделением ремесла и обмена). Длительный и сложный путь развития в первой половине XX в. завершился оформлением парадигмы, которую можно обозначить как «социоструктурную».
4) Её ограниченность, осознанная уже во второй половине XX в., привела к формированию современной «системной стратегии».
Каждая из парадигм включала в себя основные элементы и результаты предшествующей (как частный случай). Конкретные соотношения элементов старых и новых парадигм определяют облик действующих концепций, «дифференциацию подхо-
(381/382)
дов» в спектре направлений текущего периода развития науки. Это диалектическое взаимодействие разновременных по происхождению элементов научного знания подчинено «принципу дополнительности», который сформулировал физик Нильс Бор (1885-1962) и который в данном случае следует определить как «закон соотнесённости культур»:
1) каждая новая научная теория включает в себя теорию предшествующую как частный случай;
2) каждая новая парадигма включает в себя парадигмы предшествующие как частный случай;
3) каждая культура включает в себя не только достижения, но и в «снятом» виде противоречия предшествующих культур. Соотнесение культур основывается на степени снятости этих противоречий, т.е. подлинная смена культур есть в конечном счёте их синтез.
Эти положения, поскольку они обобщают динамику развития научного знания (итоговый и высший уровень культуры), являются действующими и для характеристики культурного процесса в целом, а во временной проекции — процесса культурно-исторического. Противоборство культур, в диалектическом отрицании сменяющих одна другую, одновременно представляет собой движение от низших ступеней к высшим, основанное на освоении всей сути, всей совокупности достижений и системы ценностных ориентиров предшествующей культуры, выявлении и чётком определении её противоречий и снятии этих противоречий в результате синтеза со средствами и ценностными ориентациями, которые даёт общество, поднимающееся на новую ступень развития общественно-производственных отношений между людьми, и взаимодействия с природой, — вот, в предельно обобщённом виде, суть культурно-исторического процесса. Эти принципы взаимодействия, с одной стороны, культур окружающего мира, включая культуру прошлого, а с другой — в целом цивилизации и экосистемы, общества и природы привели в конечном счёте к осознанию того, что можно назвать «внутренней самоценностью» минувших культур. Это осознание лапидарно выражено формулой академика Д.С. Лихачёва «экология культуры».
Эколого-культурное мировоззрение современной культуры конца XX столетия в значительной мере представляет собой результат осознания диалектичной сложности культурно-исторического процесса прошлого, уходящего корнями глубоко в «археологические горизонты». Именно археология, представляющая собой материальную объективацию исторического процесса, т.е. системами вещественных, материальных древностей проверяющая и утверждающая истинность общественно-субъективных представлений о прошлом, в освоении, осознании культурно-исторического процесса выполняет важнейшую, ориентирующую мировоззренческую функцию. Она же задаёт
(382/383)
обобщённую модель этого процесса. Историческое значение конкретной (археологической) культуры определяется её координатами: а) в секвенции (колонной и генетической), б) в композиции синхронных ей культур. Эти координаты задаются условиями своего рода «естественно-исторического отбора», развитием «адаптивно-адаптационной функции» культуры, и эта функция во многом зависит от того, насколько данная культура смогла осуществить наиболее полный синтез существенных достижений предшествующих культур секвенции, «овладеть культурным наследием», сохранить накопленный ранее культурный фонд, освоить и развить традицию его использования и пополнения. Эта способность к максимальному синтезу обусловлена социально-экономическими и историко-политическими предпосылками, которые в конечном счёте и определяют позицию культуры в историко-культурной композиции.
Положения эти действенны как для оценки значения культур прошлого, так и для определения потенциала научной парадигмы, исследующей это прошлое, для характеристики системы взглядов и методов, формирующихся на каждом этапе развития научного мышления. Острота критического противодействия с другими парадигмами — необходимое условие развития, «методологический кризис» — едва ли не оптимальная обстановка для успешных творческих поисков. Конечно, он создаёт определённые условия идейной дискомфортности, дезориентации. Но подобного рода «момент дезадаптации» органично присущ любой культуре, и преодоление дезадаптации есть развитие культуры [40]: все общества субъективно ощущали себя «на исходе времён». Екклезиаст написан за много столетий до Апокалипсиса, а тот — за тысячу лет до древнесеверного «Прорицания вёльвы»... Формы дезадаптации современной культуры конца XX в. качественно специфичны, но место этих форм в структуре культуры — то же, что у австралийских аборигенов, для которых лучшие, «настоящие» времена были в мифическом прошлом, в отношении к которому себя они осознавали деградирующими, испорченными, не-настоящими людьми (по сравнению с великими предками). То же осознание современной дезадаптации, развала сопровождало мощное интеллектуальное усилие, которым учёные начала XX в. выводили гуманистику на новые рубежи познания.
Михаил Иванович Ростовцев (1870-1952) — крупнейший из представителей заключительного этапа развития дореволюционной археологии: глубокие, острые и драматичные противоречия этого этапа отразились на его творческом и жизненном пути. Профессор Петербургского университета в 1901-1918 гг., после революции он покинул Россию. Его научная деятельность продолжилась в Англии, затем в США, где он был профессором Йельского и Висконсинского университетов. Основные труды Ростовцева, написанные и изданные в России, были
(383/384)
переведены и изданы с дополнениями в новых вариантах на западноевропейских языках. Неизменной оставалась тема его научных занятий, и главный для этой темы, подготовленный к 1918 г., труд М.И. Ростовцева «Скифия и Боспор», усилиями В.В. Латышева, С.А. Жебелёва, Б.В. Фармаковского был издан уже после отъезда его из России — в 1925 г. в Ленинграде. Набранное по нормам старой орфографии, это издание стало своего рода «прощальным подарком», концентрированным материальным выражением наследия, оставляемого дореволюционной археологией молодой советской науке. В этом труде воплощены наиболее существенные в конкретно-историческом и методическом отношениях результаты, которых достигла к концу дореволюционного периода отечественная археология.
Научный путь М.И. Ростовцева, историка и классического филолога по образованию, [41] начинался в области изучения эллинистической и римской культуры, и прежде всего экономической истории древности. В 1903 г., в докторской диссертации, он впервые широко использовал в качестве важного массового источника археологический материал — римские свинцовые пломбы-тессеры. Типология, хронология, функции этой категории вещей (главным образом из находок в Ольвии и Херсонесе) — таков комплекс конкретных археологических исследовательских задач, квалифицированно решённых и эффективно использованных им в этом историческом исследовании.
Одновременно, особенно после серии поездок в западноевропейские музеи, Египет и другие страны Северной Африки, Палестину, Малую Азию, Грецию и южнославянские страны, Ростовцев заинтересовался духовной культурой, и в наибольшей степени — декоративной живописью античности. В 1908 г. вышли в свет его работы: «Эллинистическо-римский архитектурный пейзаж», а затем «Античная декоративная живопись на юге России» — оригинальное обобщение результатов раскопок древнегреческих склепов Пантикапей, Херсонеса, Ольвии, Тамани, Прикубанья, где он предпринял попытку объединить живописный, архитектурный, археологический материал. Сфера интересов Ростовцева включала все уровни культуры — от экономики до художественного выражения духовных ценностей (при этом он профессионально овладел всеми видами работ с археологическими данными Северного Причерноморья).
Главной его темой стала история Боспорского царства: хлебная торговля с Элладой, расцвет Боспора IV-III вв. до н.э., царство крупных землевладельцев во главе с военачальником-архонтом. Этот уклад он характеризовал как «феодально-аристократический» сплав «рыцарской Ионии и восточных элементов». Иранские черты в структуре царской власти Боспора привлекали его внимание к крупномасштабной культурно-исторической проблеме, выраженной в формуле
(384/385)
«эллинство и иранство на юге России»: этой теме он посвятил доклад на Лондонском конгрессе 1913 г. и последнюю свою дореволюционную публикацию, изданную уже после 1917 г.
Сарматизация Боспора (со II в. н.э.), развернувшийся и проходивший на протяжении веков в Причерноморье длительный процесс многоступенчатого взаимодействия, «скрещивания культур» — главное его открытие, направившее изучение культурно-исторического процесса по новому руслу. В научном аппарате позднейшей «теории стадиальности», основанной на «яфетическом учении» Н.Я. Марра, тезис о «скрещивании» станет одним из важных понятий концепции, стремившейся связать воедино процессы языкового, культурного и общественно-экономического развития. На материале культуры механизм этого процесса, с углублённым исследованием и сравнительными характеристиками внутренней структуры археологических культур скифо-сарматского Причерноморья и эллинских полисов, впервые был выявлен и изучен М.И. Ростовцевым.
Монография М.И. Ростовцева «Скифия и Боспор. Критическое обозрение памятников литературных и археологических» является классическим, фундаментальным сводом систематизированных источников, посвящённых, однако, не просто историческому региону или эпохе, но поднимавшим новаторскую по постановке культурно-историческую проблему. Поэтому, наряду с неизменно сохраняющимся источниковедческим значением (Ростовцев скрупулёзно собрал, выверил и упорядочил данные всех раскопок за сто с лишним лет деятельности археологов в Северном Причерноморье), монография эта представляет собой и последовательное изложение с обоснованием развёрнутой и законченной культурно-исторической концепции, раскрывающей роль «Скифии» (при меняющемся этническом составе и сложной этнополитической структуре этого восточноевропейского региона) в мировом историческом процессе, и своего рода систему реализованных теоретико-методических принципов, которые составляют основу вполне оформившегося и продуктивного, самостоятельного научного подхода. [42] Синтетично-структурный по своей сути, он может быть обозначен как «культурно-исторический подход», и, таким образом, М.И. Ростовцев является создателем новой научной парадигмы, предлагавшей решения и принципы, более глубоко раскрывавшие суть исторического процесса, нежели устоявшаяся парадигма этнологическая.
Исходным пунктом археологической части исследования стала «хронологическая и топографическая классификация», типо-хронологическая группировка памятников (по состоянию источников, прежде всего погребальных комплексов). Последовательный анализ систематизированных материалов некропо-
(385/386)
лей Пантикапея, Ольвии и других эллинских поселений подводил к выводу о том, что в большинстве полисов Боспора (за исключением Херсонеса) происходила «сарматизация эллинства». В культурном обиходе Боспора она проявилась на всех уровнях структуры материальной и духовной культуры: в костюме, в вооружении, в укладе быта, в погребальном обряде. Особенно ярко взаимодействие греческой и сарматской культур проявилось во II-III вв. н.э. Одновременно и в непосредственной связи с этим процессом в ювелирном деле и ювелирной технике прослеживается «рождение нового стиля», важнейшей особенностью которого было применение «полихромного принципа» — инкрустации ювелирных изделий цветными камнями и разноцветными стеклами (техника перегородчатой эмали). Вместе с сарматами, а затем с готами, «вобравшими в себя элементы греко-сарматской культуры Боспора», инкрустационный «готский стиль» распространился по всей Западной Европе эпохи Великого переселения народов «и лёг в основу стиля, господствовавшего на Дунае и во всей Западной Европе в эпоху раннего средневековья». Основы этого культурно-исторического явления общеевропейского масштаба, местные (причерноморские) и дальние корни его, связи «со старою культурною жизнью Боспора и южнорусских степей» — главная тема исследования М.И. Ростовцева.
«Полихромный стиль» он оценивал уже не как средство маркировки того или иного «этноса» (стиль = народ) или даже отдельной культуры (стиль = культура), поскольку эти принципы «этнологической парадигмы» недостаточны для раскрытия действительной сути процесса. Ростовцев прослеживает корни развития полихромного стиля на несколько столетий вглубь, к эллинистической эпохе новой ступени синтеза греческой и восточных цивилизаций после завоеваний Александра Македонского. Это было время, когда новая эпоха мировой истории древности, эллинизм, стала «временем нового влияния иранских элементов на культуру Боспорского царства, временем нового оживления старых иранских традиций, сказывающихся в возрождении старой тенденции к полихромии и сочетании этой новой тенденции с элементами звериного стиля. Это новое сочетание находит пышный расцвет на периферии скифского, иранского мира — в Западной Сибири, как это можно видеть по великолепным образцам, попавшим в Эрмитаж... центром, где создавалось сочетание новых элементов... был Пантикапей с его старыми мастерскими, работавшими на Боспорское царство и связанные с ним иранские державы Крыма, северного Кавказа и степей юга России». Созданием искусства, определившего культурный облик «Европы в эпоху поздней античности и раннего средневековья», определяется, по Ростовцеву, «мировая культурная миссия Боспорского царства, и в этом право Боспора на значение не только как отдаленного угла эл-
(386/387)
линского мира, но и как одного из крупных центров культурной жизни».
Историческая динамика формирования «синкретистической культуры», возникшей в пределах Персидской державы Ахеменидов, продолжилась преемниками Персии на Востоке, азиатскими монархиями эпохи эллинизма, включая и Парфянское царство. Эта динамика и эта преемственность — главное открытие Ростовцева в конкретно-исторической сфере исследования (открытие, основанное на вещественных древностях). Обобщая итоги вещеведческой части своего исследования, он писал: «Характерной особенностью этой культурной среды является соединение всех достижений восточной техники с греческим ювелирным искусством, с использованием всех тех богатых материалов, особенно драгоценных камней и различных достижений в области использования стекла, которыми так богат был Восток». Совершенно самостоятельной и при этом тесно связанной и с греческим, и с древневосточным миром областью культурных взаимодействий на протяжении всех этой эпохи была Скифия. В заключение обзора памятников крымских скифов Ростовцев определил хронологические границы этого культурного синтеза: «Время тесного общения скифского местного населения с греческим везде одно и то же: это IV в. до P.X., с началом в середине V века и с продолжением до начала или даже до конца III-го».
«Синкретическая культура» возникала на основе взаимодействия не отдельных элементов, а целостных культурных структур. Их выявление — особая исследовательская задача, и Ростовцев решает её очень последовательно, для каждого региона и на всех уровнях: «В VI-III вв. до P.X. в степях юга России царила, несомненно, однородная культура, одинаковый быт и уклад (по крайней мере постольку, поскольку это отражается в инвентарях, погребальном обряде, погребальных сооружениях»; при этом, однако, «основною характерною особенностью этой культуры на всём её протяжении является смешанность составных её элементов, притом не везде одинаковых», все явления культуры степной Скифии есть «продукты смешанного культурного творчества» (по крайней мере для культуры «верхних слоёв скифского общества»).
Именно на уровне структуры он проводил непосредственное сопоставление скифской и сменяющей её сарматской культур. «При всем этом сходстве (культур. — Г.Л.) весь культурный обиход погребённых резко изменился. Состав погребального инвентаря совсем иной, чем в скифских курганах. Тип одежды и вооружения, в общем, тот же... в общем, те же иранцы, стоящие под сильным греческим влиянием. Но на этом общем сходстве дело и заканчивается. Набор оружия тот же, но формы его резко изменились... Нет типичного скифо-персидского акинака, нет не менее типичного горита, панцирь
(387/388)
частью сохраняется старый, чешуйчатый, но всё более и более вытесняется кольчатым. Форма шейных гривен резко меняется: персидские гривны с головами львов вытесняются массивными литыми обручами и полыми раздвижными цилиндрами, с головами по большей части рогатых животных на концах. Нашивные бляшки удерживаются, но резко меняют свою форму, нет и следа прежнего, столь типичного набора. Ещё более характерно, что весь набор сопровождающих вещей становится совершенно иным. Нет более типичного подбора ритуальных сосудов: фиалы, ритонов, круглодонных чаш. Эллино-скифский головной убор исчез без следа. Совершенно исчезли навершья. Изменился в корне и уздечный убор с его типичными для скифских погребений составными частями. Он становится проще и беднее, с широким применением колец и пряжек... Количество ввезённых не местных вещей остается, как и прежде, значительным. Ввозной является серебряная и медная посуда, за исключением азиатских котлов; ввозятся и стеклянные, и глиняные сосуды. Изменение состава этих ввозных предметов объясняется временем... мы опять встречаемся с работами пантикапейских мастерских на новых заказчиков. И здесь речь идёт, главным образом, о продуктах торевтики и ювелирного искусства».
Новая культурная структура заняла место «между скифами и полями погребальных урн». Именно в этой структуре, по определению Ростовцева, «корни той связи, которая давно уже установлена между боспорским культурным кругом и тем обликом, который приняла материальная культура Западной Европы в эпоху так называемого раннего средневековья, связи между дальнейшим развитием скифской культуры и так называемой готской культурой».
Методически новаторский, подход Ростовцева основывался на взвешенном и критическом анализе как достижений, так и нерешённых задач археологии. Сжато и точно он оценил результаты решений, предложенных средствами предшествующих парадигм: «Мы, слава Богу, в последнее время научились трактовать находки по времени (типохронологические ряды эволюционистов. — Г.Л.), но не можем научиться трактовать их в пространстве, т.е. выяснять их принадлежность к известной группе и определять их значение как документ культурной эволюции определенной местности (территориальный подход, на основе картографического метода разрабатываемый сторонниками этнокультурного направления. — Г.Л.)». Между тем сама по себе последовательность культур могла и не отражать этнического процесса и «культурная эволюция, идущая своим самостоятельным путём, не может поэтому, взятая сама по себе, дать нам решающий ответ на вопрос о смене господствующих племён» (культура ≠ этносу!). Ростовцев полагал, что, прежде чем на основе междисциплинарного синтеза решать
(388/389)
вопросы этнической истории, необходимо осуществить структурный анализ культуры на основании серии памятников. Именно анализируя серию комплексов одной культурной группы, «в ней мы находим и одинаковую структуру курганной насыпи... и одинаковый характер погребальных камер... и приблизительно одинаковое расположение их по отношению друг к другу. Одинаковым, чуть ли не во всех деталях, является и обряд погребений... поразительно однообразен состав инвентаря погребений и выясняющийся при анализе отдельных предметов этого инвентаря характер мужского, женского и конского уборов... повторение одних и тех же вещей или типов вещей почти во всех погребениях данного типа и появление в среде этих вещей таких, на которых сказываются тенденции, в общем чуждые другим географическим группам, появляющиеся в них только спорадически, в виде исключения и на короткое время. Наконец, типично и то, что хронологически рассматриваемая группа гораздо более тесно замкнута, чем группы соседние». Пройдёт более полувека, и в статистико-комбинаторных разработках структуры погребального ритуала, а затем — археологической культуры в целом, осуществляемых современным поколением советских археологов, вновь будут в той же последовательности рассматриваться критерии структурной характеристики комплексов, памятников, культур, которые на материалах «Скифии и Боспора» были впервые выдвинуты и реализованы в культурно-историческом исследовании М.И. Ростовцева.
Ближайшие исследовательско-методические задачи, необходимые для реализации новой парадигмы, также были сформулированы Ростовцевым чрезвычайно точно. Вводная часть книги завершалась определением перспектив и направлений изучения античной археологии. Первой задачей являлось составление полной сводки погребальных памятников, затем следовало «изучить структуру самих курганов в их исторической эволюции» (включая материалы сопредельных регионов, прежде всего Малой Азии, «области хеттской культуры»). Такой же проработки требовало «изучение второго оригинального типа погребальных сооружений — высеченных в скале или вырезанных в глине подземных камер, которые... принято называть катакомбами». Особую категорию источников составили «надгробные стелы, украшенные рельефами... для характеристики быта, костюма, вооружения... решения вопроса о загробных верованиях боспорцев и для установления культурных связей». Исследование деревянных погребальных сооружений, керченских саркофагов античного времени — следующий вопрос, который «чрезвычайно важен специально для России, где дерево в художественной промышленности и архитектуре всегда играло крупную роль», и, следовательно, изучение скифских саркофагов могло пролить новый свет на развитие искусства деревооб-
(389/390)
работки в Восточной Европе. Систематизации требовали также «остатки ткацкого производства, поделок из кожи, греческая керамика... эллинистическая и римская керамика, стекло». Ростовцев подчёркивал, что особенно важна такая категория массового материала, как стеклянные бусы, так как «их сравнительно-историческое изучение могло бы дать очень важные хронологические критерии». Торевтика, монетный материал, словом, все виды археологических источников подлежали последовательной систематизации.
Следующим этапом разработки, по Ростовцеву, должно стать создание системы относительной и абсолютной хронологии. Для этого следовало правильно определить хронологию серии монет Боспора. Далее, «установить известные рубрики предметов и монет, находимых совместно... Путём такого анализа можно было бы установить твёрдую хронологическую последовательность целого ряда серий отдельных групп погребального инвентаря, что значительно облегчило бы и нахождение абсолютных дат». Круг задач, намеченных Ростовцевым для причерноморской археологии, был актуален и для других ключевых разделов мировой науки: в разработке проблемы взаимодействия античного и варварского мира в пределах всей эйкумены древности для привлечения данных археологии к синтезу с историческими источниками необходима была прежде всего надёжная хронологическая система. Практически именно по намеченному Ростовцевым пути далее осуществлялись исследования взаимосвязей с римским миром германских культур: на основе систематизированных находок римского импорта, выделенных, по «методу Рейнеке», хронологических групп комплексов вещей, и абсолютных дат по тем же категориям источников (монеты, стекло, «терра сигиллята» — краснолаковая керамика), уже после второй мировой войны, в 1950-х годах, западногерманский археолог Г.-Ю. Эггерс построил хронологию «римского времени», которая остаётся классической и базовой для всех исследований железного века Европы. Основы этого подхода были заложены на материалах археологии России М.И. Ростовцевым.
В результате работ М.И. Ростовцева впервые во всемирно-историческом контексте были определены контуры истории культуры Восточной Европы. «Скифия и Боспор» — генеральная программа крупномасштабных культурно-исторических исследований, намеченная в 1918 г. как итог работы российской археологии.
Скифия и Боспор, или «эллинство и иранство», были впервые поставленной и решённой проблемой культурного синтеза, взаимообогащающего взаимопроникновения эллинского и древневосточного начал на восточноевропейской местной почве «Скифии», где последовательно расширялся круг участников культурно-исторического процесса (см. табл.) :
(390/391)

(391/392)
Этот синтез, проходивший на протяжении тысячелетий (Б.В. Фармаковский пытался его проследить со II тыс. до н.э.), достиг континентального значения на этапе скифо-эллинских взаимодействий, а в дальнейшем развитии дал новые культурные нормы, распространённые далеко на Запад (сарматами-аланами, готами, гуннами, славянами, продвинувшимися на Балканы, и аварами, шедшими вслед за ними, уграми, из Лебедии пришедшими в Паннонию, и «русами» Святослава, стремившимися утвердиться на Дунае). Процесс этого синтеза постепенно охватил всю Восточную Европу (от Чёрного моря до Ладоги и Балтики), стержневой магистралью этого пространства стал путь «из варяг в греки» (от северного варварства к эллинской духовности), [43] заканчивавшийся в греческом Херсонесе (Корсунь). Здесь, в эллинистически-византийском Херсоне, в других полисах Боспора ступень за ступенью» из века в век, охватывая всё новые области и народы, осуществлялся этот «припонтийский синтез». Города Боспора постепенно меняли свой облик: скифо-эллинский фактор, определявший их культуру, вытеснялся сармато-эллинистическо-римским, который перерастал в гото-сармато-римско-византийский, затем — варяго-славяно-византийский. В исторической перспективе эти ступени составили основу культурного синтеза, который обобщённо можно назвать «русско-эллинистическим» и который предопределил всемирно-историческое значение преемственно связанной со всеми звеньями этого процесса культуры России. М.И. Ростовцев выявил начальную ступень этого культурно-исторического процесса, впервые установив место во всемирной истории культуры территории античной «Скифии», Северного Причерноморья, примыкающего к необъятному пространству Восточной Европы и Северной Азии. По своему положению «Скифия» играла роль форпоста средиземноморской, античной цивилизации, которая устанавливала здесь тесные контакты со сменяющими друг друга и связанными друг с другом культурами и народами, постепенно вступающими на арену истории.
Понтийское Средиземноморье географически раскрывалось в мир евразийской степи и лесные пространства России. Здесь, в глубинах «Барбарика», конденсировались исторические силы, впоследствии на Боспоре получавшие мощный идейный импульс, новый потенциал, направление движения, историческую тягу. Происходивший затем перенос действия этих сил с Понтийского, Малого Средиземноморья на Большое, преобразовал Европу. [44] Восточная Европа, Скифия для античной традиции была концентрированным выражением, сакрализованной моделью всего евроазиатского Барбарика, а система отношений Скифия — Боспор в период перехода от античной древности к раннему средневековью — моделью всего европейского культурно-исторического пространства.
(392/393)
Представление о «Скифии» Ростовцева было создано в то самое время, когда германская наука, «венская культурно-историческая школа» усиленно внедряли стереотип представления о «германском Западе». От детальных типохронологических схем и картографии «расселения» культур и народов — к воинствующему миграционизму, вдохновляемому «расовым духом». Русская наука в те нелёгкие, а для многих — трагические революционные годы создавала творческую альтернативу этим агрессивно-националистическим воззрениям. Столкновение было неизбежным не только в парадигматической плоскости. Пройдёт чуть более двадцати лет после завершения ростовцевской «Скифии» и молодые археологи первого советского поколения H.Н. Чернягин, А.В. Мачинский, А.П. Круглов, вместе со множеством своих сверстников ценой жизни преградят путь на «славянский Восток» вооружённым до зубов выученикам «выдающейся национальной науки», освоившим в казармах вермахта коссинновскую археологию и национал-социалистскую практику.
«Скифия», в понимании Ростовцева (перекликающаяся в чем-то с пафосом «Скифов» Александра Блока, 1918 г.), объединила гордое сознание исторической силы, преемственно восходящей от ростовцевских «степных конных рыцарей», скифо-сарматских «бохатуров» к васнецовским русским богатырям, с той, питавшей глубоко российскую «открытость», всеобъемлющий гуманизм культуры, способной к творческому и органичному взаимодействию с культурами иных исторических миров («нам внятно всё — и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений...» — А. Блок), обретающей к исходу XX столетия всё более значимый, глобальный исторический смысл, идеей культурного синтеза, первым исследованием и одновременно — обоснованием которого стал этот археологический труд — итог и венец достижений отечественной археологии. Обострённое восприятие трагической глубины и всемирного значения исторического пути России — главное завоевание русской культуры накануне революционных лет. Идеи и формулы, найденные в эти годы отечественной гуманистикой, философией, искусством, обрели действенность и силу на многие десятилетия вперёд, и катаклизмы мировых войн и революций, заполнившие столетие, лишь через два-три поколения, наконец, ценой множества понесённых страной и человечеством жертв, признание высокой ценности этих идей делают фактом общественного сознания, одновременно и подтверждая этой горькой ценой их провидческую силу. В контексте же нашей темы весьма важно констатировать, что, несмотря на все социально-политические ограничения, организационную неустроенность, непрочность традиций, российская археология оказалась неотъемлемой частью этого мощного культурного движения. В своём развитии отечественная археология не только достигла уровня
(393/394)
зарубежной науки, но и на некоторых перспективных направлениях в состоянии была дать самостоятельный, творческий ответ на вызовы глобальной истории, найти ключи к открытию новых уровней национального и общечеловеческого исторического самосознания.
(/458)
[10] Daniel Glyn. A Hundred and Fifty Years. L., 1975, p. 187-189.
[11] Кондаков H.П. Русские клады. СПб., 1896. С. 6.
[12] Кипарисов Ф.В. Вещь — исторический источник // ИГАИМК. 100. 1933. С. 7.
[13] Цит. по: Илларионов В.Т. К истории изучения... С. 179.
[14] Топоров В.Н. Древние германцы в Причерноморье: Результаты и перспективы // Балто-славянские исследования 1982. М., 1983. С. 255.
[15] Равдоникас В.И. Памяти Н.И. Репникова. Старая Ладога. Л., 1948. С. 8.
[16] Биляшевский Н.Ф. Ближайшие задачи археологии юга России // АЛЮР. 1903. №1. С. 11; Reinecke Р. Aus der russischen archäologischen Litteratur // Mainzer Zeitschrilt. 1906. I. S. 42-50.
[17] Плетнёва С.А. Салтово-маяцкая культура. // Степи Евразии в эпоху средневековья / Археология СССР. М., 1981. С. 62.
[18] Илларионов В.Т. К истории изучения палеолита. С. 173.
[19] Формозов А.А. Страницы истории... С. 204.
[20] Ключевский В.О. Краткое пособие по русской истории. Частное издание для слушателей автора. 4-е изд., с дополнениями. М., 1905.
[21] Покровский М.И. Русская история с древнейших времён. T. I. 6-е изд. Пг., 1924. С. 29.
(458/459)
[22] Артамонов M.И. Расселение восточных славян... С. 29-30.
[23] Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества... С. 112.
[24] Hидерлe Л. Обозрение современного славянства // Энциклопедия славянской филологии. Изд. ОРЯСИАН. В. 2. СПб., 1909.
[25] Равдоникас В.И. Памяти Н.И. Репникова. С. 9.
[26] Волков Ф.К. Палеолит в Европейской России и стоянка в с. Мезине Черниговской губ. // ЗОРСА. IX. 1913.
[27] Ефименко П.П.: 1) И.И. Фомин. Искусство палеолитического периода в Европе // Ежегодник Русского антропологического общества. IV. СПб., 1913. С. 185-187; 2) К вопросу о стадиях каменного века в Палестине // Там же. V. 1915. С. 63-88; 3) Некоторые находки каменных орудий в Тверской и Новгородской губерниях и их место в системе европейской палеоэтнологии // РАЖ. 1916. XXXVII-XXXVIII. 1-2. С. 62-82.
[28] Марр Н.Я. Автобиография // Марр Н.Я. Изобр. работы. T. I. Этапы развития яфетической теории. Л., 1933. С. 9-11.
[29] Городцов В.А. Первобытная археология. М., 1908. С. 28-76.
[30] Городцов В.А. Бытовая археология. М., 1910. С. 33-132, 251, 318, 403, 409, 417, 461, 465.
[31] Ростовцев М.И. Курганные находки Оренбургской области эпохи раннего и позднего эллинизма // МАР. 37. Пг., 1918.
[35] Равдоникас В.И. За марксистскую историю. С. 53.
[38] Монгайт А.Л. Археология Западной Европы. T. II. Бронзовый и железный века. М., 1974. С. 327.
[39] Ловмяньский X. Русь и норманны. М., 1985. С. 68-83.
[40] Mаркарян Э.С. Соотношение формационных и локальных исторических типов культуры // Этнографические исследования развития культуры. М., 1985. С. 7-30.
[41] Бороздин И.Н. Учёные заслуги М.И. Ростовцева // Отчёт о 3-м присуждении медалей имени графа А.С. Уварова к празднованию 50-летнего юбилея Московского археологического общества. М., 1915. С. 1-13.
[42] Ростовцев М.И. 1) Эллинство и иранство на юге России. Пг., 1918; 2) Скифия и Боспор. Л., 1925. С. 182, 613, 617, 279-280, 458, 277, 391, 302, 303, 576-577, 545, 344, 405-406.
[43] Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе. Л., 1985. С. 262-265.
[44] Топоров В.Н. Древние германцы в Причерноморье. С. 227-262.
|