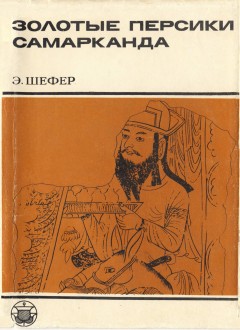 Э. Шефер Э. Шефер
Золотые персики Самарканда.
Книга о чужеземных диковинах в империи Тан.
Глава I.
Прославленная империя Тан.
Богатство твоё и товары твои, все склады твои, корабельщики твои и кормчие твои... Когда приходили с морей товары твои, ты насыщал многие народы; множеством богатства твоего и торговлею твоею обогащал царей земли.
Книга пророка Иезекииля, 27, 27, 33.
Историческая канва. ^
Наше повествование — об империи Тан, во главе которой стояли государи из семейства Ли, славившейся в средние века по всей Азии и доныне ещё знаменитой на Дальнем Востоке. Если окинуть историю Тан беглым взглядом, то окажется, что три века официального существования империи не были похожи один на другой. Мы должны будем как-то разделить их, наметив хронологический костяк, который будет обрастать плотью нашего повествования, но при этом отдавать себе отчёт в том, что сооружение наше возникает в результате отбора: в него попадает слишком много сведений о том, что изменялось радикально, и слишком мало о том, что оставалось прежним или изменялось лишь слегка. К счастью, так как нас интересуют преимущественно ремёсла и торговля, мы можем избрать простое хронологическое деление, в целом соответствующее векам. С фактами такое членение согласуется совсем неплохо.
Седьмой век для Китая был столетием завоеваний и колонизации. Сперва семейство Ли свергло правившую Китаем династию Суй и расправилось с другими столь же честолюбивыми претендентами на трон. Затем были подчинены восточные тюрки (на территории современной Монголии), государства Когурё и Пэкче (ныне Маньчжурия и Корея) и, наконец, западные тюрки, владетели прежних городов-государств Сериндии (т.е. Восточного Туркестана). [1] Китайские гарнизоны, размещённые на завоёванных землях, обеспечивали постоянный приток оттуда в Китай людей и товаров. Почти на всём протяжении это было столетие низких цен и экономической устойчивости, которая стала возможной благодаря раздачам земельных наделов крестьянам и установлению новой системы твёрдых налогов — знаменитого тройного обложения, которое состояло из налога зерном, вносившегося каждым взрослым мужчиной, семейного налога, взимавшегося с каждого хозяйства шёлковыми тканями или льняным полотном (их ткали женщины; частично этот
(20/21)
налог выплачивали также шёлком-сырцом или коноплёй), и отработок, когда опять-таки мужской состав семьи нёс трудовую повинность на общественных работах. [2] Это было столетие подвижности, когда переселенцы в огромных количествах двигались в области, составляющие современный Центральный и Южный Китай. Их влекла на эти неустроенные земли не только надежда на удачу и, может быть, богатство, но и стремление избежать призывов на военную службу, наводнений и набегов варваров. [3] Это был век социальных перемен, на протяжении которого новая провинциальная знать из южных областей Китая — с помощью системы государственных экзаменов — сложилась в политическую силу, противостоящую старинной знати северных областей Китая с её традиционными связями с тюркской культурой. Эти сдвиги достигли высшей точки в последних десятилетиях VII в. — во времена императрицы У и её недолговечной империи Чжоу. [4] Это был век широкого проникновения индийской культуры, когда буддийская философия вместе с достижениями индийской науки в астрономии, математике, медицине и филологии пронизывала высшие слои китайского общества. И, наконец, это был век, когда вкус ко всякого рода иноземной роскоши и диковинам и мода на них из придворных кругов начали проникать в широкие слои городского населения.
Восьмой век литературоведы обычно подразделяют на два периода: до 765 г. — «расцвет Тан» (времена Ду Фу, Ли Бо, Ван Вэя), затем «среднетанский период», длившийся до второго десятилетия IX в., когда общество, постепенно оправляясь после многочисленных бедствий, достигает нового подъёма и происходит настоящее возрождение литературы (Хань Юй, Бо Цзюй-и, Лю Цзун-юань). [5] Значительные перемены наступают после середины столетия, и справедливо, что этот век делится на две равные части: первая — время наивысшего взлёта и великолепия, вторая — оздоровления и странностей. Первая из этих двух половин, «расцвет Тан», связана с блистательным царствованием Сюань-цзуна — длительной эпохой благосостояния, безмятежной жизни и дешевизны, когда «не было в Поднебесной ничего, что стоило бы слишком дорого», [6] когда каждый мог «...посетить Цзин и Сян на юге, поехать в Тайюань, или Фаньян на севере или отправиться в Сычуань или Лянфу на западе, и повсюду были лавки и склады для странствующих купцов. Отправляйся они хоть за несколько тысяч ли, им не надо было заботиться даже о крошечной былинке». [7] На безопасных дорогах путешественникам предоставляли лошадей и мулов, [8] а сложная система каналов, созданная, чтобы обеспечить перевозки податного шёлка из устья Янцзы в столицу, была в это время настолько улучшена, что могла служить и для доставки предметов роскоши из чужеземных стран. [9] Отличные
(21/22)
наземные и водные пути благоприятствовали развитию торговли с заморскими странами, равно как и перемена во вкусах молодого императора Сюань-цзуна, который в начале своего правления предал огню у себя во дворце целую груду изделий из драгоценных металлов и камней, чтобы выказать своё презрение к дорогим безделушкам. Но несколько лет спустя, соблазнённый рассказами о богатствах из-за границы, притекавших в Гуанчжоу (Кантон), император пристрастился к дорогим привозным вещам и начал ревностно следить за состоянием торговли с иноземцами. [10] Прежний натуральный обмен, при котором кусок тафты служил обычной мерой стоимости и мог быть использован для покупки чего угодно — от верблюда до земельного участка, [11] всё больше сдавал свои позиции. В 731 г. он окончательно уступил место официально признанному денежному хозяйству, возникшему в результате невиданного ранее экономического расцвета, особенно в таких центрах торговли, как Янчжоу или Гуанчжоу. [12] Деньги сыграли роль смазочного масла для всей коммерческой машины, послужив во благо набирающему силу купечеству. Оказался неминуемым пересмотр налоговой системы VII в.: в 780 г. была проведена реформа и стала действовать система «двойного налога», заменившая натуральные и трудовую повинности денежными платежами раз в полгода. Эта перемена была вызвана становлением денежного хозяйства и очень укрепила позиции торгового сословия. [13] Нововведения в финансах повлекли за собой не только расцвет деловой жизни и предпринимательства, но и крах мелкого независимого крестьянства, исчезновение мелких наделов, пожалованных после прихода династии к власти. Поэтому VIII век со второй его половины был эпохой, когда безземельные бедняки и злосчастные арендаторы, заменив собой свободное крестьянство, противостояли состоятельным землевладельцам и крупным помещикам. К этому привели войны, «отработки» и гнёт налогов. [14]
Правление Сюань-цзуна было временем торжества нового сословия образованных людей, примером чего может служить небывалая карьера государственного деятеля Чжан Цзю-лина, уроженца Южного Китая, противника политиканов — военных и аристократов, друга южан и торговцев. Но на протяжении того же царствования решающую победу одерживают привилегированные сословия; при этом диктаторство Ли Линь-фу находило поддержку в уповании монарха на твёрдую государственную власть. [15] После смерти Ли Линь-фу один из его сподвижников, по имени Рокшан (Светлый), [16] поощряемый «чистокровными» китайскими родами в провинции Хэбэй, выступил против новоиспечённого правительства, привел своих бывалых солдат с северо-восточной границы в долину Жёлтой
(22/23)
реки и разграбил обе столицы. [17] Таким образом, вторая половина VIII в. была и эпохой разрушений и смертей, резкого сокращения населения. [18] Вместе с тем это было и столетие значительных изменений на границах Китая: войска нового государства Наньчжао (позднее — провинция Юньнань) проложили прямой путь на запад — в Индию и Бирму — и не собирались отказываться от своей независимости. На северо-западной границе в середине VIII столетия набрали силу тюрки-уйгуры, превратившиеся в надменных друзей и соперников Китая. В Маньчжурии разветвившееся племя киданей, ещё не ставшее — как это произошло через два столетия — серьёзной угрозой для Китая, истощало силы китайских гарнизонов. Тибетцы разбойничали на торговых дорогах из Китая на Запад, пока не были подавлены выдающимся полководцем Гао Сяньчжи, корейцем по происхождению. Но в 751 г. этому воителю, в свою очередь, довелось увидеть на реке Талас собственное войско обратившимся в бегство под натиском аббасидских отрядов. Средняя Азия оказалась в руках арабов, всё чаще приходивших после этого в соприкосновение с Китаем; их отряды оказали помощь китайскому правительству в подавлении мятежа Рокшана (Светлого), а несколькими годами позднее арабские пираты принимают участие в разграблении Гуанчжоу. [19] Это было столетие терпимости к иноземным верованиям, когда буддисты разных толков, сирийцы-несториане и уйгуры-манихеи свободно отправляли свои службы и пели молитвы в своих собственных святилищах, построенных в городах Китая и находившихся под защитой правительства.
Культурное и экономическое оживление страны, последовавшее за опустошительным нашествием на северные области удачливого мятежника Рокшана, завершилось на протяжении двух первых десятилетий IX в. С точки зрения наших интересов это столетие начинается около 820 г. и заканчивается в 907 г., вместе с концом танской династии. За дефляцией, последовавшей вслед за провозглашением закона о «двойном налоге», происходит постепенный рост цен, начавшийся в третьем десятилетии этого тяжёлого века. Стихийные бедствия (вроде засухи или нашествий саранчи) и бедствия, которые были делом рук человеческих, вызвали всеобщие лишения и нехватку самых насущных товаров, не говоря уже о дорогостоящих привозных вещах. [20] Самым тяжёлым потрясением, причинённым стране руками людей в IX в., было восстание Хуан Чао, опустошившее всю страну в 70-80-х годах; особенно гибельный урон экономике Китая нанесло избиение иностранных купцов в Гуанчжоу, учинённое Хуан Чао в 879 г., после которого нарушились международные торговые связи и прекратилось поступление доходов в страну от торговли с иноземцами. [21] Это
(23/24)
было столетие ослабления китайской власти в землях, ранее зависевших от Тан и плативших ей дань, столетие, на протяжении которого у Китая появились новые соперники на международной арене. Народ Наньчжао посягнул на издавна установленный Китаем контроль над Вьетнамом, [22] а киргизы покорили могущественных и коварных уйгуров. После ослабления уйгуров манихейство — их религия — оказалось совершенно беззащитным в Китае. В 845 г. манихейство вместе с буддизмом сильно пострадали во время великих гонений на иноземные религии, направленных на то, чтобы лишить духовенство льгот при обложении налогами и переплавить на монеты огромное количество священных бронзовых изваяний. [23] Предпринятые из экономических побуждений, эти гонения способствовали, в первую очередь, насаждению злобы и ненависти ко всему иностранному. [24] Это было также столетие, когда могущество государства оказалось безнадёжно подорвано «центробежными» силами. Резиденции крупных военачальников в провинциях стали повторением императорского двора в миниатюре. Всё это привело к тому, что в X в. правящий дом Ли и созданная им могущественная танская держава перестали существовать.
Иностранцы в танском Китае. ^
За три калейдоскопических века существования танского государства в нём перебывали уроженцы почти всех стран Азии. В эту поразительную страну одних влекло любопытство, других — честолюбие, третьих — погоня за выгодой, а некоторые попадали туда поневоле. Три самые важные категории приезжающих — послы, духовные лица и купцы — преследовали соответственно крупные политические, религиозные и коммерческие интересы. Среди дипломатических посланцев, пожалуй, наиболее видной фигурой был Пероз, сын царя Ездигерда III, последний отпрыск династии Сасанидов, оказавшийся в VII в. на положении жалкого просителя при дворе китайского властелина. [25] Но видел китайский двор множество и менее важных посланцев, также искавших расположения и помощи для только возвышающихся (или, наоборот, уже клонившихся к упадку) династий, которые они представляли. Тут были в изобилии буддисты из Индии, но немало и священнослужителей разных религий из Ирана — маги, для которых в 631 г. заново отстроили маздеистский храм в Чанъани; несториане, которых в 628 г. почтили возведением церкви; манихеи, представившие в 694 г. двору своё необычное учение. [26] Тюркские князьки пытались понять, какими путями приходят сюда драгоценности из Омана, а японские паломники в удивлении разглядывали погонщиков согдийского каравана. Каких только народов и профессий не
(24/25)
было в этом пёстром круговороте! И каждый такой путешественник привозил с собой в Китай экзотические вещи — или как посольские подарки, или как товары на продажу, или, наконец, просто как своё личное имущество. А в ответ некоторые, вроде согдийского купца, назначенного наместником Аннама, [27] находили здесь почёт. Другие наживали богатства, как еврейский купец из Омана, который привёз из Китая вазу чёрного фарфора с золотой крышкой, внутри которой была «золотая рыба с рубиновыми глазами, наполненная мускусом самого лучшего качества. Содержимое вазы стоило пятьдесят тысяч динаров». [28] Третьи (видимо, более непритязательные) приходили сюда в поисках мудрости, как это произошло со знатными тибетскими юношами, которых отцы послали за правильными истолкованиями китайских классических сочинений. [29]
Суда и морские пути. ^
Существовало два пути в Китай: сухопутный — для караванов, морской — для судов. Большие корабли пересекали Индийский океан и моря, омывающие Китай, доставляя снедаемых нетерпением людей из стран Запада на призывно сверкающий Восток. В северной части этого бассейна искусными мореплавателями считались корейцы. В их руках, особенно после разгрома в 60-х годах VII в. царств Пэкче и Когурё государством Силла, оказались сосредоточены все морские перевозки в этом районе. Из страны-победительницы в Китай отправлялись многочисленные посольства, священнослужители и купцы, из побеждённых стран в не меньшем количестве — беглецы. [30] Корейские суда шли обычно вдоль северного берега Жёлтого моря, поворачивая влево у Шаньдунского полуострова. Этот же морской путь был обычным для японских парусников, выходивших из Хидзэна,— во всяком случае, до конца VII в., пока Япония и государство Силла не стали враждовать. [31] В VIII в. японцы были вынуждены, обходя государство Силла, выходить из Нагасаки в открытое море, или держа курс на устье реки Хуай, или направляясь к Янцзы, а то и в залив Ханчжоу. [32] Но в IX в., чтобы избежать таких путешествий, оказывавшихся крайне опасными, японские паломники и дипломаты предпочитали пользоваться более надёжными корейскими судами и попадать через Шаньдун в устье реки Хуай или даже отваживались садиться на китайские парусники, причаливавшие не в Янчжоу, а много южнее — в Чжэцзяне или в Фуцзяни. [33] Хотя корабли государства Силла господствовали в этих водах, торговые суда маньчжурского государства Бохай, зависевшего в культурном отношении от Тан, также плавали там, [34] а в Дэнчжоу (Шаньдун) даже существовали государственные постоялые дворы для
(25/26)
обслуживания посланцев как из государства Бохай, так и из государства Силла. [35] Но больше всего было корейцев, которые составляли значительное инородное тело в пределах Китая, занимая обширные районы в городах Чучжоу и Ляньшуй, на системе каналов между Янцзы и Жёлтой рекой, и пользуясь, как и другие иностранцы, некоторыми правами экстерриториальности. [36]
Однако бóльшая часть морской торговли Китая шла через Южно-Китайское море и Индийский океан, завися от сезонных муссонных ветров. Парусники, отчаливавшие из Гуанчжоу, шли под северо-восточным муссоном, если пускались в путь поздней осенью или зимой. [37] Северо-восточный муссон был также благоприятным ветром для отправления из крупных портов Персидского залива, лежавших на тысячи миль к западу от Китая. Ещё до того, как торговые суда покидали Гуанчжоу, мусульманские парусники уже были в пути. Если они выходили из Басры или Сирафа в сентябре или в октябре, то оказывались за пределами Персидского залива как раз во время попутного зимнего муссона, гнавшего их через Индийский океан, и могли надеяться захватить в июне буйный юго-западный муссон, который доставил бы их путём, пролегавшим севернее Малайи, через Южно-Китайское море, к цели их путешествия — в Южный Китай. Правило и для тех, кто плыл с востока, и для тех, кто плыл с запада, существовало одно: «к югу — зимой, к северу — летом». [38]
С VII по IX в. Индийский океан был богатым и безопасным бассейном, заполненным парусниками самых разных народов. Аравийское море находилось под контролем мусульман, и когда при Аббасидах столица Халифата была перенесена из Дамаска в Багдад, связанный с Персидским заливом рекой Шатт-эль-араб, торговля с Востоком стала весьма процветающей. [39] Арабский город Басра был ближайшим к Багдаду портом, но большие корабли не могли подниматься до него по реке. Ниже Басры, уже на берегу залива, находился старый порт Убуллах, служивший ещё царям Ирана. Но самым богатым городом Персидского залива был Сираф (на восточном побережье, ниже Шираза). Своим процветанием этот город был целиком обязан торговле с Востоком, а его главенство среди портов Персидского залива сохранялось до 977 г., когда Сираф был разрушен землетрясением. [40] Население города состояло главным образом из персов, но были там и арабы — искатели жемчуга, и не боявшиеся риска купцы из Месопотамии и Омана, появлявшиеся, чтобы раздобыть судно для путешествия в Индию и Китай. [41] Упадок Сирафа был бедствием для торговли с Дальним Востоком, которая сократилась ещё раньше, после разрушения Басры и Убаллаха в 870 г. восставшими рабами из Африки. [42]
(26/27)
Из этих портов отчаливали суда разных народов, но укомплектовывались они персоязычными командами: персидский язык служил lingua franca на Южных морях, точно так же как согдийский — на караванных дорогах Центральной Азии. [43] Прежде чем выйти в Индийский океан, суда обычно заходили в Маскат, порт в Омане, а затем, может быть, отваживались заходить в порты на Синдском побережье, посещавшиеся пиратами, или же следовали прямо на Малабар [44] и оттуда на Цейлон, называвшийся также Львиной страной или Островом рубинов, где торговцы-мореходы закупали драгоценные камни. [45] Отсюда путь лежал на восток, к Никобарским островам, где, вероятно, они выменивали у голых дикарей, подплывавших к кораблям на каноэ, кокосовые орехи или серую амбру. Затем они заходили на полуостров Малакку (видимо, в Кедах) и оттуда через Малаккский пролив в страну золота — Суварнабхуми, «сказочные Индии». В конце концов купеческие корабли поворачивали на север, подгоняемые влажным летним муссоном, — за шёлковыми тканями в Ханой или Гуанчжоу, а то и севернее. [46]
Морские торговые суда, заполнявшие в танскую эпоху порты Китая, назывались среди китайцев, поражённых их величиной, по-разному: «корабли Южных морей», «корабли западных стран», «корабли варваров-маней», «малайские корабли», «сингалезские корабли», «корабли брахманов» и особо «персидские корабли». [47] Что же касается китайских судов, то они, вне всяких сомнений, не совершали в это время долгих и опасных путешествий в Сираф. Большие парусники, предназначенные для океанских плаваний, появились в Китае только на несколько столетий позже, при династиях Сун, Юань и в начале Мин. [48] В танскую же эпоху китайские путешественники отправлялись на запад на чужеземных кораблях. Когда арабские авторы IX-X вв. говорят о «китайских судах» в гаванях Персидского залива, они имеют в виду торговые суда, использовавшиеся китайцами, точно так же как мы говорим «китайские клипперы» или «ост-индские корабли». Арабы и персы называли корицу и сандаловое дерево из Индонезии «китайскими» потому, что их привозили из стран, расположенных рядом с Китаем, и, видимо, на судах, принадлежавших китайцам. [49] Точно так же «персидские корабли», о которых писали китайцы, были просто судами, занятыми торговлей между Китаем и Персидским заливом, часто с малайской или тамильской командой. [50]
В китайских источниках говорится, что самые крупные парусники, участвовавшие в этой оживлённой торговле, были с Цейлона. Их длина составляла двести чи, и вмещали они шестьсот-семьсот человек. Многие из них имели спасательные шлюпки и прирученных голубей. [51] Одномачтовые арабские суда,
(27/28)
строившиеся в Персидском заливе, были меньше, имели треугольные паруса, а их корпус, обшитый досками, как у каравелл, [52] не скреплялся гвоздями, а связывался пенькой и пропитывался для водонепроницаемости китовым жиром или китайской смолой, которая, застывая, становилась как чёрный лак. [53]
Сухопутные дороги и караваны. ^
Богатства восточных народов стекались в Китай и по суше: с севера и с востока, с юго-запада и с северо-запада, в повозках или на верблюдах, лошадьми или на ослах. Изделия народов Маньчжурии и Кореи шли в Китай через леса и равнины Ляояна, населённые тунгусскими и протомонгольскими племенами, затем достигали побережья Бохайского залива в той крайней точке, где Великая китайская стена заканчивалась, оставляя узкий проход между горами и морем. Здесь существовал посёлок, называвшийся Чёрный Дракон (Лулун), и протекала река Юй, теперь не существующая. Здесь же была китайская пограничная крепость и таможенный пост. [54]
Великий шёлковый путь, приводивший в Самарканд, Иран и Сирию, начинался от северо-западных границ Китая и шёл по краю пустыни Гоби. За Яшмовыми Воротами начинались несколько — на выбор — дорог, но ни одну из них нельзя назвать приятной. Направление караванного пути зачастую можно было определить по человеческим скелетам и костям павших животных. Такой была ужасная дорога от Дуньхуана до Турфана напрямик, пересекавшая Барханы Белого Дракона — соляную пустыню, некогда составлявшую часть дна озера Лобнор. Проводники предпочитали идти дорогой через Иу (Хами), [55] делая по пути к Турфану большой крюк на север, [56] так как считалось, что совершенно безлюдные Барханы Белого Дракона населены нечистой силой. От Турфана можно было идти на запад, через земли западных тюрок, севернее Небесных Гор (Тянь-Шань), или повернуть на юго-запад, пройдя южнее этих гор, и проследовать через Кучу и другие оазисы Восточного Туркестана. Кроме того, существовала параллельная дорога из Дуньхуана (Южная дорога) вдоль северной оконечности таинственных гор Куньлунь и далее через Хотан на Памир. [57] Эти дороги были проходимы только благодаря исключительным достоинствам бактрийских (двугорбых) верблюдов, которые могли отыскивать для изнывающих от жажды купцов подземные родники, а также чувствовали приближение смертоносных песчаных бурь:
«Когда приближается такой ветер, лишь старые верблюды чувствуют его заранее. Они сразу же сбиваются в кучу и по-
(28/29)
гружают свои морды в песок. Люди замечают это и тотчас же закрывают рты и носы войлоком. Этот ветер налетает мгновенно и так же внезапно стихает, но если не защитить себя подобным образом, то непременно погибнешь». [58]
Другой сухопутный торговый маршрут — очень старый, но мало использовавшийся до танской эпохи — проходил из Сычуани через современную провинцию Юньнань, на территории Бирмы разделялся на две дороги по страшным ущельям верховьев реки Иравади и затем приводил в Бенгалию. Провинция Юньнань в те времена была областью, населённой «варварами», которых танское правительство безуспешно пыталось покорить. Попытки вновь открыть сообщение с Бирмой по этому старому пути потерпели полный крах в результате возвышения в VIII в. нового государства — Наньчжао, более расположенного не к танскому государству, а к тибетцам, постоянно тревожившим пограничные области Китая. Только после вторжения Наньчжао в Тонкин в 863 г. китайцам удалось подорвать его военное могущество. Но в это время международная торговля Китая пришла в упадок, так что победа эта могла принести уже мало пользы. Одна из этих дорог в Бирме проходила поблизости от копей янтаря в Мьичине, неподалеку от той местности, где уже в новое время добывали пользовавшийся известностью жадеит цвета зимородка. Его тоже отсылали в гранильные мастерские Пекина по старому пути через Юньнань. [59]
И, наконец, буддийские паломники иногда пользовались извилистым и трудным путём из Китая в Индию через Тибет, проходившим, как правило, через Непал. [60]
Чужеземцы, осевшие в танском Китае. ^
Обратимся теперь к большим и малым городам Китая, в которых сосредоточивались иноземцы, а также к дорогам, по которым они передвигались внутри страны. Начнём с юга. В дотанские времена мореплаватели, достигавшие Южно-Китайского моря, обычно бросали якоря в Тонкине, в районе современного Ханоя. После упрочения династии Тан купцы из Аравии и «Индий» стали направлять свои суда в Гуанчжоу и даже севернее. [61] В это время Цзяочжоу был местом, из которого китайцы осуществляли контроль над приверженными к бетелю жителями Тонкина, а пристанью для судов служил Лунбянь. [62] В VII в., с возвышением роли Гуанчжоу, морская торговля Цзяочжоу пришла в упадок, но никогда не затухала полностью. Она даже снова расширилась в середине VIII в. и в последних десятилетиях этого столетия, когда иностранные купцы, избегая вымогательств, ожидавших их в Гуанчжоу со стороны алч-
(29/30)
ных чиновников и торговых агентов, предпочитали идти в Цзяочжоу. [63]
Но среди всех городов Юга, в которые стекались иноземные торговцы, не было города более процветающего, чем Гуанчжоу — крупный порт, называвшийся у арабов Ханфу, а у индийцев — Чина. [64] Гуанчжоу был тогда пограничным городом, на краю необжитых тропиков, населённых дикарями и страшными животными, заражённых опасными болезнями. Приятная сторона такого расположения порта состояла в изобилии апельсинов, бананов, баньяна и орехов личжи. За время правления танских императоров он превратился в чисто китайский город, несмотря на то что большую часть его двухсоттысячного населения составляли «варвары». [65] При всех своих богатствах Гуанчжоу выглядел неказисто: тройная стена окружала скопление деревянных домиков с соломенными крышами, которые не раз сметались опустошительными пожарами, пока в 806 г. просвещённый градоначальник не приказал жителям делать крыши из черепицы. [66] У причалов этого яркого и немного иллюзорного города стояли «суда брахманов, персов и малайцев, сколько — и не счесть, все нагруженные благовониями и пряностями, разными лекарствами, редкими и дорогими вещами, и тюки на них возвышались, как холмы». [67] Смуглые иноземцы в обмен на свои почти легендарные снадобья и на душистую древесину тропических пород получали здесь тюки шёлка, ящики с фарфором и рабов. Они обогащали китайских дельцов, охотно отказавшихся от комфорта на севере ради прибылей на юге, и обеспечивали высокое положение правителя самого Гуанчжоу и прилегающей области; правитель «носил шесть бунчужных хвостов яка — по бунчуку на каждое своё войско — и могуществом и достоинством не отличался от Сына Неба». [68]
Многие из приезжих селились в иностранном квартале Гуанчжоу, расположенном по повелению императора в стороне, к югу от реки, для удобства многочисленных представителей разных стран и народов, которым приходилось оставаться в городе для ведения дел или в ожидании благоприятного ветра. Они управлялись специально назначавшимся старейшиной и пользовались некоторым правом экстерриториальности. [69] Здесь купцы из цивилизованных стран, вроде арабов или сингалезцев, вплотную сталкивались с торговцами более отсталых народов, например «белых варваров маней» или «красных варваров маней». [70] Правоверные буддисты из Индии, в монастырях которых существовали пруды, украшенные благоухающими голубыми лотосами, [71] находились рядом с мусульманскими еретиками — шиитами, бежавшими от гонений в Хорасане и воздвигшими свою собственную мечеть на Дальнем Востоке. [72] Словом, здесь, в Гуанчжоу, иностранцы самых разных кровей и китайцы
(30/31)
со всех концов страны ежедневно по полуденному сигналу барабанов толпами заполняли огромный рынок, хитрили на складах, торговались в лавках, а на закате барабаны призывали их разойтись по своим кварталам или — в некоторых случаях — ещё громче торговаться на своих необычных наречиях во время ночных торгов. [73]
Пёстрая история этого преуспевающего города переполнена и убийствами, и пиратскими набегами, и хищениями продажных чиновников. И поскольку пороки пускали корни всё глубже, одно зло порождало другое. Так, к примеру, капитан малайского грузового судна убил правителя Лу Юань-жуя, который, злоупотребив своим положением, обобрал капитана. Это произошло в 684 г., т.е. во времена во всех остальных отношениях совершенно безмятежные. Центральное правительство сразу прислало вместо негодяя порядочного человека, [74] но и в последующие годы находилось немало других вельмож в шелках, охотно отказывавшихся от веселья столичной жизни, чтобы за счёт несчастных купцов полностью вознаградить себя за все неудобства провинциальной жизни. В начале VIII в., именно с целью установить в Гуанчжоу хоть какой-то порядок и повиновение, а также чтобы гарантировать правительству получение причитающихся ему доходов, а двору — предметов роскоши, была введена важная и порой весьма прибыльная должность «ревизора торговых судов», своего рода таможенного начальника в этом трудном для контроля портовом городе. [75] В какой-то мере это было сделано по настоянию обобранных иностранцев, обращавшихся с жалобами к императору. [76] Но не только от китайцев приходилось страдать городу: в 758 г. он подвергся набегу шайки, состоявшей из арабов и персов. Они изгнали правителя, разграбили склады, сожгли постройки и ушли морем, видимо, в пиратскую гавань на острове Хайнань; [77] разрушения вывели из строя порт на полвека, на протяжении которого иностранные суда шли в Ханой. [78]
Ещё одним бедствием, немало досаждавшим этой сокровищнице на границе Китая, стало появившееся во второй половине VIII в. обыкновение назначать евнухов из императорского дворца на ответственный пост «ревизора торговых судов». Такая практика приводила к злоупотреблениям, вызванным вмешательством в торговые дела этих надменных сановников, что деликатно именовалось тогда «дворцовые торги». [79] В 763 г. один из таких высокопоставленных негодяев дошёл до того, что восстал против трона. Только с большим трудом удалось справиться с мятежным евнухом, а торговля тем временем, по существу, прекратилась, остановился приток предметов роскоши, направлявшихся оттуда на север. Поэт Ду Фу так пишет об этом времени в двух своих стихотворениях:
(31/32)
О жемчуге светлом из Южных морей
давно уже все замолчали,
О перьях зелёных на платье юэском
и слухов теперь не бывает. [80]
И ещё:
...теперь не привозят живых носорогов,
а перья зелёные — редко. [81]
Самый честный правитель (подобный Ли Мяню, который начиная с 769 г. три года управлял портом без незаконных поборов со злополучных купцов, так что под его руководством оборот морской торговли возрос в десять раз) [82] не мог удержать от злоупотреблений должностных лиц более низкого ранга. [83] Зато если являлся крупный грабитель в одеждах чиновника, то он мог присвоить в тысячу раз больше, чем мелкие разбойники. Так, в последние годы VIII в. некто Ван Э, собирая пошлины и для государства, и в свою пользу, без конца посылал на север, своей семье, ящики со слоновой костью и жемчугом; в результате его личное состояние превзошло общественную казну. [84] Постоянные жестокие притеснения купцов привели к тому, что какая-то часть торговых операций оказалась перенесённой из Гуанчжоу на юг, в Цзяочжоу, и на север, в порт Хайян (округ Чаочжоу). [85] Но тем не менее жизнь города и его процветание не могли быть нарушены навсегда: в первых десятилетиях IX в. Гуанчжоу везло на честных и просвещённых правителей [86] и дела шли хорошо. Так продолжалось до последней четверти IX в., когда начались предсмертные судороги династии. В 879 г. предводитель мятежников Хуан Чао ограбил город, перебил купцов-иностранцев и уничтожил тутовые рощи, кормившие червей-шелкопрядов — источник сырья для главной отрасли китайского экспорта. Всё это вызвало глубокий упадок благосостояния и престижа города, от которого, несмотря на кратковременное оживление в конце IX в., Гуанчжоу никогда не смог оправиться полностью. [87] Во времена империи Сун корабли всё чаще и чаще стали поворачивать из Южно-Китайского моря к портам Фуцзяни и Чжэцзяна. Гуанчжоу, хотя и оставался значительным портом, навсегда утратил свою монополию на торговлю с Западом.
Индийский монах, посол с острова Ява или купец из Тяма, если они хотели отправиться из Гуанчжоу на север — в сказочную столицу Китая или в какой-либо иной крупный город, могли выбирать между двумя путями, чтобы пересечь горы, преграждавшие путь на север. Одна дорога шла строго в северном направлении по реке Чжэнь (теперь она называется Северная река), пока не достигала Шаочжоу, откуда надо было
(32/33)
повернуть на северо-восток, пройти через Горный Перевал Сливовых Деревьев < Мэйлин > [88] и спуститься в долину реки Гань, по которой можно легко проследовать через современную провинцию Цзянси, через Хунчжоу, где встречалось много персов, [89] и попасть на великую Янцзы — Длинную реку. Таким путем достигали торгового города Янчжоу или добирались до других пунктов в самом сердце Китая. Этот путь через перевал в начале танской эпохи не справлялся с сильно возросшими торговыми перевозками и передвижениями. Поэтому великий министр Чжан Цзю-лин, сам южанин по происхождению, выдвинувшийся из «низов» и симпатизировавший торгово-ремесленным сословиям, решил построить большую новую дорогу через перевал, чтобы способствовать увеличению морской торговли и развитию Гуанчжоу. Этот великий труд был завершён в 716 г. [90]
Другой путь из Гуанчжоу на север — очень старый, но которым пользовались реже, — шёл в северо-западном направлении вверх по реке Гуй < цзян > (Коричная река; от гуй — китайская разновидность корицы) через восточную часть современной провинции Гуанси до истока этой реки на плоскогорье, имеющем высоту менее тысячи чи. С этого же нагорья берёт начало другая крупная река — Сян, следуя по которой на север, через Таньчжоу (Чанша) в провинции Хунань, попадали на изобилующие водными артериями равнины Центрального Китая. В верхнем течении река Сян называлась рекой Ли, а её исток был соединён с истоком реки Гуй древним (уже в танское время в нём нельзя было узнать искусственное сооружение) каналом, так что истоки рек — той, что текла на север, и той, что текла на юг, — составили теперь как бы одно целое. Поэтому для маленьких лодок оказывался возможным непрерывный путь от Гуанчжоу до больших водных магистралей Центрального и Северного Китая — вплоть до путешествия прямо в столицу. [91]
Оба эти маршрута упоминаются в четверостишии Ли Цюньюя, поэта IX в.:
Прежде я задержался на речке Гуйцзян:
затопил берега её дождь,
А потом не прошёл перевала Мэйлин:
преградил мне дорогу обвал. [92]
Какой бы из этих двух путей ни выбирал путешественник, он попадал затем на большие озера к югу от Янцзы, по которым без особых затруднений можно было проследовать к месту назначения под парусом, на вёслах, с шестами или — с конца VIII в. — даже используя гребные колёса. [93] Обычно целью та-
(33/34)
кого путешествия был город Янчжоу, славившийся своим великолепием.
В VIII в. Янчжоу был жемчужиной Китая. Люди мечтали с честью завершить свои дни, умерев в этом городе. [94] Богатствами и красотой город был обязан своему расположению у места слияния реки Янцзы, вбиравшей в себя все реки центральных областей Китая, с Великим каналом (китайцы называют его Рекой Перевозок), по которому изделия со всего света доставлялись в большие города Северного Китая. Не случайно здесь находилась резиденция императорского чиновника, ведавшего государственной монополией на соль, — очень важной фигуры. Купцы из стран Азии собирались здесь, на большом и оживлённом перекрёстке всей сети водных путей танского Китая, откуда все товары, привозившиеся китайскими и иностранными судами, направлялись по каналам на север. [95] Жители Янчжоу разбогатели благодаря центральному месту, которое их город занимал в распределении по стране соли (она была нужна всем), чая (он в это время как раз стал входить в моду на севере Китая), драгоценных камней, благовоний и лекарств, привозившихся из Гуанчжоу, а также дорогих узорных тканей и гобеленов, доставлявшихся по Янцзы из Сычуани. [96] Кроме того, Янчжоу был центром банковских операций и торговли золотом в стране, так что банкиры играли в его жизни не менее важную роль, чем купцы. Словом, это был шумный деловой город, где деньги текли рекой. [97] Но Янчжоу был и ремесленным центром, славившимся своими прекрасными изделиями из металла, особенно бронзовыми зеркалами, своими войлочными шляпами, модными среди молодых людей Чанъани, своими шёлковыми изделиями, парчой и тонким полотном из волокна рами, своим очищенным сахаром, производившимся здесь с VII в. по способу, заимствованному из Магадхи, своими верфями и превосходными изделиями столяров. [98] Это был весёлый город нарядных людей, в котором всегда устраивались лучшие представления, город парков и садов — настоящая Венеция, пересечённая водными магистралями, так что лодок здесь было больше, чем экипажей. [99] Это был город, который жил и после заката — при свете луны и фонарей, город песен и танцев, город куртизанок. «Янчжоу — город первый, а я — второй», — говорилось в эпиграмме о городе Чэнду (Сычуань), прочная слава об изысканности и блестящем легкомыслии которого, равно как и его постоянном процветании, потускнела с расцветом Янчжоу. [100]
Вполне естественно, что иностранные купцы заводили здесь свои лавки. [101] Известно, что число их было весьма значительным: толпы мятежников во главе с Тянь Шэнь-гуном убили несколько тысяч арабских и персидских предпринимателей,
(34/35)
когда в 760 г. разграбили Янчжоу. [102] Несмотря на разгром, город сохранял свои богатства и блеск до последних десятилетий IX в., когда был опустошён двумя соперничавшими главарями, Би Ши-до и Сунь Шу, — шакалами, которые следовали по следу крупного тигра Хуан Чао. Прежняя слава Янчжоу была частично восстановлена царством У, новым государством, возникшим на развалинах танской империи в начале X в. Но в середине X в. город был снова разрушен — на этот раз северным царством Чжоу, напавшим на государство Южное Тан, преемника царства У. [103] Запустение, в котором город Янчжоу находился в начале сунского периода, становилось ещё более тяжким в результате политики императоров новой династии, поддерживавших развитие торговли, перевозок и финансов в местечке Янцзы, позднее получившем название Чжэньчжоу. Оно находилось ближе к Длинной реке (Янцзы), чем Янчжоу, и оттуда изделия направлялись в другие пункты. [104] Хун Май, писавший в XII в., высказывает недоумение по поводу восторга, выражавшегося поэтами VIII-IX вв. в отношении Янчжоу: в его дни этот город мог только «бить в нос зловонием». [105]
Возвышение Янчжоу (вместе с повышением роли Великого канала) было делом рук императоров династей [династии] Суй, но подлинный расцвет и самого города, и канала приходится на VIII в. При том небывалом росте и населения и благосостояния, которое Китай переживал в это время, поля, орошавшиеся Жёлтой рекой, оказались не в состоянии прокормить две столицы и остальные города Северного Китая, хлеб пришлось ввозить туда из района Янцзы. Новые требования, предъявленные временем, создали непредвиденную перегрузку старой системы каналов. Выход был найден в 734 г.: вдоль всего пути от Янчжоу до Чанъани, в наиболее «узких» местах, были построены амбары для зерна, где хлеб мог должным образом храниться до тех пор, пока транспортные магистрали не разгружались настолько, чтобы обеспечить его дальнейшую перевозку к пункту назначения. Это предотвращало задержки и «пробки» в пути, а также порчу зерна и хищения, позволяя не спеша перевозить рис и просо на судах подходящих габаритов. Таким образом был организован постоянный приток зерна на север. В то же время новая система организации перевозок позволила исподволь (или по крайней мере без широкой огласки) использовать лодки и водные пути для перевозок с далекого юга страны предметов роскоши во всевозрастающих количествах: [106] слоновая кость, черепаховые панцири и сандаловое дерево грузились теперь на баржи, предназначенные первоначально для доставки мешков с зерном.
Путешественник (ничего не ведая, как и капитан такой баржи, об этих серьёзных экономических проблемах) мог, поки-
(35/36)
нув Янчжоу, проследовать по Реке Перевозок (если он не предпочитал ехать верхом или в повозке) на север и на запад, дивясь на большие стаи уток и гусей, вспархивающих с шумом вокруг его лодки. [107] Он должен был проплывать мимо барж соляного управления, сверкающих на солнце, как снег, и, возможно, захотел бы сделать остановку в цветущих городах Суйян и Чэньлю, в каждом из которых были большие фактории иностранцев, особенно персов, или в Бяньчжоу (Кайфэн), где находился храм Священного Огня, [108] городе, население которого уже превышало полмиллиона, но слава которого как столицы была ещё впереди. Наконец путешественник попадал в древний город Лоян — Восточную столицу империи.
Иностранцы, посещавшие Китай или оседавшие там, тяготели к оживлённым торговым городам на юге страны вроде Гуанчжоу или Янчжоу. Но их притягивали и почтенные города Северного Китая, средоточие политической власти, местопребывание знати, где истинный знаток книг или великий воин ценились гораздо больше, чем удачливый купец. Из двух великих столиц Лоян стоял рангом ниже, по количеству населения он тоже был вторым городом империи: в нём жило более миллиона человек. [109] Лоян берёг свои священные тысячелетние традиции, не уступая почёта и славы даже Чанъани, а духовная атмосфера, пропитывавшая его, была более умеренной и утончённой, чем в его западной сопернице. Лоян, эта «божественная столица» [110] императрицы У, был на пути к тому, чем он стал в XI в. — самым величественным и прекрасным городом Китая. В нём были дворцы, парки и толпы чиновников. Он был известен своими замечательными фруктами и цветами, своей узорной камкой и превосходными шелками, своими керамическими изделиями самого разного рода. [111] Огромная торговая площадь — Южный рынок — занимала два квартала (фан), где были сосредоточены 120 базаров-рядов, специализировавшихся на продаже какого-то одного вида изделий, и тысячи отдельных лавок и складов. [112] Для иноземцев, ведших здесь дела, имелись постоянные храмы для иноземных богов, в том числе три храма Священного Огня, что свидетельствует о существовании в Лояне персидской колонии. [113]
В 743 г. восточнее Чанъани, Западной столицы, было сооружено искусственное озеро — водоём, предназначенный для перегрузки судов. Житель Северного Китая, привыкший к поговорке «Лодки — на юге, лошади — на севере», мог в тот год с удивлением наблюдать, как со всех концов империи в новое водохранилище собирались лодки, гружённые товарами, внесенными как подать или доставленными в качестве дани ко двору. Здесь были алые войлочные попоны с севера, багряные горьковатые мандарины с юга, розовые паласы с шёлковой ба-
(36/37)
хромой с востока, малиновые квасцы с запада. Все товары перегружались здесь на баржи, команды которых, по образцу лодочников на Янцзы, были специально одеты в бамбуковые шляпы от дождя, куртки с рукавами и соломенные туфли. [114] Здесь заканчивался долгий водный путь от Гуанчжоу до крупнейшего города того времени.
Со своими без малого двумя миллионами податного населения Чанъань была в десять раз более многолюдным городом, чем Гуанчжоу, расположенный на другом конце этой длинной сети рек и каналов. Пропорционально этому было больше и число иноземцев, живших в столице. [115] Но здесь международная прослойка по своему составу была совсем иной, чем в южном порту. В столице жили главным образом выходцы с севера и с запада — тюрки, уйгуры, тохаристанцы, согдийцы, тогда как Гуанчжоу наполняли жители Тяма, кхмеры, яванцы и сингалезцы. Но, правда, и в Гуанчжоу и в Чанъани жило много арабов, персов и индийцев. В целом иранское население было наиболее многочисленным. Танское правительство даже имело Ведомство сартхаваков (буквально, «погонщиков караванов»), чтобы блюсти их интересы. [116]
В Чанъани было два больших рынка — Восточный и Западный, каждый с множеством рядов. Восточный рынок, менее людный, располагался поблизости от особняков знати и чиновников и был сравнительно тихим и богатым. Западный рынок, более простонародный, был крикливым и необузданным (здесь же, кстати, казнили преступников), но и более экзотичным. Каждый ряд, предназначенный только для одного рода товаров, имел своего старосту (хантоу) и был окружён складами. По закону требовалось, чтобы каждый такой ряд имел подобие вывески — знак, сообщающий, каким товаром здесь торгуют. Проходя по Западному рынку, где вело торговлю большинство иностранных купцов, можно было последовательно видеть мясной ряд, кузнечный ряд, одежный ряд, шорный ряд, шёлковый ряд и лекарственный ряд. [117] С середины VIII в. получила широкое распространение торговля чаем. Эта новая мода пить чай захватила не только китайцев: есть сведения в источниках, что уйгуры, прибывавшие в столицу, прежде всего направляли своих коней к лавкам торговцев чаем. [118] Среди иностранных торговцев на Западном рынке главенствовали соотечественники этих любителей чая — уйгуры-ростовщики, которым бесчисленные китайские дельцы, искатели кредита или молодые моты в обеспечение взятых денег закладывали землю, домашнюю утварь, рабов и даже священные реликвии. В первые десятилетия IX в. цены неуклонно росли, любой был в долгах, и этих ростовщиков стали воспринимать как национальное бедствие. Наглость этих тюрок действительно не имела предела: один из
(37/38)
них был арестован за то, что средь бела дня заколол некоего купца, но староста ростовщиков освободил его без всякого расследования инцидента с китайской стороны. [119] Всеобщее возмущение против них возрастало, пока наконец в 836 г. все частные сделки с «людьми иного цвета» не были запрещены. [120] Невыносимое высокомерие уйгуров было одной из серьёзных причин вспышки ненависти ко всему иностранному в середине IX в. и преследований иноземных религий.
У горожанина были сотни способов утешить себя, сделав при этом ещё больше долгов. Он мог, например, отправиться на любое из великого множества празднеств, танцевальных и драматических зрелищ, которые устраивались в богатых буддийских храмах, разбросанных вокруг города. Среди их репертуара могли быть и новые представления, первоначально возникшие в буддийских странах Индии и Туркестана, одновременно и увлекательные и назидательные. [121] Горожанина, если он был одинок, ожидало совсем другого рода утешение у проституток квартала Пинкан, расположенного между Восточным рынком и императорским дворцом. Знаменитая куртизанка, искусная в музыке, танцах и в обхождении, которую он мог здесь встретить, подарила бы его своей благосклонностью на эту ночь, заплати он тысячу шестьсот монет её «приёмной матери». [122] Юный аристократ, дороживший добрым именем своего отца, или молодой учёный, стремившийся к успешной сдаче экзаменов на чин — единственному пути к государственной службе, легко могли попасть в любовные сети одной из таких чародеек. И если у него был какой-то литературный дар, он воспевал её, окруженную волшебным ореолом, в своих стихах или новеллах. [123] Менее дорогими, но гораздо более экзотическими были развлечения в тавернах, расположенных полосой вдоль восточной окраины города, к югу от ворот Весеннего сияния — места, удобного для проводов друга, отправляющегося в Лоян или на восток. Здесь предприимчивые трактирщики, заботясь о своих доходах, держали экзотически привлекательных западных девушек — тохаристанских или, скажем, согдийских, — чтобы они подавали редкостные вина в янтарных или агатовых чашах. Выручку увеличивали и их сладостные песни, и соблазнительные танцы под аккомпанемент западных мальчиков-флейтистов, но особенно — приветливое обхождение:
Чужеземная дева
манит белой своею рукою,
Чтобы гость на пиру
опьянился из кубка златого. [124]
Эти смущавшие покой поэтов услужливые зеленоглазые красавицы, часто золотоволосые, оставили след в танской литературе. Вот как писал о них Ли Во:
(38/39)
Цинь напевает: «В Воротах Дракона
зелень свежа шелковицы.
В яшмовом кубке отменно вино —
с небом прозрачным сравнится.
Струны проверю, колки обмету —
выпейте, сударь, со мною:
Красное станет для нас бирюзовым,
чуть зарумянятся лица».
У чужеземки —
облик, подобный цветку,
Возле жаровни
смех её ветром промчится.
Смех её ветром промчится,
Тонкое платье танцует:
«Сударь, пока вы не вовсе пьяны,
вас на покой отведу я». [125]
На этом приятном месте мы расстанемся с Чанъанью и коротко рассмотрим остальные китайские города, в которые стремились попасть иностранцы. Иноземные купцы, конечно, встречались повсюду, куда их могли заманить прибыли. Их можно было найти в богатых горных долинах Сычуани, куда они попадали в поисках тафты, и в болотистых низинах вокруг озера Дунтин. [126] Но из всех областей, которые не были связаны водными путями с главными городами страны, иноземцы более всего предпочитали селиться в районах караванного «коридора», ведущего на запад, в Туркестан. Здесь, по краю пустыни Гоби, существовали расположенные через правильные интервалы китайские города, в которых были устроены караван-сараи. Политическое положение всех этих городов, в которых можно было всегда найти иранских огнепоклонников и музыкантов, оставалось довольно неопределённым: один год здесь сидели, ссылаясь на древних мудрецов и наставляя жителей в добродетели, китайские наместники; на следующий год, потрясая своими луками, сюда врывались тюрки; зачастую владетелями этих городов оказывались тибетские князья. Типичным образцом многоязыких аванпостов Китая служит старинный город Лянчжоу, некогда принадлежавший сюнну и их кочевым преемникам. Какое-то время здесь была ставка царственного полководца Гэшу Ханя, развлекавшего избранных гостей львиными пантомимами, танцами с мечами и внимательным попечением девушек с алыми губами, разносивших чаши. [127] В VIII в. в Лянчжоу было более ста тысяч постоянных обитателей, славившихся твёрдым и неподатливым нравом, поскольку они жили под влиянием Белого Тигра и знака металла. [128] Определённую часть горожан составляли китайцы, многие были по происхождению индийцами и назывались — по этническому имени — на китайский манер «синьду»; немало было здесь и выходцев из стран между Оксом и Яксартом. [129] Здесь сущест-
(39/40)
вовали первоклассные пастбища для лошадей, особенно вдоль реки, которая ещё сохраняла своё древнемонгольское название Тюмиген, означавшее на языке сяньби «костный мозг» и полученное этой рекой за плодородие земель в её долине. [130] Здесь также ткали тонкую камку, плели циновки и выделывали шкуры диких лошадей. Славился Лянчжоу и своим превосходным средством от головных болей. [131] Этот город, служивший для китайцев своего рода символом экзотики в родных стенах (как Гавайи для американцев в XX в.), был как бы тиглем, в котором сплавлялось воедино иноземное и китайское. В частности, «гибридная» музыка Лянчжоу, чужая и понятная одновременно, которую нельзя было в полной мере назвать ни китайской, ни иностранной, в раннем средневековье вошла в моду на всём Дальнем Востоке.
Отношение к иностранцам. ^
Китайская политика по отношению к иностранцам и взаимоотношения китайцев с чужеземцами складывались далеко не просто. Даже в разгар моды на экзотику самая правильная линия поведения для чужеземцев состояла в том, чтобы воспринять китайские обычаи и образ мыслей, как это многие и делали. Однако иногда правительство лишало иноземцев такой возможности. Например, указ 779 г. обязывал уйгуров, живущих в столице (а таких тогда насчитывалось около тысячи), носить своё национальное платье и запрещал им «соблазнять» китаянок, беря их себе в жёны или наложницы, и вообще подделываться под китайцев любым другим способом. [132] Этот закон мог быть вызван всеобщим негодованием против уйгуров-ростовщиков, но другие постановления такого же характера не имели под собой никакой иной подоплёки, кроме попечения благочестивых властей о сохранении в чистоте китайских обычаев. Так, в частности, произошло, когда Лу Цзюнь, став правителем Гуанчжоу в 836 г., обнаружил, что китайцы и иностранцы живут в этом городе, никак не разделяясь друг с другом, свободно заключая между собой браки. Он принудил их обособиться, положил конец заключению смешаных браков и даже запретил иноземцам владеть землёй и домами. Лу Цзюнь считал себя человеком высоких идеалов, предназначенным призвать к порядку этот распущенный портовый город, — словом, он был своего рода поборником этнической чистоты. [133]
Такие китайские стереотипы, как богатый (и потому жадный) перс, [134] чёрный (и потому безобразный) малаец, голый (и потому безнравственный) житель Тяма, относились к числу широко распространённых в народе представлений и не играли особой роли в официальной политике но отношению к иностран-
(40/41)
цам. Да и само это народное мнение об иностранцах было двойственным. Те же самые юные поэты, которые могли томиться от любви к прекрасным иранским служанкам из столичных винных лавочек, охотно смеялись над куклами-марионетками, изображавшими пьяных людей с Запада — в остроконечной шапке, с голубыми глазами и огромным носом (такими куклами развлекались в публичных домах): когда забавная фигурка выступала вперёд, гость, на которого она при этом указывала, должен был осушить свою чашу. [135] Восьмой век был столетием необычайной популярности в китайских городах арфистов и танцоров из Средней Азии, но это было также и столетие, известное избиением тысяч безобидных (но богатых) персидских и арабских торговцев в Янчжоу. В IX в., когда экзотические вещи оказались намного более труднодоступными и дорогими, получила широкое распространение экзотическая литература, изобилующая романтическими воспоминаниями о прошлом. Любопытно, что то же самое время, когда по всему Китаю ходили рассказы о щедрых миллионерах с далекого Запада, [136] стало вместе с тем и эпохой неприязни и гонений на иностранцев. В этот период двойственного отношения иноземец был в состоянии даже возвыситься до высокого положения на государственной службе, особенно если он оказывался связанным с новой знатью, созданной — в противовес потомственной аристократии — с помощью системы государственных экзаменов. Мы знаем, к примеру, случай, когда один араб в середине IX в. удостоился пожалования высшей степени «возвысившийся муж» (цзиньши). В повседневной жизни Китая имелось немало факторов, способствовавших отделению вымышленного образа «идеального» иностранца от реальных чужеземцев: и повышение цен, вместе с которыми росло негодование против богатых торговцев, и слабеющая политическая власть, допускавшая вторжение иноземцев в пределы Китая. [137] Словом, недоверие или ненависть к иностранцам не были решительно несовместимыми с любовью к экзотическому. В прекрасные дни VII и VIII вв. эта любовь была вполне реальной, но в IX-X вв. она сохранялась, набальзамированная, в литературе. Теперь она служила лишь напоминанием о лучших временах, когда иноземцы повсюду признавали превосходство и китайского оружия, и китайских ремёсел, а рядовой китайский подданный мог потешить себя редкостными товарами из отдалённых стран.
Так и в наши дни бывший немецкий солдат может с тоскою вспоминать о тех днях, когда он запросто пил любые французские вина, отнюдь не считая при этом француза равным себе, а бывший чиновник английской администрации грустит о богатствах «варварской» Индии в рамках Британской империи.
(41/42)
Чужеземцы всегда кажутся недостойными их собственных сокровищ.
Было нечто двойственное и в отношении китайцев к торговле с иностранцами. Торговля никогда не была свободна от политических осложнений. Чем более были необходимы товары для общего благосостояния или чем больше был на них спрос среди высших кругов, тем вероятнее было, что власти примут участие в распределении этих товаров. Традиционная государственная монополия на такие предметы повседневного обихода, как соль, железо, металлические деньги, а временами вино и другие продукты широкого потребления, послужила моделью для системы контроля за торговлей заграничными предметами роскоши. Прообразом и идеалом для новой должности «ревизора торговых судов», созданной в Гуанчжоу в VIII в., послужила существовавшая с давних времён должность «ревизора по соли и железу». Ему вменялось в обязанность скупать те привозные товары, над которыми государство стремилось установить контроль (в первую очередь товары, на которые существовал спрос двора и кругов, приближённых ко двору), пресекать контрабанду и действовать по примеру внутренних монополий старого образца. [138] Такая политика приводила к тесному сплетению коммерции с дипломатией, а подношения иноземных народов императорскому двору, часто состоявшие из большого количества дорогих вещей и считавшиеся выражением покорности вседержавной власти Сына Неба, оказывались на деле существенной частью международной торговли Китая. [139] Но нельзя смотреть на эти отношения только с одной стороны и считать, что «покорившиеся народы» были вынуждены преподносить эту дань. Иноземные владения — и те, что действительно трепетали в непосредственной близости от Китая, и те, удалённость которых позволяла им чувствовать себя совершенно независимыми, — вывозя свои товары в Китай, явно преследовали выгоду для себя, получая за свои хлопоты от китайцев вожделенные ответные «дары». [140] Для иностранного купца в существовавшей системе были уготованы известные ограничения. Он не мог вести свои дела совершенно свободно: предполагалось, что такой купец обязан представить определённую часть изделий в императорскую столицу или передать её на государственные склады в порту прибытия. Если он пытался заключать сделки с частными лицами, то вполне мог ожидать вмешательства властей и даже навлечь этим на себя неприятности. Местный чиновник был скорее склонен перегнуть палку, следуя правительственным предписаниям, чем рисковать своей головой, проявляя излишнюю снисходительность. [141] Даже теми товарами, которые иноземцу позволялось свободно продавать населению, [142] он должен был торговать на
(42/43)
одном из больших рынков, находившихся под тщательным наблюдением государственных чиновников. Ещё сложнее обстояло дело как раз с теми китайскими товарами, которые этот иностранец особенно стремился привезти к себе на родину: чиновники наиболее ревностно следили за тем, чтобы правительство не лишилось своей доли в барышах. Мы можем судить об ассортименте таких товаров по указу 714 г., запрещавшему вывоз из страны или продажу иностранцам гобеленов, узорных тканей, газа, крепов, парчи и всяких необычных шелков, а также хвостов яков, жемчугов, золота и железа. [143] С другой стороны, существовал весьма неопределённый правительственный запрет на ввоз и продажу китайцам всего, что могло быть сочтено легкомысленным и вредным для нравственности, хотя такие товары могли оказаться на деле наиболее выгодными среди купеческого груза. Даже продажа имитаций предметов роскоши и поддельных вещей, угрожавшая, если обман вскрывался, тюремным заключением, [144] была весьма прибыльным занятием, как в этом убедился в Гуанчжоу неудачливый персидский жрец, специализировавшийся на производстве экзотических «диковин» для избалованного императорского двора. [145] Но и разумный купец, осведомлённый, что можно ввозить и что можно вывозить и на каких условиях, даже если он торговал честно, имел возможность вести дела с большой выгодой для себя — в этом можно убедиться по тысячам иностранных купцов, приезжавших в Китай. Однако и самого умудрённого купца ожидал целый ряд других опасностей. В частности, если местные чиновники не слишком внимали нравственным принципам, предписывавшимся китайским должностным лицам, то под видом «таможенной пошлины» они могли оставить купца без значительной части его товаров. И даже если таможенный надзиратель был человеком строгих правил, то чрезмерными оказывались требования правительства. Один арабский географ сообщает, что его соотечественники обязаны были по прибытии в Китай передавать на государственные склады треть своих грузов. [146] Но и тут не было ни постоянства, ни твёрдых установлений. То, что было в прошлом году капризом, в следующем году становилось коммерческой политикой. Время от времени наступало послабление: указы двора делали положение купца более сносным, а его надежду на большие прибыли более реальной. Таким было постановление, подписанное Вэнь-цзуном в 834 г. по случаю высочайшего выздоровления от болезни. В этом указе наряду с объявлением амнистии разным категориям преступников особо выказывалось покровительственное отношение императора к чужеземцам из-за моря, ведущим торговлю в Гуандуне, Фуцзяни и Янчжоу, а местным властям предписывалось не мешать им торговать свободно, без обложения излишними
(43/44)
пошлинами, поскольку они отдали себя на милостивое попечение монарха. [147]
Существовали и другие проблемы для иностранцев, поселившихся в Китае. Им приходилось испытывать социальное и экономическое бесправие не только в сфере коммерции. Когда иностранец-купец имел несчастье умереть в Китае, его товары опечатывали и государство конфисковало их, если сразу не объявлялись жена или наследник. [148] Розыски наследников не должны были заходить слишком далеко. Сверх того, если иноземец брал в жёны или в наложницы китаянку, ему предписывалось оставаться в Китае. Ни в коем случае он не мог забрать китайскую женщину к себе на родину. Так было установлено указом 628 г., изданным со специальной целью оградить китайских женщин от временных браков с посланниками из иностранных государств и членами их миссий, стремившихся окружить себя всеми удобствами на время пребывания вдали от дома. [149] Это правило не распространялось, конечно, на те случаи, когда принцессу из императорского рода отдавали за предводителя кочевых племён. Когда добрые отношения с её будущим мужем оказывались необходимыми для китайской внешней политики, невесту отправляли в степь безропотно. В начале IX в. одна из таких принцесс была отдана замуж за хана уйгуров, находившихся тогда в зените своего могущества. Уйгурское посольство, отправленное, чтобы привезти её, преподнесло двору, как это и полагалось, ответные дары: камлотные ткани, парчу, собольи меха, нефритовые пояса, тысячу лошадей и пятьдесят верблюдов. [150] Мы читаем в источниках, что в VIII в. многие иностранцы, повинуясь этому указу 628 г. или по доброй воле, прожили в Чанъани по сорок лет и больше, все имея жён и детей. [151] При этом, как уже отмечалось выше, иностранец подпадал под действие деспотических сегрегационных законов, только частично смягчавшихся другими постановлениями, разрешавшими иностранным колониям в китайских городах избирать своих старост и улаживать споры между членами таких факторий в соответствии с законами и обычаями своей родины. [152]
Дань. ^
Когда рядовой купец получал официальное разрешение торговать на китайских рынках, он устраивался на постой среди соотечественников и отправлялся по своим делам. Но посол, представляющий иностранное правительство, даже если его в первую очередь интересовали коммерция или по крайней мере выгодный обмен пышных даров, должен был столкнуться с показным великолепием, предназначенным для ослепления пред-
(44/45)
ставителей народов-данников. Его страна была, конечно, готова выказать даннические чувства, но сам посол в тесном кругу своих собутыльников мог позволить себе хитро подмигивать по этому поводу. Только в редких случаях допускалось отступление от этой церемонии. Так, никто не мог сказать, какие знаки покорности китайскому императору были выказаны беглым сасанидским царевичем Перозом и что привёз двору в качестве дани этот последний отпрыск династии, когда он прибыл в Чанъань искать защиты и поддержки у Тай-цзуна против победоносных арабов. [153] Но это был случай исключительный. Обычный же посол — был ли он рядовым дипломатом или близким родичем своего царя, выдающимся священнослужителем или богатым купцом, — как правило, не испытывал особых трудностей, когда дело доходило до выражения покорности. Очень отдалённые страны, заинтересованные в поддержании торговых отношений с Китаем, иногда просили посольства дружественных им соседних владений представлять их интересы вместо того, чтобы посылать собственного посла. Так было, например, в 630 г., когда царство Бали отправило своего представителя с набором того, что производит эта страна, в составе посольства Тяма к китайскому двору. [154]
Посол, прибывший в китайскую столицу, должен был иметь официальные свидетельства его полномочий, чтобы получить полноправный статус. Ища расположения или покровительства династии Тан, чужеземные владетели направляли грамоту, прося о золотом поясе и облачении императорского подданного для себя (существовали такие наряды разных цветов, соответствовавших рангу подданного), о назначении китайского чиновника советником при нём или о присылке экземпляра одного из китайских классических сочинений, а иногда и о том, и о другом, и о третьем. Но более всего был необходим такому послу красивый футляр, в котором он мог бы возить официальный знак своих полномочий. [155] Такие знаки делались из бронзы и имели форму рыбы (точнее, половины такой рыбы). Каждой стране, поддерживавшей регулярные дипломатические отношения с танским двором, предназначалось двенадцать — по числу месяцев в году — таких рыб, разделённых на две части. На каждом таком знаке ставился порядковый номер месяца и было начертано название страны, которой он был вручён. «Мужские» половинки знаков оставляли в императорском дворце, «женские» — отсылали в «обязанные данью» владения. Посол, отправленный в Китай, вёз в парчовом футляре половину рыбы-талисмана, на которой стояло число, соответствующее порядковому обозначению месяца, в котором посол должен был приехать в Чанъань. Если его половина точно совпадала с той, что хранилась в столице, послу жаловали права и блага, соответ-
(45/46)
ствующие его стране. [156] Привилегии не были, конечно, одинаковыми для всех послов. К примеру, размеры пищевого довольствия были пропорциональны удалённости страны от Китая. Поэтому посланцам из Индии, Персии и Аравии полагался шестимесячный рацион; послам из Камбоджи, с Суматры и Явы выдавалось довольствие на четыре месяца, а послам из Тямпы, государства, сопредельного с Китаем, — в расчёте только на три месяца. [157] Посланцы сильных держав не так-то легко уступали друг другу право первенства: когда 11 июня 758 г. посольство уйгурского государства и посольство аббасидского Халифата прибыли одновременно с «данью» к китайскому двору, они схватились друг с другом у дворцовых ворот за право войти в них первыми. Потребовался специальный императорский указ, чтобы установить протокол для этого случая: оба посольства были впущены во дворец одновременно, но через разные ворота — левые и правые. [158]
По прибытии в столицу посольство помещали на время в одной из гостиниц, расположенных у четырёх главных ворот города, в ожидании указаний свыше. [159] С этого момента все действия посла направлялись чиновниками из ведомства Хунлу, [160] отвечавшими и за встречу и приём чужеземных гостей, и за погребение членов императорского рода. [161] Это важное ведомство кроме выполнения своих основных обязанностей занималось ещё и сбором информации о чужеземных странах, представлявшей большую ценность для страны, особенно для военного командования. Специальный представитель Ведомства оружия направлялся для того, чтобы опрашивать послов сразу после их прибытия. Им задавали вопросы о географии и об обычаях их стран, а на основе полученных сведений составлялись карты. [162] Во второй половине VIII в. во главе этого ведомства стоял географ Цзя Дань. Говорили, что его превосходное знание мировой географии было результатом опросов приезжих иностранных дипломатов, которые Цзя Дань проводил сам. [163]
Самым ответственным днём за всё время пребывания посла в стране был день, когда его принимал император. В таких случаях всё было рассчитано на то, чтобы поразить иностранца величием и устрашающей мощью танского властителя. Если посол был достаточно высокого ранга, чтобы присутствовать на большом приёме для князей-данников, устраивавшемся в день зимнего солнцестояния, он оказывался перед двенадцатью рядами стражей, выстроенных перед залом для приёмов: меченосцы, алебардщики, копейщики и лучники, каждый отряд в сверкающих шапках определённого цвета и с присвоенной ему эмблемой — пучком перьев попугая или павлина — или со знаменем с вышитым изображением дикого осла, леопарда или
(46/47)
иных символов доблести. Даже менее важный посол видел перед собой дворцовую стражу, нёсшую службу на всех приемах. Она подразделялась на пять отрядов, из которых четыре были одеты в алые рубашки и шапки, украшенные хвостовыми перьями маньчжурских снежных фазанов, а пятый отряд носил плащи из алой тафты, расшитые изображениями диких лошадей. Вся дворцовая стража имела дубинки и мечи у пояса. [164] Ослеплённая этим зрелищем чужеземная миссия приближалась и после подобающего преклонения раскладывала свои подношения вдоль зала для приёмов. Глава посольства после этого приближался к трону и, следуя наставлениям, которые шёпотом подавал ему сопровождавший его китайский чиновник, [165] кланялся императору и говорил: «Ваш покороный [покорный] слуга такой-то и такой-то, из такой-то страны, осмеливается преподнести вам эти приношения из его земли». [166] Император продолжал после этого сидеть в державном молчании, а чиновник протокола принимал от его имени эти дары, а также прочие подарки для раздачи придворным. [167] В ответ приславшему дань царю и его послу присваивались звучные (хотя и чисто номинальные) титулы танской административной системы в знак признания их подданными Сына Неба, а в качестве «жалованья» им вручались богатые подарки. [168] Так, когда царь страны Шрибходжа [169] прислал в знак подчинения дары Сюань-цзуну, император подписал грамоту о признании, устанавливающую: «...и подобает, чтобы было даровано ему облачение подданного, и чтобы был он пожалован без занятия должности [титулом] „великого полководца воинской стражи левого крыла”, и чтобы был поднесён ему пурпурный кафтан и меч с золотой инкрустацией». [170] Приняв от имени своего господина эти отличия, посол в сопровождении сановников удалялся. Теперь он мог рассчитывать на поощрение его трудов в более свободной обстановке, как это было с японским послом в первой половине VIII в.:
«Японская страна, хотя и лежит далеко за морями, отправила своих послов к нашим берегам. Теперь, поскольку они пересекли бирюзовые волны, а также сделали нам подарки изделий их страны, подобает, чтобы этих послов, Мабито Макумона и других, собрали бы на празднество в [Ведомстве] срединной документации в шестнадцатый день сего месяца». [171]
Пристрастие к экзотике. ^
Так принимали иноземцев, привозивших в танскую столицу изысканные диковины, которых жаждали китайская знать и те, кто ей подражал. Пристрастие к экзотике охватывало все слои общества, пронизывало все стороны повседневной жизни:
(47/48)
иранские, индийские и тюркские узоры и украшения можно было встретить на любом виде домашней утвари. Мода на иностранные одеяния, иностранную пищу и иностранную музыку в особенности преобладала в VIII в., [172] но и остальные периоды танской эпохи не были от неё свободны. Некоторые, как, например, поэт Юань Чжэнь, писавший в конце VIII в., сокрушались по поводу этих новшеств:
С тех пор как всадники варварских орд
взметнули дымную пыль,
Мехов и войлока тяжкий дух
наполнил Ло и Сянь.
Девицы за варваров замуж идут,
по варварской моде одеты;
Певицы варваров песни ввели
и музыку варварских стран. [173]
Сянь и Лo — это столичные города Чанъань (обозначен по названию его разрушенного предшественника Сяньяна) и Лоян, в которых увлечение экзотикой было повальным.
Китайцы (во всяком случае, некоторые) знали язык тюрок. [174] Существовал тюркско-китайский словарь, доступный серьёзным учёным, [175] а метрика стиха некоторых произведений танской поэзии обнаруживает влияние тюркских народных песен. [176] Многие китайские приверженцы буддизма изучали санскрит. Но насколько широко было распространено изучение этих и других иностранных языков — корейского, тохарского, тибетского, тямского и других, об этом у нас нет сведений.
В обеих столицах существовало поветрие следовать тюркским и восточноиранским модам в одежде. В танскую эпоху и мужчины и женщины, когда они выезжали из дома, особенно верхом, надевали «варварские» шапки. В первой половине VII в. среди знатных дам пользовалась успехом некая разновидность бурнуса, называвшаяся мили, — комбинация головного убора с покрывалом-накидкой. Такой плащ, закрывая лицо и большую часть тела, помогал знатной даме сохранить свое инкогнито и избежать любопытных взглядов простолюдинов. [177] Но с середины этого же столетия, когда скромность переживает упадок, на смену длинной накидке приходит «головной убор с завесой» [178] — широкополая шляпа с накидкой, спадавшей только до плеч, так что лицо могло оставаться открытым. Такие шляпы, первоначально предназначенные для защиты головы от пыли во время длительных путешествий, носили и мужчины и женщины, но вызвали к себе неодобрительное отношение только женщины, надевавшие их. Указ, изданный в 671 г., пытался поставить вне закона таких всадниц с бесстыдно обнажёнными лицами, которым надлежало путешествовать в повозках, при-
(48/49)
стойным образом закрытых; но запрет не был принят во внимание, и в начале VIII в. можно было видеть на улицах столицы женщин, разъезжающих в тюркских шапках, а то и с непокрытой головой и одетых в мужской верховой наряд и сапоги. [179] К другим экзотическим обычаям в одежде знати среднетанского периода следует отнести и шапки из леопардовой шкуры, которые носили мужчины; женщины — на иранский манер — носили облегающие рукава и пригнанные по фигуре корсажи наряду со складчатыми юбками, и длинными пелеринами, собранными в складки вокруг шеи; некитайскими были даже причёски и вся косметика. Придворные дамы VIII в. носили «уйгурский шиньон». [180] Вместе с тем приверженность китайцев, живших в колониях, к чистоте обычаев своей родины заставила население Дуньхуана сохранять без изменения китайские наряды во время тибетского владычества в IX в., в то время как жители городов вроде Лянчжоу, особенно склонные к экзотическому, легко перенимали иноземные платья и привычки. [181]
Восторженное отношение к тюркским обычаям позволяло некоторым вельможам сносить неудобства жизни в палатке, иногда ставившейся даже посредине города. Поэт Бо Цзюй-и, воздвигший у себя во дворе два тюркских шатра из небесно-голубого войлока, принимая в них гостей, с гордостью показывал, как хорошо они защищают от зимних ветров. [182] Самым известным из таких городских жителей шатров был злосчастный царевич Ли Чэн-цянь, сын великого Тай-цзуна, подражавший тюркам во всём: он предпочитал говорить не по-китайски, а по-тюркски и устроил на территории дворца настоящую тюркскую ставку, где в облачении тюркского хана восседал перед своим шатром, украшенным эмблемой в виде волчьей головы, и, окружённый рабами в тюркских одеждах, мечом отрезал себе куски от туши варёного барана. [183]
Хотя у этого царевича, несомненно, были последователи, похоже, что такая варварская пища имела лишь ограниченное число приверженцев. Но другие блюда иностранного происхождения пользовались большим успехом. Самой широко распространенной чужеземной пищей были разного рода пирожки, особенно варенные на пару и начинённые зёрнами кунжута, а также пирожки, жаренные в масле. [184] Искусство их приготовления было принесено с Запада, и, хотя их любили одинаково и китайцы и иностранцы, делали их и продавали, как правило, выходцы с Запада. Один популярный танский рассказ повествует о таком продавце пирожков, к которому зашёл юноша, возвращаясь от своей дамы уже перед рассветом, в ожидании ударов утреннего барабана, возвещающих об открытии ворот квартала.
(49/50)
«Когда он подошёл к воротам квартала, засов на воротах ещё не был открыт. Рядом с воротами была лавочку одного западного чужеземца — торговца пирожками с рисом, который как раз расставлял светильники и принимался за разжигание жаровни. Чжэн-цзы присел под его навесом, чтобы отдохнуть и дождаться барабана». [185]
Другой крайностью были изысканные яства, подававшиеся к столу людей почтенных и богатых. Некоторые из таких блюд изготовлялись из дорогостоящих привозных продуктов, хотя, может быть, и не по правилам чужеземной кухни. Особым признанием пользовались такие пряные и острые блюда, как «пирожки с тёртыми пряностями ценою в тысячу золотом». [186] Но кое-что, очевидно, и приготовлялось по иностранным рецептам, например «брахманская» халва, «светлая и самая хорошая», которую варили в корзинках. [187]
Чужеземным влияниям в одежде, в устройстве жилища, в пище и в других сторонах повседневного быта сопутствовало пристрастие к экзотическому и в искусстве. Иностранцев, попадавших в большом количестве в танский Китай, изображали и живописцы и поэты. Конечно, в любую эпоху могут существовать люди искусства, увлечённые экзотикой: человек — в силу своего характера или по иным причинам — не обязательно должен идти в ногу с наиболее популярными, основными направлениями в культуре своего времени. Но в целом пристрастие к экзотическому расцветает преимущественно в периоды новых (или возобновлённых) контактов с чужими народами, совпадая или оказываясь особенно тесно связанным поэтому с периодами завоеваний чужих стран или торговой экспансии. В большинстве случаев художники, произведения которых посвящены чужеземной экзотике, не только прославляют свою страну-покорительницу, но и в то же самое время выражают своё сознание вины перед угнетёнными и эксплуатируемыми иноземцами, воспевая их в своих произведениях. С этой точки зрения мавры и сарацины в живописи Гоццоли и Беллини, так же как и изображения алжирцев и таитян в произведениях Делакруа и Гогена, одинаково показательны для искусства цивилизаций, ведущих колониалистскую и завоевательную политику. Очень близкие по существу явлений примеры есть и в искусстве танского Китая. Так, увлечение чужеземными, экзотическими религиями, которое в искусстве западноевропейского Ренессанса проявилось в повышенном интересе к изображению волхвов, находит аналогии и в буддийском искусстве Дальнего Востока, где идеализированные архаты изображались с индийскими ликами.
Некоторые авторы средневековых китайских трактатов об искусстве не различали картины на экзотические темы как осо-
(50/51)
бую категорию живописи. Например, когда знаменитый Го Жо-сюй писал об искусстве IX-X вв. с высоты своего XI в., он классифицировал старую живопись по таким рубрикам, как «проявления добродетели», «геройство», «изображения природы» или «народные обычаи», но у него нет специального раздела для картин, изображавших иноземцев и всего, что с ними связано, хотя иногда Го Жо-сюй и касался экзотической тематики в живописи, останавливаясь, в частности, на том, как надлежит правильно изображать божества индийского происхождения. Так, рисуя Индру, «подобает показать суровость и значительность его облика». [188]
С другой стороны, анонимный автор «Сюань-хэ хуа пу», каталога живописи в собрании Хуэй-цзуна, сунского императора (XII в.) и любителя живописи, оставил нам краткий очерк картин, запечатлевших иностранцев. [189] Он включил в число приводимых им образцов и изображения «варваров», относящиеся к танскому времени и выполненные художником Ху Гуем и его сыном Ху Цянем, многие произведения которых ещё существовали во времена сунской династии. Оба они были знамениты своими изображениями сцен охоты в далёких странах, а также экзотических чужеземных лошадей, верблюдов и соколов. [190] Неизвестный автор этого каталога утверждает, что истинная ценность такого рода картин состоит в том, что они показывают более низкое положение варварской культуры по сравнению с китайской. Такая шовинистическая назидательность больше соответствует сунскому, чем раннетанскому времени. Если в танскую эпоху живописные изображения всего чужеземного вызывали чувство снисходительной гордости, то во времена Сун правильнее говорить о самоуверенном высокомерии. Но в любом случае, независимо от того, как воспринималось содержание картины, можно не сомневаться, что и большинство любителей искусства в танскую эпоху, и коллекционеры времен династии Сун более всего ценили эти картины за манеру письма и цвет.
Несмотря на большую редкость в средневековых трактатах по искусству обобщающих суждений о приверженности к экзотическим темам и о прочих поветриях в живописи, можно легко воссоздать общую картину направлений и модных течений в танском искусстве, опираясь на высказывания о наиболее излюбленных темах отдельных художников. Проделав такую работу, можно убедиться, что веком экзотики в танской живописи был VII век, когда военная мощь державы находилась в зените, а благоговейные варвары толпами стекались к императорскому двору. Все эти иноземцы оказались персонажами, вполне подходящими для живописи, тешившей гордость победителей. В танской литературе (в противоположность живопи-
(51/52)
си) расцвет увлечения чужеземной экзотикой приходится, как мы это увидим дальше, на IX в.— столетие воспоминаний о былом. Из живописцев, посвятивших своё творчество иноземной тематике, самым выдающимся был Янь Ли-дэ, брат не менее знаменитого Янь Ли-бэня, который был удостоен чести запечатлеть в облике воителя самого Тай-цзуна. Считалось, что ни один художник ни в то время, ни во все прежние времена не мог превзойти Янь Ли-дэ в изображении экзотического. [191] В 629 г. ученый Янь Ши-гу представил ко двору уроженца отдалённых горных районов, соответствующих современной провинции Гуйчжоу. «Его шапка была сделана из шкуры бурого медведя, с золотым ободком вдоль лба; верхняя его одежда была из меха, а на ногах кожаные чулки и обувь». Нравоучительно ссылаясь на подходящие примеры из древности, Ши-гу говорит: «Ныне несметное число владений, на которые простёрлась державная добродетель, приходят ко двору в своих нарядах из трав и в облачениях из перьев, чтобы встретиться в кварталах для варваров-гостей. Воистину такое [зрелище] могло бы быть представлено в виде картины, чтобы показать потомкам, как далеко простёрлось это величие». В соответствии с этим Янь Ли-дэ было поручено запечатлеть столь лестное для самолюбия зрелище. [192]
Изображение чужеземцев и их стран, опиравшееся на расспросные сведения, служило первоначально тем же целям, что и составление карт для военных целей. Однако в танскую эпоху практические и художественные задачи уже, несомненно, различались. В 643 г. Янь Ли-бэню было поручено нарисовать характерные сцены из жизни народов, направлявших посланцев с выражением покорности ко двору Тай-цзуна. Два из этих его произведений были посвящены «западным странам». [193] Чжоу Фан и Чжан Сюань, работавшие в конце VIII в. и оба прославившиеся своими изображениями женщин, [194] более века спустя после братьев Ли создали изображения неведомой страны Пром (или Хром, или Ром; в современном произношении — Фулинь), т.е. какой-то части Византийской империи. Теперь трудно даже приблизительно представить, что именно было изображено на этих картинах, но, несомненно, они составляли бы неоценимое богатство, если бы сохранились. [195] Даже великий Ван Вэй изобразил ландшафт некоего «Чужого царства», хотя в наши дни установить, какого именно, невозможно. [196] Иноземцы из отдалённых стран изображались обычно в их национальных одеждах, а то, что казалось непривычным в их облике, при этом особо подчёркивалось. Среди изображений иностранцев, которые можно с уверенностью считать работой танских мастеров, большинство составляют небольшие терракотовые фигурки, передающие разные этнические типы. Среди
(52/53)
них можно найти и высокомерных уйгуров в высоких шапках, и, видимо, арабов с чёрными бровями и горбатыми носами, а также широко улыбающихся людей с курчавыми волосами, манера изображения которых, независимо от того, какой народ имелся в виду, обнаруживает воздействие эллинистических вкусов. [197] Хотя чужестранные народы были излюбленной темой не только танских гончаров, но и художников, очень мало живописных произведений такого рода дошло до наших дней. Мы не располагаем картиной Янь Ли-бэня, на которой перед императором склонялись данники, преподносившие ему, видимо, царственного льва, [198] и никогда не увидим ни варварских всадников с луками, нарисованных Ли Цзянем и его сыном Ли Чжун-хэ, [199] ни написанную Чжан Нань-бэнем картину «Царь Кореи совершает ритуальный обход с воскурением», [200] ни картину Чжоу Фана «Индийская женщина», [201] ни «Японскую всадницу» Чжан Сюаня. [202] Но на фресках Дуньхуана сохранились изображения представителей некоторых народов Центральной Азии — со странными лицами, необычными головными уборами и диковинными причёсками. [203] Китайский воин, государственный чиновник или утомлённый паломник, следуя через один из городов-оазисов Сериндии, где стояли китайские гарнизоны, мог бы увидеть на стенах местных храмов и ещё более странных существ: будд в эллинистических облачениях, мирян чисто иранского облика или обнажённых женщин, перенесённых сюда прямо из индийских эпических сказаний. [204]
В эти же годы увлечений иноземным не меньший интерес вызывали изображения диких животных из чужих стран (особенно тех, которых привозили посольства в качестве подношений императорскому двору), а также домашних животных, в частности знаменитых соколов, охотничьих собак и лошадей, ставших для китайцев объектами восхищения и вожделений. [205]
Наконец, танские художники любили изображать чужеземных богов и святых, прежде всего из тех стран, где процветал буддизм: изнурённых индийских архатов с лохматыми бровями; царственных бодхисаттв, сверкающих многоцветными ожерельями драгоценных камней; [206] древних богов Индру и Брахму, изображавшихся в качестве охранителей и Закона Будды, и китайских дворцовых ворот; [207] прочих божественных стражей, частично включённых и в китайские верования, и в религиозные представления северных кочевников, вроде Куверы, Защитника Севера, изображавшегося с бородой и усами и в китайском доспехе. [208] Такие изобразительные «помеси» иногда появлялись в результате использования художниками китайских моделей для передачи чужеземных образов; гейша, состоявшая в услужении у знатного вельможи, позировала в качестве какой-нибудь индийской богини-деви для картины на буддий-
(53/54)
ские сюжеты, [209] совсем как итальянская куртизанка, наделявшая своим обличьем мадонн эпохи Возрождения. К таким изображениям «гибридных», < с точки зрения историка культуры >, существ должны быть отнесены также детализированные изображения несказанного буддийского рая, напоминающего неведомые волшебные страны. Один из самых выдающихся буддийских иконописцев раннетанского времени был сам иноземцем из Хотана, [210] носившим сакское имя Виша Ирасанга (Viśa Irasangä [211]), передававшееся по-китайски как Юйчи И-сэн. Он появился в Китае при дворе где-то в середине VII в., присланный хотанским владетелем, и принёс с собой новый < для Китая > живописный стиль иранского происхождения: моделированные тенями многоцветные изображения казались рельефно выступающими и даже свободно выплывающими из фона. Изображение Девараджи, выполненное им, сохранилось до наших дней. Высказывались мнения, что художественная манера этого хотанского живописца оказала воздействие на такого крупного мастера, как У Дао-сюань, и может быть прослежена в росписях пещер Дуньхуана. [212] Ему приписывалось также привнесение с Запада в росписи буддийских храмов в крупных городах Китая такого технического приёма, как использование линии равномерной толщины (линии «железной проволоки») для обрисовки контура фигуры. [213] Сам Виша Ирасанга не только писал в экзотической манере, но и не был чужд экзотической тематике, написав «Танцующую девушку из Кучи». [214]
Экзотическое в литературе. ^
Расцвет интереса к экзотике в танской литературе отстоит на два века от наибольшего увлечения ею в изобразительном искусстве. Это новое направление в литературе, начало которого приходится на конец VIII в., сопровождалось движением за «старый стиль» в прозаических произведениях в отличие от противополагавшейся ему формально «новой» (т.е. насчитывавшей всего несколько столетий) прозы. Увлечение чужеземным было характерно не только для прозы, но и для поэзии того времени. Богатые краски, необычайные картины и романтические образы овладели умами многих лучших поэтов IX в. Типичным для того времени было творчество Ли Хэ, поэта иллюзий, воображаемых образов и ярких красок, склонного к употреблению гиперболы и синекдохи («янтарь» вместо «вино», «холодный багрянец» вместо «осенние цветы»). Нас не должно удивлять, что этот юноша увлекался чтением сокровища древней классики — книги «Чу цы» и «Ланкаватара-сутры» секты чань < дзэн >, что он умер молодым и что критики сунского вре-
(54/55)
мени говорили о его «демонической одарённости». [215] В стихотворении «Посол из Курунга» или в поэтическом описании мальчика-варвара с курчавыми волосами и зелёными глазами [216] цветы экзотики кажутся вполне естественными и органичными для творчества Ли Хэ. Близким к нему поэтому был и Ду My — чиновник, известный также своим военным трактатом, в котором доказывалось, что необходимо объявлять войну северным «варварам» в самом начале лета, когда они лишены подвижности и не подготовлены. [217] Помимо своих практических талантов Ду My обладал и поэтическим даром, принадлежа к романтическому направлению. Обращения к прекрасному прошлому обычны для его стихов:
Гляжу на Чанъань, обернувшись назад,—
узором она предстаёт.
Меж горных вершин открывается мне
чреда в десять тысяч ворот,
Чуть всадник покажется в красной пыли,
властительница засмеётся.
Но кто это знает — орехи личжи
он, может быть, и не везёт. [218]
Это стихотворение навеяно впечатлениями от заброшенного дворца у горячих источников близ Чанъани, где когда-то Сюань-цзун и Ян Гуй-фэй проводили зимние месяцы, [219] Ду My упоминает о специальном гонце, который привозил из Гуанчжоу орехи личжи, исполняя прихоть Драгоценной Супруги. Третьим поэтом, типичным для того времени, был Юань Чжэнь. Этот великолепный писатель страстно тосковал по чистоте и традиционности норм жизни воображаемого прошлого. Он сетовал, например, что в VIII в. забыт камень с берегов реки Сы — традиционный материал для изготовления каменных колокольчиков, воспетый в старинной литературе, — и ему предпочитают другие, новые породы камня; [220] увы, писал он, мало кто в новые времена обращает свой слух к старой музыке, и хотя «Сюань-цзун любил музыку, но это была новая музыка». Даже в своих куплетах, написанных на мотивы народных песен, [221] Юань Чжэнь жалуется на повальное увлечение новым и экзотическим. Однако при всём пуританстве этих строф в них впечатляют как раз упоминания о таких экзотических вещах, как привозные носороги и слоны, тюркские наездники, бирманские оркестры. Юань Чжэнь был, так сказать, экзотичен в своей «антиэкзотичности».
Исследование об экзотическом в танской поэзии ещё будет когда-нибудь написано. Гораздо больше сейчас известно о прозаической литературе на экзотические темы, включающей в себя и такой важный жанр, как танские новеллы о чудесах. Их расцвет приходится на два последних десятилетия VIII в. и два
(55/56)
первых десятилетия IX в. По существу, фантастические истории и разного рода чудеса вошли в моду в литературе начала IX в., и, к счастью, многие из них дошли до нас. Распространённый вариант составляла новелла о чудодейственном драгоценном камне, который привозит или разыскивает в Китае загадочный чужеземец. Этот камень обладает силой очищать мутные воды, обнаруживать спрятанные сокровища, вызывать попутный для мореплавателей ветер или наделён каким-нибудь другим, столь же благотворным свойством. [222] Пристрастие к фантастическому, [223] отразившееся также в поразительно грубой и вызывающей ужас пейзажной живописи позднетанского времени, [224] требовало присутствия в произведениях искусства загадочно-неведомого и чужеземного. В своем наиболее чистом виде эта тенденция выражена в новеллах о сверхъестественных в прекрасных вещах, привезённых из-за рубежа, — чаще всего о роскошных диковинах, якобы преподнесённых в прежние времена императорскому двору. И нам приходится соответственно иметь дело не с очарованием подлинных привозных вещей, а с романтическим отблеском, окружавшим никогда и нигде не существовавшие предметы, — не с настоящими драгоценными дарами, а с их дешёвыми имитациями, сфабрикованными вымыслом и украшенными мишурой воображения.
Вымышленные дары, также питавшие, в свою очередь, воображение, впервые появились, конечно, не в танской литературе. Для древнего периода мы располагаем рассказами о чудесных дарах, преподнесённых My — Сыну Неба. Начиная с этого времени во все эпохи появлялись легенды о волшебных подарках, привезённых из чужих стран. Две девушки, преподнесённые народом красного ворона в дар My, царю Чжоу по божественному праву, и взятые им в наложницы, [225] послужили прообразом для рассказа о посланных (так, во всяком случае, говорится в переработанном источнике XIII в.) в качестве «дани» с Коромандельского побережья [226] двух смуглокожих девах, жаркие чресла которых могли возвращать молодость совершенно бессильным мужчинам. Очарование древности таких чудес усиливалось ещё и старинным представлением о том, что путешествие в чужие страны сопряжено с множеством физических опасностей и духовных испытаний и что страшные происшествия ожидают смельчака повсюду за пределами Китая. Охотно верили, что духи и чудовища подстерегают за каждым поворотом в горном ущелье и скрываются под каждой волной тропических морей. [227] Совершенно естественно, что вещи и люди, попадавшие в Китай из-за границы, считались носителями этих опасных чар. Не приходится удивляться, что и позже, при Тан, всё экзотическое ещё было наделено ароматом непонятной магии и зловещего колдовства. Да и в любую эпоху, даже в наши дни,
(56/57)
люди намного охотнее принимают на веру любое странное измышление, если оно связано с далёкими странами. Словом, само представление о фантастической дани, привозимой чужеземцами, не было новинкой в IX в. Повествовавшая о такого рода чудесах литература просто оживила старые предания, найдя для этого свежий материал в событиях первой половины танской эпохи, замечательной таким разнообразием экзотических вещей, какого раньше не видели в Китае. Пристрастие к экзотике — вещественной и духовной — господствовало во вкусах VII и VIII вв. Иноземцы в их непривычных нарядах, мода на которые широко распространилась, встречались в эти годы в Китае во множестве. В эту яркую эпоху роскоши оказалось даже необходимым, чтобы Сын Неба время от времени показывал своим расточительным и легковерным подданным пример, издавая запреты на представление среди приношений дани ко двору всего, что было сверхъестественным, излишне причудливым и безнравственным. Заслуживает внимания образцовая скромность основателя танской династии, выказанная подданным в указе, подписанном в первый год его правления. [228] Следует подчеркнуть, что это постановление преследовало и дополнительную цель: подчеркнуть безрассудство предыдущей династии Суй. Заканчивается этот указ так: «...прекратить подношения таких существ, как карлики, маленькие лошадки с короткими ножками, карликовый скот, необычные звери, диковинные птицы и всё, что не приносит практической пользы; представление такого будет во всех случаях не приниматься в расчёт и отвергаться! Да будет это объявлено и обнародовано повсеместно! Пусть каждый услышит и постигнет!» Это постановление оставалось в силе не очень долго, но подобные же запрещения исходили от танского трона снова и снова, [229] направленные если не против диковинного (вроде «пятицветных» длиннохвостых попугаев с острова Ява), то против пустой расточительности (вроде белоснежных охотничьих соколов из Маньчжурии).
Но после бедствий второй половины VIII в. в израненной стране можно было лишь изредка встретить диковины из заморских и чужеземных стран. И ещё меньше их стало после опустошительных операций Хуан Чао в IX в., подобных избиению иностранных купцов во время разграбления Гуанчжоу. На это же столетие приходятся большие гонения на иноземные религии, которые привели к исчезновению из поля зрения рядовых китайцев не только иностранных религий, чужеземных священнослужителей и их паствы, но и иностранных книг, изображений иноземных богов.
Нет ничего удивительного в том, что в начале IX в. настал конец интернациональной эпохи — эпохи импорта и смешения
(57/58)
китайского с иностранным, золотого века, а спрос на всё чудесное из-за моря или из-за гор — будь то буддийские рукописи или медицинские трактаты, дорогая парча или редкостные вина, а то и просто возможность полюбоваться бродячим фокусником из Туркестана — уже не мог больше без труда удовлетворяться. И не удивительно, что именно в это время древние рассказы о чудесах получили новую, ещё более яркую жизнь, даруя ностальгическому воображению то, что было недостижимо в реальности.
Наибольшее число танских новелл о вымышленных привозных товарах и о фантастической дани было написано именно в IX в., когда подлинные чудеса оказались за пределами досягаемости. [230] Так на смену моде на экзотические товары пришла мода на ничем не ограниченную экзотику в литературе. «Мы более не пребываем в мире из плоти и крови, — пишет современный литературовед,— мы находимся в Стране Грёз, где дух мерцает наподобие пламени свечи. Мир внешний заменён миром внутренним. Весь свет тонет в необъятном Океане Мрака, и остаёется только „благоухающая тень”». [231]
Многие из этих рассказов приурочены к правлению Сюаньцзуна, легендарного императора, наиболее прославленного монарха космополитической эпохи, большого знатока и любителя экзотики, ещё при жизни ставшего олицетворением всего романтического. [232] В его дни каждый мог услышать лютню из Кучи, а в следующем столетии можно было только грезить о ней.
Вот несколько примеров такого творческого обращения к минувшим дням. Два белых обруча, повествует рассказ, были переданы императору одним из его подданных наряду с другими «сокровищами, упрочивавшими страну». [233] Это были обручи Матери — Повелительницы Запада, окутанной туманом почтенной фигуры, ассоциировавшейся с мечтами о достижении бессмертия в горах на вершине мироздания. Эти обручи напоминают другие магические кольца, хорошо известные в китайском фольклоре. Их владелец мог быть уверенным в подчинении ему всех окраинных стран. [234]
В другом случае из Тонкина доставляется часть носорожьего рога, желтого как золото. Её устанавливают на золотой пластине в зале для приёмов, а посол, который привёз её, объясняет, что вещь эта обладает свойством рассеивать холод — и действительно она излучает тепло во все стороны. [235] Нечто похожее представляли собой и сто брусков угля, называвшегося «благовестный уголь», якобы присланные из Западного Лян, древнего государства в районе Ганьсу. Они были тверды, как железо, и могли гореть без пламени в течение десяти дней, не зная себе равных по количеству выделяемого тепла. [236]
(58/59)
В дар от владетеля Кучи было поднесено жёсткое изголовье, вырубленное из гладкого камня, напоминающего агат. Счастливец, преклонявший на него голову, спал, осенённый снами о путешествиях через все страны и моря, в том числе и неизвестные смертным людям. Как повествует легенда, таким счастливцем был Ян Го-чжун, быстро выдвинувшийся государственный деятель, вдвойне счастливый ещё и оттого, что был любимым кузеном Драгоценной Супруги Сюань-цзуна. [237]
Постоянный спрос на прекрасный нефрит, самый замечательный из минералов, послужил поводом для другого рассказа. Как-то в середине своего правления Сюань-цзун пришёл в удивление, что не было среди подношений, недавно полученных с Запада, никаких изделий из почти легендарного пятицветного нефрита, хотя в его сокровищнице имелись пояс, украшенный пластинами из этого красивого камня, и вырезанная из такого же нефрита чаша, представленные давным-давно. Он приказал своим военачальникам, ведавшим «безопасностью Запада», сделать внушение тем нерадивым (но безымянным в рассказе) варварам, которые были в том повинны. Этими должниками, скорее всего, могли бы быть жители Хотана, неистощимого источника нефрита, считавшиеся в Китае дикарями, несмотря на высокие достоинства их музыки и прелести хотанских женщин. Кто бы ни были эти провинившиеся данники, им не удалось уклониться от отправки в Чанъань чудесного многоцветного камня. Но, увы, на караван напали и захватили его груз жители Малого Болора, грабители из холодных и узких долин в предгорьях снежного Памира, носившие тюрбаны и поедавшие вшей. [238] Когда дурные вести достигли священного дворца, Сын Неба, разгневавшись, послал армию из сорока тысяч китайцев и бесчисленного множества зависимых «варваров», чтобы осадить столицу грабителей и вернуть себе нефрит. Царь Малого Болора сразу возвратил награбленное и смиренно домогался права посылать ежегодную дань танскому двору. В этом было отказано, а его злосчастный город Гильгит подвергся опустошению.
Победоносный китайский полководец, ведя за собой три тысячи уцелевших от погрома жителей города, двинулся на родину, провожаемый предсказанием гибели, исходившим от местного прорицателя. И действительно, всё это множество людей, за исключением только одного китайца и одного варвара-союзника, было уничтожено великой бурей. Несчастный Сюань-цзун, окончательно лишившись драгоценного нефрита, послал экспедицию на поиски остатков своего воинства. Удалось найти целую армию совершенно прозрачных тел — замёрзших пленников и превратившихся в лёд воинов, которые тут же на глазах растаяли, исчезнув навсегда. [239]
(59/60)
Это было время чародейства, когда не было ничего невозможного. Именно таким пытались воссоздать в своем воображении ослепительно сверкающий мир VIII в. авторы фантастической литературы на экзотические темы.
Лучшим образцом этого жанра в танской литературе является книга, написанная в самом конце IX в. В отличие от большинства танских сочинений о чудесах, прибегавших к самому разнообразному вымыслу, она почти полностью посвящена экзотическим диковинам. Её название — «Дуянская смесь», [240] а написал её в 876 г. ученый Су Э. [241] Ниже перечислены лишь некоторые из описанных им диковинных вещей.
Бобы волшебного сияния [242] были присланы в Китай из страны, названной «Лес Солнца», что может быть истолковано и как «Исток Солнца», т.е. Япония. [243] Самым достопримечательным в этой стране, лежавшей далеко за морем на северо-востоке, была большая сверкающая скала, лучи которой просвечивали внутренности человека, совсем как современный рентгеновский аппарат, так что лекарь мог обследовать их состояние и исцелить больного намного быстрее. Сами бобы эти были ярко-розовые и излучали свет на расстояние нескольких чи. [244] Сваренные с листьями сладкого ириса, они разбухали до величины гусиных яиц. Сам император отведал от одного из этих необычайных бобов и признал их лакомством, не имеющим себе равного. Более того, они на несколько дней избавили его от голода и жажды.
Другая чудесная пища прибыла из некой страны в таинственных Южных морях. Из этой же страны было прислано хрустальное изголовье, в котором была видна какая-то местность с постройками и человеческими фигурками. Вместе с изголовьем прислали также вышитое покрывало, изготовленное из шёлка «водяного шелкопряда», [245] которое расширялось от влажности и сжималось от тепла. Пищей, присланной из этой страны, была особая благоухающая разновидность пшеницы, делавшая тело настолько лёгким, что можно было летать по ветру, и зёрна пурпурного риса, возвращавшего молодые силы и продлевавшего жизнь.
Драконы (т.е. духи воды), заключённые в какой-нибудь миниатюрный предмет, были другим излюбленным видом подарков. Примерами могут служить «шпилька из рога дракона» [246] и «нетонущая бусина». [247] Чудодейственная шпилька была поднесена в дар вместе с бобами волшебного сияния. Вырезанная с нечеловеческим искусством из камня глубокого тёмно-фиолетового цвета, похожего на нефрит, она изображала дракона. Император Дай-цзун подарил эту шпильку своей любимой наложнице — прекрасной [248] госпоже Дугу. Однажды, когда они плыли в лодке по Пруду Драконовой Ладьи, на
(60/61)
шпильке появилось лиловое облако. Властитель взял шпильку в руку и брызнул на неё водой; пар, сгустившись, превратился в двух драконов, которые взмыли в небеса и улетели на восток. «Нетонущая бусина», чёрная, с просверленным отверстием, имела странную чешуйчатую поверхность. Тот, на ком она была, мог безопасно пройти через любые воды. Император испытал её, привязав пятицветным шнуром — средством против драконов — к руке хорошего пловца. Тот прошёл по поверхности волн, нырнул в воду и вынырнул сухим. Позже, когда дворцовые женщины развлекались в бассейне с этой бусиной, она превратилась в чёрного дракона.
Желанным подношением были волшебные птицы и птицы-духи. К их числу относится и «не боящийся пламени воробей» [249] — присланная в качестве дани к вступлению на престол Шунь-цзуна чёрная птичка, не горевшая в огне. Словом, это был настоящий феникс (в отличие от птицы фэнхуан китайских преданий, неверно называемой на Западе «феникс») — индийский самандал (по словам арабов, он встречается также в стране Вак-вак), наружной оболочке которого никакой огонь не мог причинить вреда. [250] Этой необычайной птичке была предоставлена хрустальная клетка в спальне монарха, а служанки развлекались, тщетно пытаясь спалить её свечой. Другая страна прислала двух танцовщиц, одну из которых звали Светлый Феникс, а другую — Летающий Симург. [251] Это были самые неземные создания, какие только можно представить. Золотые короны на головах этих фей украшали изображения фантастических птиц, по именам которых они были названы или воплощением духа которых они являлись. Питались они орехами личжи, золотой пылью и камфорой «мозг дракона».
Особую группу экзотических чудес составляют необычайные источники тепла. «Всегда кипящий котёл» [252] варил пищу без помощи огня. Эта полезная вещь — подношение мифического царства — описана в фантастическом повествовании, переполненном названиями стран, упоминаемых в истории Хань за тысячу лет до этого. Сродни ему и «огненный нефрит», который был красным и на котором, как на раскалённых углях, можно было подогревать котёл.
Им противостоят столь же полезные и чудесные предметы, сохранявшие и излучавшие холод. «Вечно твёрдый лед» [253] находился па высокой горе, ледники которой насчитывали тысячи лет, и не таял даже на самом жарком солнце. «Камень соснового ветра» был прозрачным, и внутри его можно было видеть сосну, от ветвей которой исходило холодное дуновение. Летом император держал этот камень поблизости от себя.
Менее приятно, но столь же сверхъестественно выглядит «трава, убивающая дневной свет», [254] напоминающая банан.
(61/62)
Её всегда окружало пространство, погруженное во тьму. Это зловещее свойство пришлось не по вкусу императору.
Среди литературных чудес были и такие, которые вполне могли существовать в действительности или были навеяны ею. К их числу можно отнести «пятицветный ковёр», [255] поднесённый, как и многие другие дары, танскому Дай-цзуну корейским царством Силла. Чудесной выделки, он изображал танцоров и музыкантов, горы и реки. Среди всего этого на нём можно было увидеть любую породу птиц и насекомых, которые трепетали и колыхались, когда в комнате возникало самое легкое дуновение ветерка.
Сооружение около десяти чи высотою, вырезанное из индокитайского дерева алоэ и
украшенное драгоценностями, называлось «гора десяти тысяч будд». [256] Оно тоже было прислано царством Силла. На горе были помещены изображения будд, окружённые постройками и естественной зеленью, все до мельчайших деталей отделанные жемчугами и драгоценными камнями. Император, правоверный буддист, поместил это символическое изображение горы Мироздания в святилище, постелив на полу «пятицветный ковер». Это чудо могло и не быть чистым плодом воображения. [257]
Птица чжулай [258] также могла в том или ином виде существовать в действительности. Хотя императору Дэ-цзуну часто подносили ученых животных и поразительных птиц, он, как правило, выпускал такие существа на волю в соответствии с буддийскими предписаниями. Но он не освободил прекрасную птицу чжулай, присланную из «южной страны» в 781 г. Клюв этой птицы был красный, а пурпурно-голубой хвост был длиннее её тела. Чжулай понимала приказы человека и была очень сообразительна. Голос у неё был высокий и пронзительный. Эта изысканная птица (очевидно, какая-то разновидность тропической сороки [259]) пользовалась большой любовью придворных, которые скармливали ей самые дорогие яства. Она проводила ночи в золотой клетке, а днём летала в дворцовых двориках, и «ни хищный ястреб, ни крупный коршун не отваживались приблизиться к ней». Но однажды, увы, её поймал и убил орёл. Дворец искренно оплакивал птицу чжулай, а один придворный, искусный каллиграф, на бумаге, краплённой золотом, изготовил список «Праджняпарамита-хридайя-сутры» [260] в память о ней. [261]
Неизвестная страна на Южных морях прислала девушку четырнадцати лет, прозванную Девой Чёрных Бровей, среди прочих дарований которой был и такой талант: она могла вышить семь свитков «Лотосовой сутры» крохотными, совершенных очертаний знаками на одном-единственном куске ремесленной тафты длиною в один чи. Подобная мастерица также могла существовать и в действительности.
(62/63)
Перечисленные выше чудеса — только выборка из блестящей вереницы, представленной в книге Су Э. Одни из них, как мы видели, приурочены к вполне реальным странам (Япония, царство Силла), другие связаны с древними народами, о которых давным-давно никто не слышал в Китае, третьи перенесены в страны совершенно мифические. Однако мы не найдём никаких упоминаний о подобных дарах, даже когда они приписаны действительно существовавшим странам, если будем искать их в достоверных документах танской эпохи — отчётах о приношении дани двору. Повествования Су Э охватывают последнюю половину VIII — первую половину IX в. — время, на сто с лишним лет отстоящее от современной писателю поры, когда полдень танского великолепия уже прошёл и его солнце начинало закатываться, но зябкие, неуютные дни тех лет, когда жил сам Су Э, ещё не наступили. Во времена, о которых писал этот автор, в Китай действительно привозили лошадей от уйгуров, танцовщиц страны Бохай, музыкантов из Бирмы, носорогов из Тямпы, жемчуга и янтарь из «осколков» уже раздробленной персидской державы. Сведения об этом сохранились в источниках, а Су Э просто заполнял магическими или необыкновенными вещами те туманные пробелы, которые имелись в этих известиях. Словом, в его книге ведут торговлю со сказочными странами и принимают дипломатов из волшебных миров прошлого. Прелесть этой книги в «антикварности» её экзотики, усыпанной невероятными драгоценностями и забытыми диковинами. Но если даже какие-то из новелл и восходят, оплодотворённые воображением, к сведениям о реальных посольствах времён тускнеющей славы танской империи в конце VIII в., они остаются изысканными плодами творчества, которые могут вдохновить поэта, [262] но бесполезны для историка.
(/365)
К главе I. Прославленная империя Тан (с. 20-63). ^
[1] Превосходное краткое изложение истории этой эпохи даёт Л. Гудрич (1959, с. 120 и сл.).
[2] Цены оставались высокими в течение примерно первых десяти лет царствования династии, но затем на протяжении большей части VII в. они держались на низком уровне, лишь слегка повысившись снова в последние десятилетия (Цюань 1947, с. 102-109). О налогах см.: Балаш 1931, с. 43-55; Пуллибланк 1955, с. 125. Отработки можно было заменить внесением дополнительной доли шёлковых тканей. В отдалённых частях империи взимание налога было упрощено: крестьяне Линнани, например, платили их только рисом, а подчинённые тюркские племена присылали овец и деньги. В больших торговых и ремесленных городах система взимания налогов также была видоизменена; так, деловой центр Янчжоу платил причитавшиеся с него основные налоги деньгами, заменяя ими зерно и шёлк; ремесленный город Чэнду вносил
(365/366)
вместо зерна шёлк. Эти три вида повинностей назывались: цзу (выплаты зерном), дяо (выплаты тканями) и юн (отработки). Существовали также менее значительные налоги — на землю и домашнее хозяйство, пропорциональные размерам владений.
[3] Пуллибланк 1955, с. 27.
[4] Там же, с. 48-49.
[5] Огава Сёити 1957, с. 97; Шефеp 1951, с. 411. Для этого периода характерны проза «старого стиля» (гувэнь) и короткая фантастическая новелла. Э. Пуллиблэнк (1960, с. 113) пытался связать этот ренессанс в явлениях культуры с движением за возрождение былого духа самой династии.
[6] Цюань 1947, с. 109-126 (особенно с. 111-112). В период инфляции (764 г.) рис стоил в столице в 500 раз дороже, чем в хорошие времена (725 г.).
[7] Цюань 1948, с. 144-145.
[8] Там же, с. 145.
[9] Пуллибланк 1955, с. 35-36.
[10] СТЦХ, 1, 266-27а; Накамура 1917, с. 352.
[11] Роль мерила стоимости могли играть — в зависимости от особенностей местности — и другие товары: на северо-западе, в Дуньхуане, её выполняло зерно, на далёком юге (Гуанчжоу = Кантон) — золото, киноварь, слоновая кость (Цюань 1948, с. 107-114).
[12] Это было также результатом открытия новых медных копей и усовершенствования способа изготовления монеты (Цюань 1948, с. 144-148). Во второй половине VIII в. существовали различные указы, направленные против вывоза монеты из страны, но утечка монеты тем не менее продолжалась: купцы оставались купцами (Рейно 1845, с. 72-73; Кувабара 1930, с. 34-35).
[13] Цюань 1948, с. 133; Балаш 1931, с. 82-92. Следует отметить, что в VIII в. впервые появляются аккредитивы, облегчавшие торговые операции; в начале IX в. была установлена государственная монополия на выдачу этих важных коммерческих документов (Балаш 1960, с. 204).
[14] Балаш 1931, с. 82-92; Пуллибланк 1955, с. 30.
[15] Пуллибланк 1955, с. 55-56.
[16] В современном стандартном китайском произношении — Ань Лу-шань (см. Введение). Имя это согдийское, а сам мятежник был метисом.
[17] Пуллибланк 1955, с. 26-27, 75-81, 103.
[18] Согласно переписи 754 г., проведённой за год до великого мятежа, население всего Китая в середине VIII в. составляло примерно 52 миллиона. В Чанъани, Западной столице, было около 2 миллионов душ; в Лояне, Восточной столице, — свыше миллиона. Крупными городами, кроме того, были Вэй (также свыше миллиона человек) и Чэнду (около миллиона); можно отметить ещё двадцать два города с населением свыше 500 тысяч жителей. Но такой богатый порт, как Гуанчжоу (Кантон), насчитывал лишь немногим более 200 тысяч жителей. Перепись населения, проводившаяся в период после великого мятежа (в 764 г.), показывает, что в Китае осталась только примерно третья часть (16 миллионов) прежнего населения. Максимальное сокращение числа жителей произошло на севере страны, где велись все боевые действия и где жило тогда около трёх четвертей населения Китая. Однако такое соотношение является сильно преувеличенным, что объясняется, во-первых, неверными данными переписи после изнурительных внутренних войн, а во-вторых, тем, что из списков переписи были исключены лица, не облагавшиеся налогами: монахи, купцы, иностранцы, арендаторы и т.п. (Балаш 1931, с. 14 и сл.; Фитцджеральд 1947, с. 6-11).
(366/367)
[19] Обо всём этом см.: Гудрич 1959; Фитцджеральд 1938. Арабы и персы, ограбившие в 758 г. Гуанчжоу с моря, были, вероятно, пиратами с острова Хайнань (Шефер 1951, с. 407). Вообще о мусульманах в Китае и в Центральной Азии в танскую эпоху см.: Дрейк 1943, с. 1-40.
[20] Цюань 1947, с. 112-147; Цюань 1948, с. 129-133.
[21] Накамура 1917, с. 558; Леви 1955, вся работа, особенно с. 117.
[22] Особенно см.: Пельо 1904, с. 134, 141.
[23] Из работ на эту тему в первую очередь см.: Гудрич 1959, с. 129-131. А. Райт (1951, с. 33-47) рассматривает опередившие события доклады трону, направленные против буддизма, относящиеся ещё к VII в.
[24] Райт 1957, с. 37.
[25] Шефер 1951, с. 409. В написании среднеперсидских имён я следую А. Кристенсену (Кpистенсен 1936). < В русском переводе даётся написание, принятое в специальной литературе на русском языке. >
[26] Шефер 1951, с. 408-409.
[27] Пуллибланк 1955, с. 134.
[28] Бузург ибн Шахрийар, с. 92-95. Возможно, эта рыба была одним из тех «ярлыков»-пластин с очертаниями рыбы, которые носили во времена Тан дипломатические представители. Иудеи были тогда в Китае, но эпизод IX в. с персидским иудеем по имени Элдад ха-Дани (Рабиновиц 1946, с. 236) — весьма недостоверный пример. Во всяком случае, большинство иудеев в средневековом Китае должны быть выходцами из Персии. А. Стейн (1907, с. 570-574) обнаружил в Дандануйлике (Восточный Туркестан) персидский деловой документ, написанный еврейским письмом и датированный 708 г. Также к VIII в. относится текст с выдержками из «Псалмов» и ветхозаветных пророков, найденный П. Пельо в Дуньхуане (Уайт 1942, с. 139-140). Ещё об иудейских купцах на средневековом Дальнем Востоке см.: Нидэм 1959, с. 681.
[29] TШ, 216б, 4135б. В 731 г. после долгих споров списки конфуцианских сочинений и «Ши цзи» были наконец посланы в Тибет.
[30] Pеишауэp 1955a, с. 277-281.
[31] Чжао 1926, с. 961; Рейшауэр 1940, с. 146.
[32] Чжао 1926, с. 961; Балаш 1932, с. 53; Рейгаауэр 1940, с. 150-153.
[33] Балаш 1932, с. 53; Рейшауэр 1940, с. 156, 160-161. Государство Пэкче в юго-западной части Корейского полуострова до его завоевания государством Силла направляло свои суда прямо через Жёлтое море на Юэчжоу в бухте Ханчжоу в Чжэцзяне (ЧТШ, 199а, 3616а).
[34] Рейшауэр 1955а, с. 277-281.
[35] Там же, с. 143.
[36] Рейшауэр 1940, с. 162; Рейшауэр 1955а, с. 281, 284-285. В IX в., когда Эннин, священнослужитель японской секты Тэндай, посетил Китай, многие из оторванных от родины корейцев уже смешались с китайским населением. Так, в Китае имелись лодочники-корейцы, которые уже не говорили на своём родном языке. Эннин также узнал, что можно остановиться в «Обители Силла» — буддийском монастыре, предназначенном в первую очередь для постоя корейских послов на их пути в столицу Китая (Рейшауэр 1955, с. 150).
[37] Кувабара 1930, с. 40, 97.
[38] Кувабара 1930, с. 48; Xуpани 1951, с. 74-75; Вильеpс 1952, с. 7, 56-57, 113-114; Уэтли 1961а, с. XVIII-XX, 42-43. Д. Кувабара отстаивает мнение, что китайцы должны были знать юго-западный муссон уже во II в. н.э.; наверняка им воспользовался паломник Фа-сянь в V в. на пути из Индонезии в Шаньдун. В VII в. И-цзин плыл из Гуанчжоу под северо-восточным муссоном.
[39] Хурани 1951, с. 61-64. Впрочем, в водах у устья Инда пираты существовали.
(367/368)
[40] Соважэ 1948, с. 41; Xуpани 1951, с. 69.
[41] Левицкий 1935, с. 176-181; Соважэ 1948, с. 41. Первый из них приводит сведения о купцах из секты ибадитов, отправившихся из Сирафа в Китай в VIII в. Один из этих купцов, Абу Убайда из Омана, рассчитывал купить там древесину алоэ.
[42] Хурани 1951, с. 78.
[43] Пельо 1912б, с. 105; Шефер 1950, с. 405. Персы заменили собой согдийцев на сухопутных торговых маршрутах только в XIII в.
[44] Бpэддел 1956, с. 13. Считается, что Малабарское (западное) побережье полуострова Индостан было наиболее удобным отправным пунктом дальнейших плаваний, когда судно следовало в Островные Индии, и поэтому более оживлённым в древности, чем Коромандельское (восточное) побережье.
[45] Монах Ваджрабодхи в начале VIII в. встретил в цейлонском порту тридцать пять персидских кораблей, зашедших туда, чтобы закупить драгоценные камни (Xасан 1928, с. 98).
[46] Хурани 1951, с. 70-72; Шефер 1951, с. 406; Уэтли 1961а, с. 45; описание торговли между Персией и Дальним Востоком по данным китайского паломника Хуэй-чао и другие сведения об океанских торговых путях см.: Шефер 1951; кроме того, см.: Пельо 1904, с. 215-363, 372-373.
[47] Кувабара 1930, с. 46-47. Первыми проложили в древности путь через Индийский океан, видимо, арабы-сабейцы; до Дальнего Востока его продолжили, проникнув дальше Цейлона, персы в сасанидскую эпоху (Xасан 1928, с. 85),
[48] К XII в., во всяком случае, китайские суда играли важную роль в этой торговле. < До VIII в. китайцы, по-видимому, своих морских судов не имели, а пользовались — в том числе и буддийский паломник Фа-сянь на обратном пути из Индии на родину — услугами малайских мореходов. См.: *Вельгус 1966а, 1969. >
[49] Ямада 1959, с. 135-140. Этот исследователь полагает, что китайские суда впервые достигли Индии в IX или в X в. < См. также: *Вельгус 1969. >
[50] Хурани 1951, с. 46-50; Пари 1952, с. 275-277, 655; Уолтерс 1960, с. 346. Попытка Б. Лауфера найти вторую «Персию» в Индонезии была вызвана в первую очередь тем, что он не сумел представить себе, что персидские мореплаватели могли изъясняться на торговом жаргоне, включавшем малайские слова, носить такую же одежду, как у сборщиков винограда на Южных морях, и перевозить в Китай не только свои, но и индийские товары. См.: Лауфеp 1919, с. 468-487, и возражения ему Чжан Син-лана (1930, т. 4, с. 185-193). Я согласен с П. Пельо, что «во всех текстах времени до воцарения династии Сун упоминания Босы относятся, по всей вероятности, к Персии... Но в XI и XII вв. это название иногда неверно прилагается к какому-то малайскому владению... Это могло быть Пасе (Pasei или *Pasi), название которого было ошибочно принято за обозначение Персии» (Пельо 1959, с. 87). Выражение «...„корабли Босы” примерно до 1000 г. могло означать только „персидские корабли”» (Пельо 1959, с. 102).
[51] Хирт — Рокхилл 1911, с. 28; Накамура 1917, с. 348-351; Чжан Син-лан 1930, т. 2-3, с. 181; Кувабара 1930, с. 86-89; Xоpнэлл 1946, с. 143-146; Xуpани 1951, с. 109. Некоторые из упоминаний в классических источниках о существующих в Индии и на Западе «высматривающих берег» птицах должны относиться к птицам, отыскивающим берег (вроде птиц из Ноева ковчега), но не переносящим послания. К. Накамура приводит свидетельство, показывающее, что министр Чжан Цзю-лин, который держал голубей для доставки к нему писем (они назывались «летающие слуги»), мог научиться такому использованию голубей от персидских или сингалезских торговцев в Гу-
(368/369)
анчжоу (см.: КЮТБИШ [ТДЦШ, 3], 43а). Исходя из этого появление в Китае такого вида связи следовало бы отнести к концу VII в. Однако ещё в начале этого столетия Тай-цзун посылал сообщения из Чанъани в Лоян с помощью своего любимого белого сокола, носившего имя Полководец (см.: ЧЕЦЦ [ТДЦШ, 1], 53б). Таким образом, заведённое Чжан Цзю-лином новшество состояло только в том, что для связи использовались именно голуби. Описание торговых судов в 60 и 70 чи высотой, которые, согласно сообщению священнослужителя Цзянь-чжэня, прибыли в Гуанчжоу в середине VIII в., см.: Такакусу 1928, с. 466-467.
[52] В отличие от клипкерной постройки, когда доски нашиваются внахлёст.
[53] Кувабара 1930, с. 86-89; Хурани 1951, с. 88 и сл.; Шефер 1951, с. 405-406. Существует гипотеза, связывающая «корабли бо» средневековых морей Китая с боевыми ладьями даяков; см.: Кристи 1957а < ср. также: *Вельгус 1966а; *Вельгус 1969 >.
[54] ТШ, 39, 3724г; ТПХЮЦ, 70, 10б. Подробный разбор стратегического значения этого места можно найти в работе Мацуи (1959, с. 1397-1432). О крупнейших торговых путях империи Тан см. статью Чжао Вэнь-жуя (1926, с. 960-961), который насчитывает всего семь таких путей. Рассматриваемый здесь маршрут — это Аньдунская дорога, проходившая через Инчжоу. См. также знаменитые путевые записки Цзя Даня (ТШ, 43б, 3735-3736г.) и комментарии П. Пельо к этому тексту (Пельо 1904).
[55] Миллер 1959, с. 8.
[56] Шаванн 1905, с.529-531; А. Стейн 1925, с. 481, рис. 34-36; А. Стейн 1933, с. 160-162; Бергман 1939, с. 42; Миллеp 1959, с. 23. < О маршруте караванного пути, который получил в европейской и американской географической литературе название «Дорога ветров», см.: Кляшторный 1964, с. 100-101. >
[57] Часть этого пути детально описана в анонимном географическом тексте IX в., найденном в Дуньхуане. См.: Л. Джайлз 1932, с. 825 и сл.
[58] БШ, 97, 3041б; Шефер 1950, с. 181.
[59] Пельо 1904, с. 134, 141, 150-153, 175-178; Лауфеp 1905, с. 234, 237. Некоторые подробности, касающиеся бирманского пути в танскую эпоху, рассматривает А. Кристи (Кристи 1957).
[60] Багчи 1950. с. 19.
[61] Пельо 1904, с. 133. < Шумовский 1964, с. 139-143. >
[62] Исибаси 1901, с. 1051-1063; Кувабара 1930, с. 19-20; Балаш 1932, с. 53-54. Лукин арабских географов (например, у Ибн Хордадбеха) — видимо, название этого же места, представляющее собой искажённую передачу китайского Лубинь.
[63] Hакамуpа 1917, с. 361; Кувабара 1930, с. 16-17.
[64] К. Накамура (1917, с. 247) приводит много цитат из буддийских текстов, чтобы показать, что иноземцы (и в особенности индийцы) словом Чина обозначали Гуанчжоу, а название Махачина (т.е. Великий Китай) служило для обозначения Чанъани. Название Ханфу — производное от китайского Гуанфу. < Ср.: Шумовский 1964, с. 140 и сл. >
[65] Балаш 1932, с. 23, 65. Гуанчжоу был хотя и богатым, но не крупным городом. В VIII в. в Китае имелось 25 городов с населением свыше 500 тысяч человек. Согласно Абу Зайду (IX в.), в Гуанчжоу пребывало более 120 тысяч иноземных купцов.
[66] Балаш 1932, с. 65; Соважэ 1948, с. 6.
[67] Так рассказывает буддийский монах Цзянь-чжэнь, посетивший этот порт в 748 г. (Такакусу 1928, с. 466-467).
[68] Снова слова Цзянь-чжэня (Такакусу 1928, с. 467). Перевод мой, китайский текст приводит К. Накамура (1917, с. 487-488). О средневековом Гуанчжоу см. также: Исибаси 1901, с. 1063-1074.
[69] Балаш 1932, с. 56; Соважэ 1948, с. 7; Шефер 1951, с. 407.
(369/370)
[70] Накамура 1917, с. 487-488.
[71] Такакусу 1928, с. 466. Перечень индийских буддистов-паломников в Китае при Тан см.: Багчи 1950, с. 48-55.
[72] Xуpани 1951, с. 63. Предание, сохранённое географом Мервези (начало XII в.), гласит, что эти сектанты были изгнаны в 749 г. из Хорасана и поселились на большой китайской реке — на острове против порта, т.е. явно в Гуанчжоу. Но я принимаю сообщаемые этим преданием сведения за достоверный факт не без некоторых колебаний.
[73] Амбар оптового торговца или склад, куда помещали товары на хранение, назывался ди; розничная лавка для открытой продажи товаров называлась дянь (см.: Чжу 1957, с. 13). Чжоу И-лян (1945, с. 23) ясно показал, что в Гуанчжоу, как и в других крупных городах, существовал вечерний сигнал, по которому жизнь должна была замирать до утра. Однако поэт Чжан Цзи, обращаясь в стихах к другу, пишет о «гомоне варварских голосов на ночном рынке» (ЦюТШ, хань 6, цэ 6). Поскольку назначение закатного барабана состояло в том, чтобы разгонять жителей по их кварталам (а ворота таких кварталов запирались на всю ночь), можно допустить, что ночные рынки, о которых упоминает Чжан Цзи, находились внутри кварталов, в отличие от большого центрального рынка города. Но по большим праздникам дозволялось не закрывать по ночам и большие городские рынки, становившиеся местом увеселений. См., например: ЮСЦЦ, 7, 50, где рассказывается о богатом человеке, пришедшем на ночной рынок инкогнито с большим кошельком, набитым деньгами, чтобы потратить их на девушек и вино. Большие столичные рынки открывались в полдень тремястами ударами барабанов, а закрывались перед закатом под звук трёхсот ударов гонга (ТЛД, 20, 13б).
[74] ТШ, 4, 3640г; ТШ, 116, 3942г; ЧТЦ, 89, 3357в.
[75] Год введения этой должности точно неизвестен. См.: Кувабара 1930, с. 8; Балаш 1931, с. 54.
[76] Hакамуpа 1917, с. 353.
[77] К. Накамура (1917, с. 354) высказал предположение, что это могли быть остатки разгромленных арабских отрядов, посланных халифом в 757 г., чтобы помочь генералу Го Цзы-и в подавлении мятежа Рокшана и его сподвижников. Но присутствие в этой шайке персов и то, что грабители покинули Гуанчжоу на судах, заставляет меня думать, что они выступали под предводительством Фэн Жо-фана, крупнейшего пиратского главаря, который захватил множество персов и других иноземцев и содержал их в селениях для рабов на острове Хайнань. Многим персидским морякам приходилось пополнять пиратские экипажи судов Фэн Жо-фана. См.: Шефер 1951, с. 407.
[78] Ван Гун-у 1958, с. 82-84.
[79] Накамура 1917, с. 362.
[80] Ду Фу. Чжу цзян («Полководцы») (ЦЦЦЧДШ, 483).
[81] Ду Фу. Цзыпин («Дворец Цзыпин») (ЦЦЦЧДШ, 150). О дискуссии по поводу этого мятежа см.: Накамура 1917, с. 351-352, 355-356.
[82] ЧТЦ, 131, 3436г; Накамура 1917, с. 356-357.
[83] Сообщалось, что, когда Ли Мянь покидал Гуанчжоу, чтобы вернуться в столицу по окончании срока своей службы, он произвёл обыск багажа возвращавшихся вместе с ним чиновников и выбросил в реку все дорогостоящие заморские редкости, которые были при этом обнаружены.
[84] ЧТЦ, 151, 3482б; ТШ, 170, 4042б; Накамура 1917, с. 360; Балаш 1932, с. 57-58.
[85] Накамура 1917, с. 363.
[86] Сюй Шэнь (находился на этой должности с 802 по 806 г.), Чжэн Инь (занимал должность с 811 по 812 г.) и Кун Куй (занимал должность
(370/371)
с 817 по 819 г.), отменившие незаконные налоги и сократившие излишние поборы, — всё это примеры хороших наместников, положивших конец конфискациям и поддерживавших культ «бога Южных морей». Особенно примечателен своими реформами Кун Куй, за что он снискал похвалу поэта Хань Юя, находившегося в это время, в 818-820 гг., в ссылке в Чаочжоу (Накамура 1917, с. 364-365, 489-491).
[87] ТШ, 9, 3655г; Накамура 1917, с, 559-560; Леви 1955, с. 114-115, 117, 121; Ван Гун-у 1958, с. 82-84. Порт Цюаньчжоу (в арабских источниках — Джанфу, много позже у Марко Поло — Зайтон) в провинции Чжэцзян начал своё блистательное возвышение именно как международный перевалочный пункт. Имеются весьма скудные свидетельства о пребывании в VII в. в Цюаньчжоу мусульманских миссионеров. < В.В. Бартольд (1971, с. 375) высказал вполне обоснованные сомнения в достоверности этих сведений: «Китайские авторы и европейские синологи в этом случае отнеслись с излишним довернем к преданиям, возникавшим среди мусульман в Китае, как и во всех других странах, куда проник ислам; в каждой из этих стран первые успехи ислама старались связать с именами пророка, его сподвижников и ближайших преемников, часто в полном противоречии с достоверными историческими известиями». > В IX в. там явно были иностранные купцы, а в X в. произошло существенное развитие портов Фуцзяни, находившихся под властью независимых правителей, которые поощряли посещение иноземными судами гаваней Цюаньчжоу и Фучжоу (Шефер 1954, с. 78).
[88] Перевал Мэйлин получил своё название из-за обилия на нём сливовых деревьев. Его называли также Даюйлин.
[89] Сян 1933, с. 33; Шефер 1951, с. 408, 413.
[90] Накамура 1917, с. 254; Шефер 1951, с. 470, примеч. 36. См. также очерк Чжана в ЦТВ, 291, la-1б. Краткий обзор путей и торговых городов Китая см.: Янь 1954.
[91] Накамура 1920, с. 252-261. Связующим звеном служил Священный канал (Линцюй), сооружённый в III в. до н.э. при династии Цинь, чтобы облегчить завоевание областей Южного Китая и перевозки товаров с юга на север. В ханьское время этот важный водный путь был расширен, чтобы обеспечить доставку провианта для отрядов генерала Ma Юаня. Его продолжали использовать и позже — при династиях Тан и Сун, хотя через определённые промежутки времени его приходилось ремонтировать.
[92] Ли Цюнь-юй. Цзюцзыпо вэнь чжэгу < «На склоне Цзюцзыпо слышу крики турачей» > (ЦюТШ, хань 9, цэ 3, цз. 2, 13а).
[93] Суда с гребными колёсами, вращавшимися ножным приводом, были способны плыть против ветра и течения; они были заведены на этом озере членом императорской семьи Ли Гао около 785 г. Кажется, их использовали преимущественно на военных судах (Кувабара 1930, с. 95-96).
[94] ЖЧСБ, 9, 88, где приводятся танские стихи. Подробнее о средневековом Янчжоу см.: Исибаси 1901, с. 1309-1314.
[95] Цюаиь 1947а, с. 153, 165-166.
[96] Там же, с. 154-157.
[97] Там же, с. 153.
[98] Там же, с. 161-163.
[99] Там же, с. 149-153; Чжу 1957, с. 41-42.
[100] Эпиграмма приведена в ЖЧСБ, 9, 88.
[101] В источниках того времени говорится о персидских лавках. См.: Накамура 1920, с. 244.
[102] ЦТШ, 110, 3402г; ТШ, 141, 3988; ЦТШ, 124, 3426б. Общее число жителей в Янчжоу превосходило в это время 450 тысяч.
[103] ЖЧСБ, 9, 88.
(371/372)
[104] Цюань 1947а, с. 166-175. Изготовление и обработка металлических изделий развивались в Чанша и в Гуйлине, производство шёлковых тканей — в Ханчжоу.
[105] ЖЧСБ, 9, 88.
[106] Пуллибланк 1955, с. 35-36, 183-187.
[107] Рейшауэр 1955, с. 20.
[108] Шефер 1951, с. 408.
[109] ТШ, 38, 3721б; Балаш 1931, с. 23. Официальное, но менее распространённое название Лояна — Хэнаньфу.
[111] ТШ, 38, 3721б.
[112] Като 1936, с. 48. Из таких торговых улиц (хан «ряд лавок»), где купцов объединяли общие интересы, выросли позже «купеческие союзы», также называвшиеся хан.
[113] Сюй 1902, 5, 33б; Дрейк 1940, с. 352.
[114] Накамура 1920, с. 246-247; Чжао 1926, с. 953-954; Пуллибланк 1955, с. 37; ТШ, 134, 3978б; ЦТШ, 105, 3393а. Создателем водоёма был Вэй Цзянь; водоём назывался Озеро Дальних Перевозок (Гуанъюньтань).
[115] Источники сообщают, что после завоевания тюрок в 631 г. около 10 тысяч семей перебрались в Китай и поселились в Чанъани (Сян 1933, с. 4). О Чанъани в танскую эпоху см. также: Сирэн 1927.
[116] Sāŕthavāk — согдийское слово, которому должно было соответствовать китайское *Sât-pâu (сообщено автору в частном письме от 12.11.1961 г. Альбером Дье, исходившим из исследований Г. Бейли и др.). < О термине «сартхавак», его происхождении и дальнейшей судьбе этого слова см. также: Бартольд 1963б, с. 196-197. >
[117] Като 1936, с. 49-51, 60. Торговцы специализированного торгового ряда и их старейшина превратились во время династии Сун в купеческий союз во главе с председателем.
[118] ТШ, 196, 4087б. Приведённое место — из биографии Лу Юя, автора «Ча цзин» («Книга о чае»). Его сочинение способствовало распространению этой новой моды.
[119] ЦЦТЦ, 225, 4а. Это произошло в 775 г.
[120] ЦФЮГ, 999, 266; указ Вэнь-цзуна — в ЦТВ, 72, 2б-3а; Сян 1933, с. 34. При Тан для частных лиц, занимавшихся ростовщичеством, прибыль была ограничена 6%, хотя государство давало деньги в рост под 7% (Балаш 1960, с. 205).
[121] Исида Микипосукэ 1932, с. 67; Жернэ 1956, с. 228-232.
[122] Кисибэ 1955. Такса зависела, конечно, от общего экономического положения в стране и от репутации дамы. Одна изысканная проститутка получила от своего поклонника кошелёк с 300 тысячами монет (ЮСЦЦ, 1, 6).
[123] Чжу 1957, с. 114-115. Более подробные сведения о квартале проституток в Чанъани и биографии знаменитых гетер см.: «Бэй ли цзи» (ТДЦШ, 8, 1a-22а) и Кисибэ 1955. О проститутках «частных» и «казённых» см.: Ван Тун-лин 1930.
[124] Ли Бо. Сун Пэй Ши-ба Ту-нань гуй Суншань < «Провожаю Пэй Ту-наня, восемнадцатого брата в семье, возвращающегося в Суншань» > (ЛТБВЦ, 15, 1a); Сян 1933, с. 36-37; Исида Микиносукэ 1942, с. 54-63.
[125] Ли Бо. Цянь ю цзунь цзю син < «Песни за кубком вина (песня первая)» > (ЛТБВЦ, 3, 8а). Стереотипное выражение «киноварь покажется бирюзой», «красное станет для нас бирюзовым» — намёк на зрительные галлюцинации, вызванные винными парами, когда всё кажется не таким, какое оно есть. В первой строке, видимо, упоминается классическая песня (см «Чжоу ли», разд. «Чунь гуань», подразд. «Сы юэ»)
(372/373)
о местности, откуда в древности получали самое лучшее платановое дерево — традиционный материал для изготовления корпуса цитры. Слово «колки» передано иероглифом чжу. Это слово обычно употребляется для обозначения колков у других разновидностей цитры — сэ или чжэн, тогда как цитра, упоминаемая в этом стихотворении, называется цинь и колков не имеет. «Чужеземка» — перевод иероглифов ху цзи, означающих по-китайски прекрасную девушку с запада (или с севера) с изящными манерами (возможно, иранскую). Цзи означало первоначально «благородная дама из Чжоу», но в танское время употреблялось в значении «куртизанка», «певица».
[126] Накамура 1920, с. 244-245.
[127] Исида Микиносукэ 1932, с. 65-66; Дрейк 1940, с. 352; Шефер 1951, с. 408.
[128] ТПХЮЦ, 152, 4а.
[130] Будберг 1935, с. 11.
[131] ТШ, 40, 3726г. Средство от головной боли получали из душистых корней растения цюнцюн (болиголов-петрушка — Conioselinum univittatum).
[132] ТХЯ, 100, 1798; ЦЦТЦ, 225, 20б.
[133] ТШ, 182, 4062в; ЦТШ, 177, 3538в.
[134] Шефер 1951, с. 410.
[135] Исида Микиносукэ 1948, 75, 88. Эти фигурки назывались цзю хуцзы или бу цзуй сянь.
[136] Шефер 1951, с. 413-422.
[137] Рейшауэр 1955а, с. 220. Сведения о том месте, которое иностранцы занимали в политической и социальной жизни позднетанского Китая (в том числе и приведённый пример с арабом), см.: Чжан Чангун 1951, с. 6-7.
[138] Балаш 1932, с. 54 и сл.
[139] См., например: Балаш 1932, с. 54; Рейшауэр 1955а, с. 40.
[140] Д. Фаркухар (1957, с. 61) ясно показал это для минского времени.
[141] О трудностях, которые испытала японская миссия, пытавшаяся вести торговлю на пути в китайскую столицу, см.: Рейшауэр 1955а, с. 81.
[142] Во всяком случае, в определённых ситуациях для этого требовалось специальное разрешение: «[Маньчжурское племя] си направило прошение, чтобы ему разрешили обменивать товары на Западном рынке. Это было дозволено» (ЦФЮГ, 999, 25а). Это имело место в 716 г. Тот же источник содержит и другие примеры официальных просьб о ведении торговли в столице.
[143] ТХЯ, 86, 1581. Этот же указ объявил противозаконной перевозку любого металла через северную или восточную границу страны. Эти меры, несомненно, были направлены на то, чтобы сырьё для изготовления оружия не оказалось в руках вероятных противников Китая.
[144] Кувабара 1930, с. 190.
[145] Шефер 1951, с. 409. См.: ЦТШ, 8, 3081в. Заодно с этим жрецом действовал и один из императорских чиновников.
[146] Так по Абу Зайду. См.: Pейно 1845, с. 34. Д. Кувабара полагает, что этой непомерной пошлине соответствует то, что в «Тан шу» названо ся дин шуй, а в «Тан го ши бу» — бо цюэ (Кувабара 1930, с. 188).
[147] ЦТВ 75, 3а. Интересно, что район Фуцзяни так рано упоминается в качестве имеющего важное значение для международной торговли.
[148] Накамура 1917, с. 245. Это, как указывает К. Накамура, помогает понять, почему пользовавшиеся популярностью танские новел-
(373/374)
лы часто повествуют о богатом иноземце, который, умирая, передаёт находящееся при нём сокровище (например, драгоценный камень) китайцу, заслужившему его расположение.
[149] ТХЯ, 100, 1796; ТЛШИ, 2, 70-71.
[150] ТХЯ, 97, 1748. Это было в 821 г.; принцессу звали Тай-хэ гунчжу.
[151] ЦЦТЦ, 232, 18а.
[152] ТЛШИ, 2, 40. Однако, если тяжба велась между подданными разных государств (например, между двумя корейцами, один из которых подданный государства Силла, а другой — государства Пэкче), она разрешалась по китайским законам.
[153] ЦТШ, 198, 3614б.
[154] ЦТШ, 197, 3609г.
[155] См.: ЦФЮГ, 999, 13б-22а, где содержатся примеры просьб обо всех этих вещах. Футляр назывался юй дай «футляр для рыбы».
[156] ТХЯ, 100, 1795. Подробное рассмотрение вопроса об этих «ярлыках» см.: де Pотуp 1952, особенно с. 75-87.
[157] ТХЯ, 100, 1798. Такие нормы были установлены указом от 695 г.
[158] ЦТШ, 10, 3089б.
[159] ТЛД, 18, 11а-18а. Эти постоялые дворы содержало Ведомство документации Поднебесной (Чжуншу).
[160] Смысл архаического термина хун-лу в танское время уже был не совсем ясен. Считалось, что он означает «передача волеизъявлений». Однако (хотя лу иногда мог иметь значение «продвижение вперёд», «передача») употребление хун в значении «волеизъявление», «объявление» (или в значении, хоть сколько-нибудь близком к этому) вряд ли можно считать удовлетворительным объяснением.
[161] В 684-705 гг. это учреждение называлось просто Ведомство наблюдения за гостями (Сы-бинь сы). Описание прибытия японской миссии в Чанъань в 840 г. (Рейшауэp 1955, с. 283 и сл.) помогает представить, как осуществлялся приём вновь прибывших посольств.
[162] ТШ, 46, 3741б.
[163] Юй Гун-гу (1934, с. 8-9) полагает, что Цзя был манихеем, постигшим таинства этой религии с помощью приезжих уйгуров.
[164] ТШ, 23а, 3677г.
[165] Ши-чжун — «приписанный к Ведомству документации Поднебесной».
[166] Фань («оплот», «ограждение», «преграда») — определение, выражающее подлинную роль, отводившуюся зависимым владениям. Однако так как теоретически все иноземные народы считались оградительными оплотами Китая, то в общеупотребительном смысле слово фань стало означать просто «иностранный».
[167] ТШ, 16, 3667в. В этой главе «Тан шу» церемония описывается со всеми подробностями.
[168] Рейшауэр 1955а, с. 79-80.
[169] На Суматре. По поводу этой идентификации см.: Пельо 1904, с. 321 и сл.
[170] Сюань-цзун. Бао цы Шилифоши то чжи («Указ об ответных пожалованиях стране Шрибходжа») (ЦТВ, 22, 17б).
[171] ЦТВ, 17, 1a-1б. Это произошло в царствование Чжун-цзуна.
[172] Сян 1933, с. 42; Исида Микиносукэ 1942, с. 65-66.
[173] «Фа цюй» («Песня о модах»). См.: ЮШЧЦЦ, 24, 5б.
[174] Фитцджеральд 1938, с. 173-174.
[175] Лю Мао-цзай 1957, с. 199. Эта книга, называвшаяся «Туцзюэ юй» («Тюркская речь»), сохранялась в Японии до конца IX в., а возможно, и дольше: она приведена в списке у Фудзивары Сукэё, «Нихон коку гэндзай-сё мокуроку» (891-897).
[176] Огава Тамани 1959, с. 34-44.
(374/375)
[177] Сян 1933, с. 41; Сопер 1951, с. 13-14; Акер 1954, с. 171, примеч. 2; Чжэн Чжэнь-до 1958, особенно табл. 113; Малер 1959, с. 108-109 и табл. XXXI.
[178] Вэй-мао. Малер 1959, с. 109-110, табл. XV.
[179] Сян 1933, с. 42-43; Исида Микиносукэ 1942, с. 65-66; Сопер 1951, с. 13-14; Акер 1954, с. 171, примеч. 2. Другой иноземный фасон — высокая коническая шапка с закруглённым краем; однако нет уверенности, что этот вид головного убора носили китайцы (Сян 1933, с. 43; Малеp 1959, табл. XIX).
[180] Юань Чжэнь с осуждённом пишет о «накрученных» причёсках и о «замазанных охрой» лицах как о чём-то неподобающем китайским женщинам. См.: Сян 1933, с. 42; Исида Микиносукэ 1942, с. 67; Малер 1959, с. 18, 32, табл. VIII. Описание целого ряда других иноземных мод (преимущественно иранского происхождения) также см.: Малер 1959. Об «уйгурском шиньоне» см.: ЦХП, 2а (ШФ, 77).
[181] Уэйли 1960, с. 240.
[182] Исида Микиносукэ 1948, с. 144-145; Лю Мао-цзай 1957, с. 203-204. В целом, однако, китайское строительное дело, как и египетское, не испытывало на себе иностранных влияний. Необычные потолки в пещерных святилищах, покрытые изображениями в духе буддийских космогонических представлений, могли быть выполнены только в местах вроде Дуньхуана, где китайские образцы были недоступны. См.: Сопер 1947, с. 238.
[183] Сян 1933, с. 41; Фитцджеральд 1938, с. 173-174; Мэнхен-Xелфен 1957, с. 120. < Ли Чэн-цянь (620-645), старший сын императора Тай-цзуна (Ли Ши-минь), с 627 г. наследник трона. Однако в 643 г. за разгульную жизнь и дворцовые заговоры был разжалован в простолюдины, сослан и умер в ссылке. См.: ТШ, 76, 3331. >
[184] Сян 1933, с. 45-46; Рейшаузр 1955, с. 297. О важном значении производства растительного масла как для употребления в пищу, так и для светильников см.: Жеpнэ 1956, с. 146-149.
[185] Приведённое место — из известной новеллы о лисе-оборотне «Жэнь ши чжуань» («История Жэнь») писателя VIII в. Шэнь Цзи-цзи. См.: ТПГЦ, 452, 1б. Этот рассказ был также переведён на английский язык в сборнике «Дочь царя драконов», 1954, с. 7 < русский перевод О.Л. Фишман см.: «Танские новеллы», с. 16-17; ср.: «Гуляка и волшебник», с. 35 >. См. также новеллу об «Иноземце, который продавал пирожки»; в ней центральной фигурой является иноземец, который у себя на родине был когда-то богатым человеком, а затем много лет в Китае вёл уединённую и скромную жизнь (ТПГЦ, 402, 9а-9б).
[186] ШП, 72а. В этой книге приводится меню лукуллова пира, называвшегося «перемены горячего» (шао вэй), данного по случаю вступления в должность верховного министра. Речь идёт о вполне конкретном пиршестве, устроенном в честь Вэй Цзюй-юаня — самого автора цитируемого сочинения. См. также: Эдвардс 1937, т. I, с. 192-193.
[188] Сопер 1951, с. 9-11.
[189] СХХП, 8, 222-224.
[190] СХХП, 8, 225-228.
[191] Сопер 1950, с. 11.
[192] Сопер 1951, с. 74. Переводы А. Сопера.
[193] ЛДМХЦ, 9, 273; СХХП, 1, 60.
[194] Чжоу фан написал и самую замечательную из всех подобных картин — «Ян Гуй-фэй, покидающая купальню» (СХХП, 6, 166-172).
[195] СХХП, 5, 155-159; 6, 166-172. Оба эти художника также писали портреты Ян Гуй-фэй, обучающей своего любимого попугая.
(375/376)
[196] СХХП, 10, 262.
[197] Малер 1959, с. 81-84 и вся работа в целом.
[198] СХХП, 1, 60.
[199] ЛДМХЦ, 10, 324; Сопер 1950, с. 19. Два других знаменитых художника, писавших картины на чужеземную тематику, — Ли Хэн и Ци Минь. Ци Минь иногда упоминается в источниках как Ци Цзяо. См.: ЛДМХЦ, 10, 313.
[200] Сопер 1951, с. 25.
[201] СХХП, 6, 166-172.
[202] СХХП, 5, 155-159.
[203] Особенно оплакивающие Будду на живописи в пещере 158, которая относится к IX в. (Гpэй 1959, табл. 57).
[204] Гpуссэ 1948, с. XXXIV-XXXV, где описывается настенная живопись из Кызыла (близ Кучи).
[205] ЛДМХЦ, 10, 313, 324; Сопер 1950, с. 19. Особый пример чужеземных влияний на изваяния животных в Китае — мраморные изображения зодиакальных животных, выполненные в «сибирском» или «иранском» стиле. «В этом отношении такие рельефы скорее воспроизводят внешние особенности, чем стиль... как и все их „собратья” по танскому преклонению перед всем экзотическим, и стоят на деле в стороне от естественного хода развития стиля китайской скульптуры» (Роулэнд 1947, с. 265-282). Но мы не знаем, можно ли распространить это авторитетное мнение и на китайскую живопись, посвящённую экзотическим темам.
[206] Этот вид одеяния оставил любопытный след в истории музыки. Старинная песня «Пуса [*B’uo-sat] мань», на мелодию которой написаны в разное время многочисленные слова, была сочинена неизвестным народным композитором в IX в. Название мелодии означает «Бодхисаттва варваров» или, если переводить более точно, «Варвары мани, [одетые, как] бодхисаттвы». По словам Су Э (ДЯЦБ, 2, 58б), это название обязано своим происхождением внешнему виду послов, которых отправило с подношениями в Китай некое Женское царство варваров-маней: они были увешаны золотыми медальонами, соединёнными гирляндами бус, как на традиционных изображениях бодхисаттв. Страну эту нельзя теперь точно идентифицировать, но, несомненно, речь идёт об одной из индианизированных стран в Индийском океане, где существовала какая-то разновидность «матриархата». Средневековые китайские источники часто описывают в тех же выражениях мужские и женские одеяния жителей Индокитая и Индонезии. Так, в ЦФЮГ (959, 17б) говорится, что царь Тямпы носит ожерелья из бус, «подобные украшениям на буддийской статуе». Сунский трактат «Пинчжоу кэ-тань» («Беседы гостя в Пинчжоу») сообщает, что название пуса мань относится к «иноземным» (индонезийским или индокитайским?) женщинам, живущим в Гуандуне, и в этих словах есть зерно истины. Предположение Ф. Хирта, что это название являлось китайской транскрипцией для обозначения «мусульман», следует отвергнуть. Всё об этом можно найти в работе: Кувабара 1930, с. 67-69. См. также: Бакстep 1953, с. 144. В одном из последних исследований, посвящённых этой песне (Чжан Бань 1960, с. 24), была сделана попытка рассматривать её название как транскрипцию бирманского этнического наименования Pyusa-[wati]-Man; однако такое доказательство не может быть принято, поскольку оно опирается на современное стандартное китайское произношение, использование которого здесь неправомерно. Как будет показано ниже, большинство (если не все) из посольств с данью, описанных в ДЯЦБ, или легендарны, или — в тех случаях, когда они не вымышлены, — щедро приукрашены в изложении Су Э. И не исключено, что эта песня обязана своим
(376/377)
происхождением не какому-то подлинному событию, а именно рассказу, вымышленному самим Су Э.
[207] Сопер 1951, с. 11, примеч. 122.
[208] Джейн 1941, с. 7.
[209] ЮЯЦЦ, сюй цзи, 5, 218. Из живописи в храме Баоинсы в Чанъани.
[210] Согласно СХХП (1, 63) и «Тан чао мин хуа лу» < «Опись знаменитых картин династии Тан» > (перевод см.: Сопер 1950, с. 11), он был тохаристанцем. Но, по ЛДМХЦ (9, 278-279), он был уроженцем Хотана; Т. Нагахиро (1955, с. 71-72) поддерживает эту точку зрения.
[211] Из санскритского Виджайа. Сян 1933, с. 6.
[212] Сян 1933, с. 6-7, 52-56; Исида Микиносукэ 1942, с. 179-180; Сопер 1950, с. 11; Бейли 1961, с. 16. О трудностях в определении времени жизни этого художника см.: Нагахиро 1950, с. 72-74. На некоторых раннетанских изображениях в настенной живописи Дуньхуана (например, роспись 642 г., сохранившаяся в пещере 220) лица моделированы светотенью, а фигуры «имеют вес и занимают определённое положение в пространстве» (Гpэй 1959, с. 54). Может быть, именно такую манеру письма, ведущую начало из Индии или из Сериндии, и продемонстрировал удивлённому двору Виша.
[213] Трюбнер 1959, с. 148.
[214] В одной коллекции сунского времени. ЮЯГЯЛ, а, 7.
[215] Араи 1959, с. 5-6, 11-12. Словом «демонический» переведён здесь иероглиф гуй, означающий также «сверхъестественный» и «духовный».
[216] ЛЧЦГШ, вай цзи, 14б-15а.
[217] ИТШ, 147, 3474в.
[218] Ду Му. Го Хуацингун < «Прохожу мимо дворца Хуацингун (стихотворение первое)» >. — ФЧВЦ, 2, 6б.
[219] Эта романтическая тема получила развитие во многих произведениях. См.: Шефер 1956, с. 81-82.
[220] «Звучащие камни с берегов Сы» упоминаются в «Шу цзине»; веками китайцы впоследствии пытались отыскать на берегах Сы ту самую скалу, камень которой годился для изготовления курантов. См.: Шефер 1961, с. 50-51. Его пробовали заменить материалом, который назывался «камень хуа-юань». См. стихотворение «Хуа-юань цин» < «Курант из камня хуа-юань» > в ЮШЧЦЦ, 24, 2б. Похоже, что Сюань-цзуну нравилось экспериментировать с новыми материалами для изготовления классических курантов. В источниках сообщается, что у него был литофон, сделанный из «зелёной яшмы с Синих Полей» (Ланьтянь), что в горах южнее Чанъани; на самом деле это был зеленоватый мрамор. Эти куранты были изготовлены для госпожи Ян, которая была искусна в игре на литофоне. См.: КЮТБИШ (ТДЦШ, 3, 76б).
[222] Шефеp 1951, с. 417-421.
[223] Было высказано предположение, что эта мода распространилась даже на создание некоторыми художниками VIII-X вв. в живописи фантастических картин-видений (звери и люди среди скал), предвосхищавших некоторые проявления западного сюрреализма. См.: Балтрушайтис 1955, с. 212-213.
[224] Лёp 1959, с. 171. Это увлечение в конце XI в. сменилось более спокойной и скромной манерой письма.
[226] ГСЦШ, б, 14а. Эта страна называлась Мабаэр (ср.: ЮШ, 210, 65966, где эр написано не с помощью иероглифа «два», а через иероглиф «ребёнок»). Это была большая страна примерно в 100 тысячах ли от Зейтуна. Китайское написание, видимо, должно быть транскрипцией назва-
(377/378)
ния местности, арабское название которой звучало как Ма’абар. Профессор П. Уэтли сообщил мне, что этому названию должно соответствовать Коромандельское побережье Индостана или какая-то его часть.
[227] Цзян 1937. Эта замечательная книга посвящена путешествиям, к которым в Китае относились как к полному опасностей духовному подвигу; она показывает, как сильно китайская литература (а в ней, видимо, отражается только часть устной традиции) была проникнута заботой о том, чтобы наставить осторожного путешественника, чего ему следует ожидать и чего избегать. «Шань-хай цзин» — пример такого «путеводителя», сообщающего сведения о чудовищах, с которыми путешественник мог столкнуться в далёких краях.
[228] ЦТВ, 1, 136. См. также: ТШ, 1, 3634г (от 29 ноября 618 г.).
[229] Например, указы Чжун-цзуна (ЦТВ, 16, 13а-13б) и Сянь-цзуна (ЦТВ, 59, 6б).
[230] Огава Сёити (1957, с. 112-114) классифицировал поэтические темы, характерные для периода упадка Тан, по таким рубрикам: пограничные столкновения, междоусобная война и воспоминания о былом. Одним из подразделов последней категории и является рассматриваемая тема «фантастической дани».
[231] Дж. У 1939, с. 165. Приведённая цитата относится к стихам последних десятилетий существования Тан, т.е. к поэтам Ли Шан-иню, Ду My, Вэнь Тин-юню и др.
[232] Царствование Дай-цзуна (763-780), рассматривавшееся как некоторое возрождение прошлого, было лишь немногим менее излюбленной темой в литературе «воспоминаний о былом» IX в.
[233] Дин го бао.
[234] ЮЯЦЦ, 1, 3-4 (время правления Дай-цзуна). Этот рассказ, несмотря на фантастические детали и сверхъестественные прикрасы, основан на историческом событии. Рассказ «Су-цзун чао ба бао» < «Су-цзун встречает восемь драгоценностей» > (он приведён в ТПГЦ, 404, 1a-3а) содержит чудесное описание драгоценностей, вручённых буддийской монахине неким божественным существом, — драгоценностей, которые принесли стране мир и процветание в 60-х годах VIII в. Это побудило императора принять девиз правления «Воздаяние драгоценностям» (Бао-ин). Этот же рассказ имеется в сокращённом виде в ЮЯЦЦ, откуда и взят приведённый мной рассказ о магических кольцах. Оказывается, эти драгоценности (или сокровища) были действительно преподнесены престолу так, как это было описано. См.: ЦТШ, 10, 3090в; E Дэ-лу 1947, с. 101-103.
[235] КЮТБИШ (ТДЦШ, 3, 42б-43а). О чудесных свойствах рога носорога см. также: Лауфеp 1913, с. 315-370.
[236] КЮТБИШ, 45а.
[237] КЮТБИШ, 41б-42а.
[238] По-китайски эта страна называлась Малый Болюй. Царь этой страны находился в Гильгите. См.: Чжан Син-лан 1930, т. 5, с. 160.
[239] ЮЯЦЦ, 14, 109-110.
[240] «Дуян цзабянь».
[241] См. предисловие самого Су Э в ЦТВ (813, 27а-27б). Автор описывает себя как пылкого почитателя таких старинных книг о чудесах, как «Ши-и цзи» и «Дун мин цзи», который после изучения и более серьёзных трудов пришёл к убеждению, что «в пределах небес и земли нет ничего, что не могло бы существовать». Эта книга представлена в ТДЦШ (2) и была кратко рассмотрена Э. Эдвардс (1937, с. 83-85), которая, в свою очередь, цитирует А. Уайли (1867, с. 194), чтобы показать, что эта книга была «написана в подражание „Ши-и цзи” и многое из того, что в ней утверждается, выглядит как апокриф». Похвальная сдержанность в суждениях! Тем не менее Бо Шоу-и (Бо Шоу-и 1937)
(378/379)
в своём исследовании о значении благовоний во времена Тан и Сун приводит рассказы из этой книги о чудесах как исторически достоверные. Книге этой повезло: новеллы Су Э долго оставались «в обращении» и ещё много веков спустя привлекали к себе авторов фантастических рассказов, например в XIV в. Янь Юя, использовавшего их в своей «Шань цзюй синь хуа». См.: Франке 1955, с. 306.
[242] Лин гуан доу. Имеется английский перевод всего этого места: Эдвардс 1937, 1, с. 84-85.
[243] Жилинь следует, может быть, исправить на Жибэнь. Название этой страны и рассказ о чудесной скале были взяты Су Э из книги Жэнь Фана (V в.). — ШИЦ, б, 12б.
[244] Такая скала с «рентгеновскими лучами», по преданиям, была известна в III в. до н.э., но не в чужих странах, а в самом Китае, и была названа Первым императором < династии Цинь, циньским Ши-хуаном, > «Сокровище, отражающее кости» (ЮЯЦЦ, 10, 73). Туземное название для этих бобов — «бусы *kiět-tâ».
[245] Это существо и то, что оно производило, будет рассмотрено в гл. XII («Ткани»).
[246] Лун цзюэ чай.
[247] См.: ЦТШ, 52, 3281г.
[248] Люй шуй чжу.
[249] Цюэ хо цюэ.
[250] Лауфеp 1915, с. 320-321. По описанию Бузург ибн Шахрийара (с. 148), самандал из страны Вак-вак — «как зелёный дятел, его оперение переливается красным, белым, зелёным и голубым». Но наши китайские огонь-птички — чёрные.
[251] Цин фэн и фэй луань. Персидский «симург» в качестве эквивалента фантастическому китайскому луань должен вызывать не больше удивления, чем гораздо более условное отождествление западного «феникса» с китайской птицей фэн; некоторые считают, что луань — это приукрашенный фантазией фазан Argus.
[252] Чан жань дин.
[253] Чан цзянь бин.
[254] Бянь чжоу цао.
[255] У цай цюйшу. Эпитет «пятицветный» может означать также «обладающий всеми цветами» или «цвета радуги».
[256] Бань фо шань.
[257] Такого рода замысловатые произведения были на самом деле очень популярны во времена Тан и Сун.
[258] Чжулай няо.
[259] У зелёной индокитайской сороки (Kitta chinensis) красный клюв, зелёное оперение и бело-зелёный хвост, обрамлённый белым. Есть и другие виды сорок, которые вполне подходят под описание птицы чжулай. Сообразительность и пронзительный голос (наряду с расцветкой) также наводят на мысль об этой птице.
[260] «До синь цзин».
[261] Эту птицу считали предзнаменованием прихода к власти Чжу Цы — военачальника, который изгнал императора Шунь-цзуна (805-806) из столицы в Маньчжурию. Затем Чжу Цы объявил себя императором. Предзнаменование состояло в истолковании китайского названия птицы как «Чжу идёт». Во всём остальном похоже, что это было вполне реальное подношение.
[262] Например, Ян Юя в XIV в. (Франке 1955, с. 306).
|