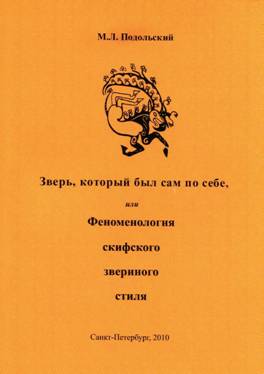 М.Л. Подольский
М.Л. Подольский
Зверь, который был сам по себе,
или Феноменология скифского звериного стиля.
// СПб: «ЭлекСис», 2010. 192 с. ISBN 978-5-904247-31-7.
Содержание
Скифский олень. — 19
Навершия с фигурой козла. — 25
Голова птицы. — 28
Сюжет и композиция. — 32
Экскурс в теорию композиции. — 35
Изобразительная поверхность (по В.А. Фаворскому). — 35
Наскальный вариант. — 40
Египетский вариант. — 47
Панорамный вариант. — 51
Греческий вариант. — 54
Византийский вариант. — 57
Композиция типа мандалы. — 59
Скифская изобразительная поверхность. — 61
Структура художественного пространства. — 70
Проблема бесконечности. — 75
О театральности искусства. — 82
Галерея шедевров. — 89
Аржанская пантера. — 89
Бляха из Сибирской коллекции Петра I. — 96
Келермесская пантера. — 101
Скифские олени. — 107
От композиции к стилю. — 115
На подступах к стилю. — 115
Квинтэссенция скифо-сибирского стиля. — 120
Эклектика: майэмирские бляхи. — 125
Эклектика (продолжение): Причерноморье. — 128
Эклектика (продолжение): искусство савроматов. — 136
Еще об эклектике: находки из алтайских курганов. — 138
Скифская графика. — 150
На пути к орнаменту и к знаку (деградация стиля). — 153
Преодоление стиля (торжество орнаментальности). — 156
Стиль и эпоха. — 159
Промежуточное резюме. — 159
Стиль эпохи (по Г. Вёльфлину). — 160
Жизнеощущение эпохи. — 162
Стиль и художественное направление. — 165
Стиль и религия. — 168
У истоков рыцарства. — 170
Финал скифской эпохи. — 173
Очередная смена жизнеощущения. — 175
Скифский звериный стиль в истории мирового искусства. — 179
(/5)
От редактора. ^
Небольшая книга М.Л. Подольского «Зверь, который был сам по себе...», как и любое откровение, по-своему уникальна. В течение многих десятков лет, во всяком случае, на протяжении всей второй половины XX века, исследователи пытались и пытаются ответить на вопрос о происхождении скифо-сибирского звериного стиля. Существует несколько устоявшихся теорий его происхождения — автохтонная, переднеазиатская, центральноазиатская, полицентрическая. Ни одна из них не опровергает другую, но и не является окончательным решением вопроса. В известной мере это объясняется тем, что при обращении к произведениям искусства звериного стиля использовались, главным образом, традиционные методы археологии — датировка тех или иных изображений, выделение наиболее ярких изобразительных приемов и признаков, формирующих понятие «стиль», сравнительно-типологический анализ и так далее. При этом часто археологи сетовали на искусствоведов, не уделяющих достаточно внимания такому яркому явлению древнего изобразительного искусства, как скифо-сибирский звериный стиль. В свою очередь искусствоведы (не все, но, во всяком случае, многие) не видят в нём «настоящего» искусства и считают его изучение прерогативой исследовательской деятельности археологов.
М.Л. Подольский подошёл к решению этой проблемы по-своему, обратившись к логике построения самих фигур звериного стиля, характеру расположения их в глубине виртуального (мифологического) пространства. В принципе, такой подход не противоречит предшествующим, но главным теперь становится вопрос не о происхождении, а о том, почему и как возникло искусство звериного стиля. А это не совсем одно и то же. Говоря о причинах появления данного феномена, вслед за М.Л. Подольским, мы обращаемся не к его возможным истокам, предшественникам, архетипам, позднее — заимствованиям, а пытаемся для себя, хотя бы частично, восстановить в сохранившихся образах «неведомых зверей» ту ауру мифопоэтического творчества, когда жили создатели этих изображений. Следует отдать должное смелости и проницательности автора, уловившего в море литературы по зверино-
(5/6)
му стилю то глубинное течение, которое ведёт к первоисточнику, независимо от мнения исследователей, решающих эту проблему.
Естественно рассмотрение с этой точки зрения всех (или хотя бы значительной выборки) изображений звериного стиля в такой небольшой по объему монографии практически невозможно (да и не нужно!). Достаточно найти правильную «точку опоры». Поэтому автор совершенно прав, выбрав только несколько наиболее совершенных изображений или «шедевров звериного стиля» (своего рода «видеоряд»), предлагая погрузиться в их скрупулёзный стилистический анализ и понять — изнутри — почему так, а не иначе сделано то или иное изображение. Как они выглядят в пространстве? Какова гармония соотношения основных частей той или иной фигуры? В чём кардинальное отличие простого зооморфного изображения от изображений звериного стиля? И для нас по-новому предстают давно знакомые образы — Аржанская пантера, Костромской олень, Келермесская пантера, тагарские олени и навершия с фигурками горных козлов.
На этих примерах отрабатывается опыт распознавания образов искусства скифского звериного стиля, существовавших ещё до того, когда оно начинает испытывать влияние со стороны переднеазиатской, малоазийской, древнегреческой художественных традиций. Я бы назвал этот собственно скифский, начальный звериный стиль нуклеарным — от известного археологического термина нуклеус (ядрище), с которого отделяются симметричные пластины-образы ещё до начала вторичной обработки. С этим стилем скифы пришли на Ближний Восток. Именно эти изображения копировали ассирийские мастера, а не наоборот.
Книга М.Л. Подольского написана в необычной для специальных изданий форме. Это не просто научный текст, а неторопливая беседа с читателем на «заданную тему», рассказ человека умного, высокообразованного и доброжелательного, одинаково склонного к критическому анализу деталей и к философским обобщениям. В свободной манере этой беседы вполне уместны иногда неожиданные, но так или иначе работающие на позицию автора ассоциации, отступления, обращение к наследию мировых художественных школ (египетский вариант, греческий вариант, византийский вариант и др.). В один ряд с ними становится искусство звериного стиля, обладавшее своими законами композиции и формирования образов, обусловленными скупым и героическим бытом кочевников Великой степи.
Не со всеми оценками автора можно безоговорочно согласиться. Например, с качественным сопоставлением Костромского оленя и олен-
(6/7)
ных бляшек тагарской культуры — в пользу последних (гораздо лучший пример — золотой олень из Куль-Обы, буквально задавленный эклектикой); на мой взгляд, излишне акцентировано перерождение звериного стиля в орнаментальные композиции (древнее степное искусство сохраняло свои традиции в зооморфных образах и в Средневековье). В итоге своих наблюдений М.Л. Подольский склоняется к полицентрической теории возникновения звериного стиля (однако любое композиционное или стилистическое решение так или иначе где-то появилось раньше, где-то позже, хотя возможно археологически это неуловимо).
Вообще книга М.Л. Подольского заставляет задуматься об очень многом. Но для этого её надо прочитать. Ещё никто не рассматривал искусство звериного стиля в таком панорамном аспекте — на широком фоне истории изобразительного искусства. Поэтому не надо удивляться, что на одну нить рассуждений автора нанизаны «теоремы» художественного творчества от замечательных росписей Альтамиры до «Мыслителя» Родена.
Д.Г. Савинов
|