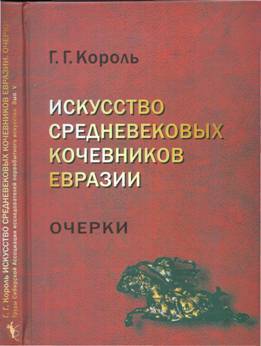 Г.Г. Король
Г.Г. Король
Искусство средневековых кочевников Евразии. Очерки.
// М., Кемерово: «Кузбассвузиздат». 2008. 332 с.
ISBN 5-202-00239-4 (Труды САИПИ. Вып. V).
Вместо заключения.
Искусство средневековых кочевников:
единство материального и духовного.
…На свете смерти нет,
Бессмертны все. Бессмертно всё…
…Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете.
Мы все уже на берегу морском,
И я из тех, кто выбирает сети,
Когда идёт бессмертье косяком.
А.А. Тарковский. Жизнь, жизнь
Декоративно-прикладное искусство народов степной Евразии и прилегающих территорий в конце I — начале II тыс. н.э. представлено значительным количеством ременных украшений (в первую очередь сбруйных) и других предметов торевтики малых форм. Учитывая, что в походах каждый воин имел ещё и запасных лошадей, можно представить, какое число ременных сбруйных украшений требовалось для снаряжения всего войска какого-нибудь кагана, собиравшего под свои знамёна все возможные силы, для регулярной замены этих украшений в случае их утраты или поломки. Дошедшее до нас количество ременных (включая поясные) и других украшений воина-всадника, представленных торевтикой малых форм, — лишь незначительная часть бывших в употреблении изделий. Эта категория предметов — интереснейший источник для исследования не только технологических и художественных традиций, в совокупности давших такое яркое явление, как раннесредневековый стиль декора — стиль «степного орнаментализма», но и процессов исторического плана (тесные разнообразнеы контакты тюркских народов в эпоху их исторической активности с многими другими народами и государствами), которые содействовали возможности появления именно такого синкретического искусства.
Особый интерес представляет исследование этого визуального искусства в сопоставлении с устным эпическим творчеством разных народов и его мифологической основой. Для этой цели кажется перспективным изучение изобразительно-антропоморфного сюжетного декора. Анализ наиболее ярких образцов с юга Восточной Европы свидетельствует о возможности поиска аналогий визуальным сюжетам в устном творчестве, в первую очередь в нартском эпосе. Аналогичный анализ единичных «сюжетов» из Саяно-Алтая показал, наоборот, бесперспективность подобных поисков на данном этапе, но несомненную возможность сопоставлений (в том числе и других кодов декора, в первую очередь растительного) с традиционным мировоззрением народа и религиозными представлениями верхушки общества. Процесс формирования и развития обоих видов искусства (визуального и вербального) в раннем средневековье происходил на основе духовного потенциала народа, его мифологии, традиционного мировоззрения, религиозных верований. И этот аспект был для нас наиболее важен при исследовании декора торевтики малых форм.
Разные коды декора были подробно рассмотрены применительно к искусству Саяно-Алтая. Орнамент и декор структурно разнообразен, представляя все возможные виды — геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный. Безусловно преобладающим является растительный код орнамента и декора. Характерной особенностью декоративно-прикладного искусства можно назвать особую популярность во всех регионах Саяно-Алтая выделенных нами так называемых серийных изделий. Их составляют предметы, украшенные определёнными растительными композициями, а также отдельными мотивами (растительными и геометрическими), являющимися устоявшимися символами буддийского происхождения, которые широко использовались и в манихейском изобразительном искусстве. К манихейству был проявлен особый интерес
(221/222)
со стороны высшей власти каганатов конца I — начала II тыс. Вместе с согдийцами, как известно, манихейство проникло далеко на восток. Изучение декоративного искусства кочевников Саяно-Алтая даёт возможность заключить, что заимствованные элементы и мотивы проходили отбор через «внутренние установки» воинов-всадников и составляли совершенно определённый набор наиболее приемлемых из них. Некоторые мотивы иконографически оставались неизменными, другие видоизменялись и развивались.
Важным, на наш взгляд, является тот факт, что преобладающий растительный и наиболее популярный символический декор украшает именно предметы сбруи коня, а также пояс всадника. О семиотическом статусе пояса, его защитной функции, способствующей благополучию и счастью, много написано [см., напр.: Традиционное мировоззрение…, 1988, с. 182-184; Добжанский, 1990, глава III; Мурашева, 2000, глава 6]. Рассматривались исследователями самые разные аспекты этого статуса: утилитарные функции, социальные, обрядовые, в том числе в погребальной обрядности, значение пояса в этническом и религиозном самосознании. Подчёркивалась его роль как оберега и символа войны. Проведённое нами исследование орнамента и декора преимущественно ременных украшений пояса всадника и сбруи коня и сопоставление его с традиционным мировоззрением тюрков показало, что определяющим фактором (возможно, воспринимаемым подсознательно) особой роли преобладающего декора была жизнеутверждающая сила растительного орнамента предметов, сопровождающих всадника-воина в самые опасные для жизни периоды. Вегетативный код, которым, по мнению специалистов, пронизана вся культура тюркских народов с ранних этапов их исторического развития, — это символ самой жизни, идей бессмертия и круговорота жизни, возвращения к истокам в случае смерти, получили прекрасное воплощение в растительном декоре на украшениях-оберегах воина-всадника и его коня. Растительный декор сам по себе был символической защитой, являясь рукотворным выражением основополагающих мировоззренческих идей о вечности жизни и её истока. Именно поэтому, на наш взгляд, он так широко распространился в искусстве раннесредневековых тюрок, появившись ещё на первых этапах формирования их культуры [см.: Киселёв, 1949, с. 295; Войтов, 1986, рис. 3, 1, 3, 4; Войтов, Баяр, 1990, рис. 1, а, б; 2, а, в; Кубарев, 2005, с. 128-130].
Пояс у тюрков при жизни человека был вместилищем его души и считался неотделимым от человека, символизировал его связь с миром людей. Его нельзя было ни дарить, ни продавать [Традиционное мировоззрение…, 1988, с. 183]. Он сам по себе был символом жизненной силы, а растительный декор символически увеличивал эти силы. В енисейских древнетюркских эпитафиях нередко упоминается пояс или золотой пояс как символ жизни воина и один из элементов жизни, с которой «разлучился» погибший [см.: Малов, 1952, с. 17, 27, 46]. «Оберегом и одновременно олицетворением жизненной силы является пояс с серебряными бляхами, часто имевшими символическую форму солнца, рыбы, совы и т.д. В связи с этим необходимо указать на казахский обычай вывешивания на шесте мужского пояса в случае смерти его владельца» [Тохтабаева, 1991, с. 97]. Такой же жизненной силой наделялась узда. Её декор соответственно тоже был важным символом этой силы. «По традиционным верованиям хакасов, конская узда имела непосредственную связь с душой мужчины, а также с его жизненной удачей. Считалось, что если отдать узду чужому человеку, то можно лишиться … удачи и даже умереть. Когда мужчина заболевал, посторонним людям категорически запрещалось притрагиваться к ней» [Бурнаков, 2007, с. 183, 184].
В средневековых погребениях именно пояс и узда или их отдельные бляхи-украшения, а также другие предметы торевтики малых форм с определённым, нередко смысловым декором, украшавшие одежду или снаряжение погребённого, довольно часто (но не всегда) были включены в сопроводительный инвентарь. Можно предположить, что они помимо простых атрибутов социального статуса человека и т.п. могли быть (благодаря функции пояса, узды как вместилища жизненной силы или семантике декора украшений) символом той «нити жизни», которая соединяла Средний мир живых людей и Небесные сферы [Традиционное мировоззрение…, 1988, с. 184,
(222/223)
185], сопровождая умерших в иной мир и подчёркивая непрерывность жизни как таковой. Отмечено помещение уздечных блях IX-X вв. в женские погребения следующей эпохи, XI-XII вв., другой культурной принадлежности. И.Л. Кызласов объясняет это «древностью традиционного хакасского обычая передачи от матери к дочери женских свадебных уздечек и иной специальной
свадебной конской сбруи» [Кызласов И.Л., 2001а, с. 159]. С рассматриваемой нами позиции — это ещё одно подтверждение символики ременных украшений, связанной с жизненным циклом человека в его разных проявлениях.
В момент другого важного этапа жизненного цикла, при инициации мальчика — первой посадке на коня, киргизы одаривали маленького всадника предметами конского убранства, в итоге такого важного ритуала родители мальчика получали всё необходимое для его коня [Фиельструп, 2002, с. 84].
Не следует, на наш взгляд, опасаться преувеличить магические свойства пояса и узды и соответственно их декора, которыми наделяли их не только в древности, но и в средневековье, и в традиционных культурах. Это тот аспект традиционных представлений, который уводит в глубокую древность. Такие свойства пояса и узды известны по поверьям народов Средней Азии и Казахстана. Эти предметы использовали при трудных родах (магия символа жизни!). Конь наделялся способностью изгонять злых духов и обеспечивать плодовитость. Этим объясняется присутствие коня или элементов его сбруи при родах. Кроме того, «большое значение придавалось наборному поясу свёкра роженицы. Считалось, что если этим поясом три раза обвести роженицу,
то она непременно должна разрешиться» [Толеубаев, 1991, с. 18, 19, 66, 67; Губаева, 2005, с. 136, 137]. Заметим, что в алтайском языке боевой пояс воина и ритуальный пояс шамана имеют одно
наименование (курдак) [Алтайские героические…, 1997, с. 639]. Шаманство в раннем средневековье оставалось важным элементом традиционных религиозных воззрений и практики, несмотря на проникновение в среду тюркской верхушки Саяно-Алтая манихейства. Вера в духов, божеств, чародейство, превращения были неотъемлемой частью шаманской практики [см., напр.:
Алексеев, 1980; Басилов, 1992; Пустогачев, 1997; Таксами, 1997]. Путешествия между мирами, превращения (оборотничество), как мы видели, — элементы подвигов героев-богатырей и черта сюжетов эпических произведений. Заметим, к примеру, что и в средневековом Китае (с IV-V вв., в эпоху Сун X-XIII вв.) были чрезвычайно популярны рассказы (образцы устного народного творчества) об удивительных существах, животных и растениях-оборотнях, о душах умерших и чудесных предметах, о науке бессмертия и превращений, о героях — «Воинах — Служителях Неба». При этом исследователи отмечают, что ни сами авторы, ни современники не считали это
фантастикой [Гань Бао, 1994, с. 18, сл.; Простонародные…, 1995].
Реальность фантастического в эпическом повествовании, оборотничество героев, их превращения в разных животных, птиц, рыб (реже — растения) — тот мифологический пласт эпического наследия тюркских народов, который, сохранившись с более древних времён, имел, возможно, и визуальное воплощение в некоторых зооморфных мотивах рассмотренного декоративно-прикладного искусства Саяно-Алтая рубежа I-II тыс. Магическое значение декора воинского снаряжения, усиливающего возможности самого воина, известно по эпическим произведениям. К описанию смысловых зооморфных украшений в резьбе лука из тувинского эпоса, приведённому в главе 1, добавим аналогичное описание из монгольского эпоса. На крыльях «могучего» лука «вырезаны бодающиеся баран и козёл, на подставочках два рысящих борова, чёрный и жёлтый, на ухватах были вырезаны схватившиеся тигр и дракон, на наставных же концах были вырезаны бьющиеся крылами ворон и гусь» [Владимирцов, 1923, с. 63] *. [сноска: * Здесь же, на с. 62, описана и бронзовая, огненная кольчуга с изображениями животных в схватке, божественной птицы Гаруда, бодхисатвы; вредоносных существ — на подоле вниз головой.] В эпических произведениях тюркских народов встречаются и образы зооморфного кода, через которые описывается поединок богатырей: «Схватился, как лев со львом, / Он боролся, как волк степной с жеребцом,
(223/224)
/ Как барс лесной с кабаном, / Как орёл с быстроногим козлом» [Вайнштейн, 1974, с. 37]. Интересен пример согдийского текста, написанного, по-видимому, в Центральной Азии, приведённый в связи с толкованием встречающегося в древнетюркских надписях слова, означающего «украшение», «резьба», «орнамент». Текст посвящён волшебным свойствам камней, «магической минералогии» (где важная роль отводится изображениям): «На бруске белого сандала надо сделать изображение…, нужно вырезать: верблюд борется с верблюдом, конь борется с конём, осёл — с ослом, бык — с быком, баран — с бараном, собака — с собакой, птица — с птицей, человек — с человеком. Такую резьбу нужно приказать целиком вырезать… искусному мастеру» [Кляшторный, 1978, с. 245, 246]. Заметим, что зооморфный код в искусстве был актуален и в воинской реальности западноевропейского раннего средневековья, что отражено как в образцах эпических произведений, так и изделий декоративно-прикладного искусства [Хлевов, Тодоров(-а), 1996].
Возвращаясь к ременным украшениям, подчеркнём и некоторые дополнительные их функции, отражённые в тюрко-монгольском эпосе или трактуемые в соответствии с ним. В алтайском эпосе часто встречается упоминание золотой узды с 62-мя украшениями. Сказитель трактует эту строку как описание узды с деревянными или бронзовыми изображениями животных, входящих в 12-летний животный цикл летоисчисления *, [сноска: * О возможном происхождении этого цикла в среде кочевых народов Центральной Азии см.: [Захарова, 1960].] иначе — «узды летоисчисления». В эпосе вместо 12 изображений указывается гиперболическая цифра 62 [Маадай-Кара, 1973, с. 462]. В монгольском Сокровенном сказании Темучжин, «на солнце смотря, … молитву творя», кланяясь до земли и вознося благодарность Небу и Земле («Небо с землёю нам мощь умножали»), «На шею он пояс повесил, как чётки, привесил» [Козин, 1941, с. 98]. Очевидно, что цикличное летоисчисление с помощью уздечных украшений и благодарственная молитва Небу и Земле, в которой пояс (вероятно, наборный, если его можно сравнить с чётками, которые сами по себе суть бесконечного в конечном) выполняет функцию ритуального предмета, — элементы повторяющегося круговорота жизни, связанного с неподвластным человеку временем, бессмертием и бесконечностью.
При символическом восприятии декора таких важных элементов ежедневной жизни воина-всадника, как пояс и узда, которые сами по себе — символы жизненной силы, не возникает сомнения в том, что эти предметы в целом, вместе с наборными украшениями, служили мощными апотропеями (наряду со всеми другими функциями **, [сноска: ** Особенно отметим социально-ранговую функцию пояса и поясных накладок, а также социальную — сбруйных ременных украшений. Выделенные нами совместно с Л.В. Коньковой при комплексном исследовании торевтики малых форм Саяно-Алтая конца I — начала II тыс. уровни качества изготовления предметов могут свидетельствовать о нескольких уровнях социального «заказа» и спроса на изделия разного качества [Конькова, Король, 2006; Король, Конькова, 2007а]. Кроме того, было отмечено, к примеру, что не все погребения содержат поясные украшения [Добжанский, 1990, с. 74].] которые, как уже было сказано, подробно рассматривались разными исследователями).
Скажем несколько слов о личинах, особенно популярных в искусстве Саяно-Алтая. Они в качестве ременных украшений, по-видимому, тоже выполняли защитную функцию. В Средней Азии, к примеру, в раннем средневековье распространены орнаментальные штампы в виде личин на глиняных сосудах [см., напр.: Беленицкий, 1958, рис. 24]. Известное скульптурное украшение ручки глиняного сосуда [Кызласов, 2006, рис. 113] чрезвычайно портретно и напоминает группу реалистичных изображений личин на торевтике малых форм Саяно-Алтая. Заметим, что и обычные антропоидные личины-маски в виде подвесок в разных культурах, по-видимому, также выполняли символическую функцию защиты. По произведениям раннесредневекового искусства Среднего Востока и Средней Азии нам известны украшения подобного рода (к сожалению, единичные) как в качестве подвески сбруи коня, так и в составе ожерелья или нагрудного украшения человека. Первый вариант представлен на серебряном блюде из Ирана с изображе-
(224/225)
нием всадника, охотящегося на льва и кабана, начала VIII вв. [Даркевич, 1976, табл. 2; Луконин, 1977, с. 170], упоминавшемся в главе 4 (табл. 27, 1). Второй — деревянная скульптура из Пенджикента, первой четверти VIII в.: фигурка кариатиды с маской-личиной в составе нагрудного украшения [Беленицкий, 1959а, рис. 13; Костров, 1959, табл. XLI; Древности Таджикистана, 1985, №580] (табл. 27, 2). Отметим особую популярность подобных украшений в Индии, где они имеют очень древние корни [Bhavani, 1974, pl. 78, 5] (табл. 27, 3). В традиционной иконографии индуистских божеств и прежде всего верховного божества Шивы обязательный атрибут — ожерелье из черепов или человеческих голов, которые также часто изображаются в виде масок-личин [Moor, 1864, pl. VII, X, XIII, XXIII]. Семантика подобного атрибута имеет много смыслов, соответствующих аспектам самого Шивы и как Победителя Смерти, и как Разрушителя, и как Победителя демонов [см., напр.: Мифы…, 1988, [Т. II] с. 643, 644 (прим. сайта: статья — Афанасьева В.К. Шумеро-аккадская мифология.)]. Первый аспект связан с универсальной и очень древней мировоззренческой идеей бессмертия и вечности жизни.
* * *
Исследование декоративно-прикладного искусства средневековых кочевников Евразии в предложенном автором ракурсе позволяет не только познакомиться с многообразием мотивов и композиций орнамента и декора, выяснить их истоки, понять процесс формирования синкретического и хорошо узнаваемого стиля «степного орнаментализма», увидеть вкусы и предпочтения разных народов и объяснить их подоплёку (на фоне исторических процессов, протекавших в этот важный для формирования тюркских и других «степных» народов период), но и приоткрыть завесу над скрытой от нас в глубине веков духовной жизнью людей, поисками инструментов визуального воплощения собственного традиционного мировосприятия через знакомство с искусством, культурными достижениями (в том числе технологическими) и религиями других народов. Соприкоснуться с единством материального и духовного в жизни кочевников средневековья позволяет и исследование других форм искусства: каменных изваяний, наскальных изображений. Стремление к целостному взгляду на мир людей и утилитарные вещи в нём позволяют автору полностью присоединиться к словам современного музыканта, посвятившего жизнь исполнению духовной музыки: «Все вещи, даже утилитарного назначения, воспринимаются мною не как набор молекул, а как имеющие какое-то духовное значение, смысл, даже в отношении того, что делал их человек с определёнными мыслями, настроением, душой. Особенно в искусстве духовное и материальное неотделимо, так как оно всегда обращено к душе, к чувству, отражая дух, который во всём».
В заключение скажем и о красоте предметов декоративно-прикладного искусства средневековых кочевников Евразии, представленного преимущественно предметами торевтики малых форм. Мы не раз говорили о яркости, пышности саяно-алтайского варианта стиля «степного орнаментализма» и лишь вскользь упомянули о красоте, которую представляют образцы этого стиля. Изящной формы предметы тонкого литья, но создающие впечатление объёмных изделий, иногда ажурные, украшенные разнообразными орнаментальными композициями или декоративными мотивами, очень часто позолоченные (предметы худшего качества иногда имели больший слой позолоты, чтобы скрыть дефекты, о чём свидетельствует исследование состава металла), по-настоящему красивы. Можно представить, как всё это сияло на солнце, звенели бубенцы. В эпических произведениях народов Саяно-Алтая особо подчёркивается красота бронзово-золотых пояса и сбруи *, [сноска: * Заметим, что в монгольском эпосе также с большой любовью и подробностями говорится об узде коня, но о серебряной, что соответствует реалиям времени.] их украшения сравниваются с солнцеподобной звездой, с солнцем, «сбруя с узорами в виде луны, в виде солнца». «От подпруг спереди коня будто луна светила, из-под коня словно солнце всходило». Конское снаряжение, «сверкая, светилось»; сбруя «в солнечном свете сверкала и переливалась». «Рассыпчатым звоном узды» призывает богатырь своего коня. Красота пояса и узды подчёркивается с особой любовью (другие примеры приведены в главе 1).
(225/226)
На первый взгляд кажется, что красота — ненаучное понятие. Но это не так. Оно не только научное, но и духовное, отражающее единство материального и духовного. Сравним определения понятия красоты, данные учеными и духовным лицом. «Красота — одна из универсальных форм бытия материального мира в человеческом сознании, раскрывающая эстетический смысл явлений, их внешние и (или) внутренние качества» [Эстетика, 1989, с. 162]. «Красота — это форма (результат) выражения гармонии в какой-либо знаковой системе. В результате такого выражения образуется представление (текст, картинка и др.) в вербальных и невербальных знаковых системах. Указанные понятия традиционны для искусствоведения и филологии. Для естественно-научного восприятия синоним гармонии — это закон, общая или частная закономерность, выраженная на определенном метаязыке (в определённой знаковой системе). Таким образом, можно считать, что истина, момент истины отражаются (выражаются) в виде отдельных общих закономерностей, законов в естественно-научной терминологии либо в виде гармонии в искусствоведческой терминологии» [Наумов, Якушев, 1992, с. 20]. «Что такое красота? Красота — это единство конечного и бесконечного. Красота — это выражение Бесконечности через конечное. Красота — это человеческое воплощение бесконечного Духа. В материальном, физическом мире через красоту Дух реализует себя» [Sri Chinmoy, 1989, p. 18]. Сравнение этих формулировок показывает, что речь в них идёт об одном и том же: о неразрывности материального и духовного, создающей красоту гармонии. Специальное изучение средневекового декоративно-прикладного искусства кочевников Евразии, на наш взгляд, также подтверждает эту мысль.
|