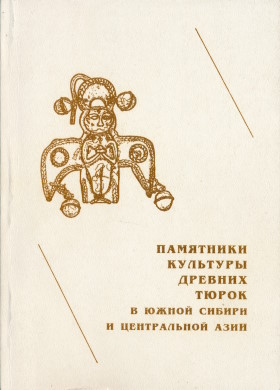 Ю.С. Худяков
Ю.С. Худяков
К вопросу о «новом этапе» развития древнетюркской рунической письменности.
Своеобразным явлением, характеризующим культуру тюркоязычных кочевников степного пояса Евразии в эпоху раннего средневековья, служат памятники древнетюркской рунической письменности.
Впервые они попали в поле зрения европейских учёных на территории Южной Сибири в начале XVIII в. По сходству с древнегерманскими рунами и были названы «руническими». Длительное время интерес к этим памятникам стимулировался поисками «алтайской прародины» финно-угорских народов. Научное изучение рунических памятников стало возможным после открытия большого количества надписей в Саяно-Алтае и в Монголии, расшифровки и перевода текстов на европейские языки в конце XIX в. Целенаправленный поиск рунических памятников привёл к выявлению ареала их распространения от Восточной Европы до Прибайкалья. Однако все крупные и информативные надписи были найдены в Центральной Азии. С конца XIX в. изучение рунических надписей становится важным направлением тюркологии. Эти памятники активно изучались в аспекте истории тюркских народов, тюркского и алтайского языкознания. [1] Рассматривались вопросы происхождения рунической письменности, области её применения, хронологии бытования различных вариантов руники, анализировались содержащиеся в надписях исторические сведения, этнонимика, топономика и др.
Хотя руническая письменность имела ограниченную область применения, была лапидарной, [2] а содержание многих надписей было трафаретным, [3] и написаны они были архаизированным для своего времени, наддиалектным языком, «тюркским руническом койне», [4] рунические памятники являются важным источником по истории тюркоязычных кочевников, поскольку обладают «автохтонностью и аутентичностью», [5] т.е. содержат сведения, изложенные самими номадами, а не сторонними наблюдателями.
Вопросы происхождения и хронологии бытования рунической письменности остаются актуальными и до настоящего времени. [6]
Первое обоснование хронологии памятников опиралось на анализ содержание больших надписей Монголии, описывающих события конца VII — начала VIII в. н.э. Эта датировка остаётся общепринятой и поныне. [7]
(103/104)
В дальнейшем было выяснено, что в период существования I Тюркского каганата рунической письменности ещё не существовало, тюрки пользовались согдийским письмом. [8] Одно время исследователи, опираясь на «архаичность» форм енисейских рун в сравнении с орхонскими, считали енисейский вариант руники более древним. [9] Однако сопутствующие енисейским надписям археологические материалы позволили их датировать последними веками I тыс. н.э. [10] Наблюдаемые различия объясняются и принадлежностью енисейских и орхонских текстов различным этносам — кыргызам и древним тюркам.
Как установлено к настоящему времени, самый ранний Чойрэнский рунический памятник относится ко времени возникновения II Восточно-тюркского каганата в конце VII в. н.э. [11]
Руническая письменность возникла в древнетюркской этнической среде в результате единовременной сознательной обработки согдийского алфавита. [12] В результате военно-политических и этнокультурных контактов древних тюрок с другими тюркоязычными этносами она получила широкое распространение.
К сожалению, в истории изучения рунического письма неоднократно имели место попытки расширить территориальные и хронологические границы его существования. Находка в Иссыкском кургане сакской культуры в Казахстане сосуда с надписью неизвестным письмом вызвала попытки отождествления её отдельных знаков с руническими, [13] отделёнными более чем тысячелетним периодом от времени появления древнетюркской руники. [14] Формы знаков «сакской» письменности «не обнаруживают системного сходства с древнетюркской руникой, поэтому генетически связать эти письменности не удаётся». [15] Стремление во что бы то ни стало удревнить древнетюркскую рунику неизбежно приводило к печальным результатам. Достаточно вспомнить нашумевший конфуз по поводу «пробного камня», когда некоторые казахские тюркологи приняли за древнейшую тюркскую руническую надпись цитату из книги С.Е. Малова, выбитую на камне в окрестностях г. Алма-Аты кинематографистами во время съёмок фильма за несколько лет до мнимого «открытия».
Наряду с неоправданными попытками искусственного удревнения руники и соответственно тюркского этногенеза и культурогенеза, неоднократно предпринимались попытки расширить время бытования рунической письменности на период развитого средневековья.
Монгольские учёные «обнаружили» камень с рунической надписью, содержащей имя Чингисхана, что вызвало естественное сомнение. В ходе раскопок памятников кулун-атахской культуры в Якутии были обнаружены поделки с руноподобными знаками, которые якутские учёные предлагают
(104/105)
датировать XIII-XIV вв. н.э. [16] Вероятно, более оправданным было бы уточнение хронологии памятников данной культуры.
Когда в 1960-х гг. Л.Р. Кызласов выступил с предложением о «новой датировке» енисейской письменности на основании находок в курганах, рядом с которыми установлены стелы с надписями, он датировал их IX-X вв. н.э. [17] Время существования руники у кыргызов он ограничивал VII-XI в. [18] Причём к концу X — началу XI в. относится всего 10 стел рядом с курганами и только на одной из них у с. Малиновки в Туве имеется руническая надпись и две надписи вырезаны на монетах. [19] Как отмечал И.Л. Кызласов, обычай «сооружать у курганов стелы с эпитафиями был постепенно оставлен уже на первом этапе аскизской культуры». [20] В дальнейшим Л.Р. Кызласов стал утверждать, что руническая письменность просуществовала на Енисее до XIII в., и только в результате монгольского завоевания было «потеряно и высшее достижение местной культуры — енисейская письменность». [21]
Однако в работе, дважды опубликованной в 1992 г., Л.Р. Кызласов резко изменил свою прежнюю датировку и стал настаивать на том, что енисейская руника вовсе не исчезла в результате монгольского нашествия, а продолжала применяться на Енисее вплоть до начала XVIII в. [22]
По мнению Л.Р. Кызласова, упоминание в русских исторических документах начала XVIII в. «езерского судьи» Батиажо, свидетельствует, что титул «ажо» известный у кыргызов в VI-X вв., сохранялся на Енисее в течение «целого тысячелетия». [23] А раз сохранялся титул «государя-правителя, сохранялся собственный государственный аппарат, то для функционирования такового должна сохраняться и древняя енисейская руническая письменность». [24] Доказательством для столь невероятной детерминации служит, по мысли Л.Р. Кызласова, следующая фраза из того же самого источника: «У подлинного договору написано в конце татарским письмом, а что написано, того перевесть в Красноярске некому». [25] Из этого сообщения, по Л.Р. Кызласову, следует, что руническая письменность сохранялась у кыргызов «корпоротивно [у Л.Р. Кызласова — «корпоративно»] в среде высшей знати, обучавшей старой грамоте своё мужское потомство. Поэтому рядовые «езерцы» (Ызыр) — красноярские качинцы — рунической письменности не знали и читать её не умели. Не знали её и чиновники русской администрации». [26]
Тексты цитированных Л.Р. Кызласовым источников не дают никаких оснований для выдвигаемых предположений. Нельзя утверждать, что титул «ажо» сохранялся в течение целого тысячелетия. В период раннего средневековья этим титулом именовался правитель кыргызского государства, [27] а в XVII в. — «езерский судья». [28] Следовательно сохранился термин, а содержание его изменилось. Никакой жёсткой взаимосвязи между титула-
(105/106)
турой и письменностью нет. У тех же кыргызов в течение периода раннего средневековья титулы правителей несколько раз менялись, [29] а руническая письменность сохранялась. У древних тюрок согдийскую письменность частично заменила руническая, в то время как титул кагана сохранился, и т.д.
Что касается «татарского письма», которого никто не мог прочесть в Красноярске, включая качинцев, то скорее всего имеется в виду монгольская или «калмыцкая» письменность, которой пользовались кыргызы в XVII в. [30] Образцы этой письменности имеются в эпиграфике Енисея. Есть сведения, что кыргызские послы привезли в Москву «калмыцкое письмо» князя Иренака. [31] По другим известиям кыргызы пользовались в дипломатической переписке монгольским, татарским и даже персидским языком. [32] Так что в домыслах о «сохранившейся корпоротивно [у Л.Р. Кызласова — «корпоративно»] среди высшей знати рунической письменности, обучавшей ей своё мужское потомство», нет ни малейшей необходимости.
В 1994 г. Л.Р. и И.Л. Кызласовыми опубликована статья, в которой выделяется «новый этап развития енисейской письменности», охватывающий конец XII — начало XV в. [33] Выделение этого этапа произведено на материалах «двух кратких надписей» из Минусы и Тувы. Обе надписи давно известны в науке. Одна из них нанесена на древнетюркском каменном изваянии с р. Тесь в Минусе, другая на скале Хая-Бажи на р. Хемчик в Туве. Обе они неоднократно издавались с переводом на русский язык. [34]
В отличие от предшественников Л.Р. и И.Л. Кызласовы расчленяют текст надписи на «тесинском изваянии» на «несколько самостоятельных и даже разновременных надписей». [35] По их мнению, это «независимые друг от друга письменные памятники», которые «связывает лишь единство некоего неведомого нам обряда, заставлявшего участников отмечаться на камне. Судя по надписям, обряд вершили мужчины и делали это по двое». [36] Что это за таинственный обряд, почему он был проведён всего лишь два раза «на протяжении двух поколений» и насколько широко он был распространён среди кыргызов, авторы предпочитают не объяснять. Впрочем, по ходу рассуждений ими упоминается ещё и «пятый человек», отметившийся на изваянии родовой тамгой, почему-то названной Л.Р. и И.Л. Кызласовыми «гербом», а может быть, и «шестой», которому принадлежала «ещё одна тамга того же рода, выбитая на отдельной плитке». [37]
Почему эта тамга не могла принадлежать лицу, от имени которого нанесена надпись, совершенно не ясно. Как отмечают сами авторы, приводимый ими случай «поэтапного сложения» данного памятника совершенно особый. [38] Он не имеет аналогов среди енисейской руники. Следовательно предполагаемый таинственный обряд нигде больше не оставил следов.
(106/107)
Л.Р. Кызласов и И.Л. Кызласов предлагают считать «отдельной самостоятельной припиской» [39] часть третьей строки памятника, которая состоит из одного слова bičig — надпись. По их мнению, это слово не является ошибкой писца, а отражает «хронологические особенности» лексики. [40] Этому слову принадлежит важное место во всех дальнейших рассуждениях авторов. По сути дела оно является для них единственным аргументом в пользу существования руники в монгольское время.
По мнению Л.Р. и И.Л. Кызласовых, слово bičig — монгольское. Оно было «заимствовано древними монголами из тюркских языков», в которых существовало в форме bitig. Произошло это «в начале XIII в. через посредство уйгурских писцов». [41] Однако на тесинском изваянии это слово начертано не монголом, которые рунику не употребляли, а «средневековым хакасским граматеем» [у цитируемых авторов — «грамотей» (с. 40)], после того как оно было снова заимствовано из монгольского тюркоязычным населением Южной Сибири. «Маловероятно, что этот процесс мог произойти в начале XIII в., полном военными событиями и стремлением древних хакасов сберечь свою государственность». [42] А когда же? В юаньскую эпоху, когда вообще происходили «заметные сдвиги» в языке «средневековых хакасов» и в результате процессов стяжения и метатезы само слово «хакас» трансформировалось в слова «хаас» и «хасха». [43] Но вот что странно: постулируемое заимствование слова bičig из монгольского в тюркский почему-то не отразилось на второй надписи, которую авторы также относят к монгольскому времени. В качестве таковой отдельной надписи они трактуют седьмую строку памятника на скале Хая-Бажи. В этой надписи также фигурирует слово «написал» в форме bit. [44] По данным Э.В. Севортяна, эта форма встречается «едва ли ранее XII-XIII вв. [45] Получается, что одно и то же слово бытовало в языке южносибирских тюрков в двух разных формах. Удивительно, что «современные хакасские грамотеи» не видят в этом противоречия и утверждают, что «показанные лексико-фонетические и орфографические особенности двух кратких надписей Е37/2 и Е24/10 хорошо соотносятся друг с другом и с несомненностью свидетельствуют о продолжении применения в Южной Сибири этой рунической письменности позднее XIII в. в период пребывания Саяно-Алтайского нагорья во владениях монгольской империи». [46] О том, насколько правомерна предложенная Л.Р. и И.Л. Кызласовыми череда заимствований из тюркского в монгольский и обратно из монгольского в тюркский, представим судить лингвистам. А. фон Габен утверждает, что слово bitig — китайское и следовательно могло быть заимствовано носителями древних монгольских языков непосредственно из китайского, минуя тюркский. [47] Однако даже если заимствование шло из тюркского в монгольский и наоборот, совершенно бездоказательна попытка Л.Р. и И.Л. Кызла-
(107/108)
совых привязывать этот процесс к XIII в. Ведь тюркоязычные и монголоязычные кочевые племена контактировали на всём протяжении раннего средневековья. Например, в X в. «западная граница киданьской империи Ляо «руководила приходом к просвещению людей государства Хягасы». [48] Вот тогда и могли заимствовать кыргызы пресловутый монголизм.
Во имя датировки монгольским временем авторам пришлось расчленить давно известные и содержательно связанные тексты на маловразумительные обрывки, предположить наличие таинственного обряда, допустить бытование одного и того же слова у кыргызов Енисея в двух разных формах. И каков результат? Руническая письменность в монгольское время существовала в форме «приписок» к более древним текстам. Ничего не скажешь, очень впечатляющий «новый этап в развитии рунической письменности». По своей убедительности он действительно сопоставим с предложенным теми же авторами процессом трансформации слова «хакас» в результате процессов стяжения и метатезы в два разные слова «хаас» и «хасха», в котором одно предположение абсолютно исключает другое.
Л.Р. и И.Л. Кызласовы не замечают всех этих несуразностей и противоречий, поскольку для них важно другое. А именно, «что сохранение в монгольское время енисейской рунической письменности — былого официального письма Древнехакасской державы — могло быть лишь следствием реальной попытки возродить на Енисее государственную самостоятельность. По всей видимости, на политическую осознанность этого акта, противостоящего распространению государственной вертикальной или квадратной монгольской письменности, указывает факт сохранения в поздних рунических надписях характерных черт ранней классической енисейской палеографии». [49] В результате декларируемого авторами «победоносного восстания» в конце XIII в. В Саяно-Алтае «власть монгольских феодалов была низвергнута». Заключительный период «самостоятельного существования древнего государства тюркоязычного населения Южной Сибири являлся временем его духовного возрождения. Судя по археологическим данным, в это время произошёл и определённый экономический подъём, местная культура и производство продолжали сохранять прежние традиции самобытного развития. По-видимому, именно тогда и был осуществлён возврат к енисейской государственной письменности». [50]
Предполагаемая война монгольской квадратной письменности и енисейской руники — плод фантазии. Нет никаких сведений о распространении монголами квадратной письменности на Енисее, так же как нет данных в пользу «официально-государственного» характера енисейской руники в XIII в., весь «корпус надписей» которой в этот период, судя по изысканиям Л.Р. и И.Л. Кызласовых, состоит из двух «приписок» к более древним
(108/109)
текстам. «Экономический подъём» в период предполагаемого «восстания» — вещь весьма сомнительная. В работе И.Л. Кызласова, на которую ссылается авторы, говорится не о «подъёме» и об отсутствии «экономического упадка» в связи с монгольскими походами 1207 и 1218 гг., [51] т.е. монгольское завоевание не принесло в этот период заметного ущерба населению Енисея, поскольку кыргызские князья добровольно подчинились Чингисхану в 1207 г. [52] Так что отсутствие «экономического упадка» — это ещё не «подъём».
Политическое и идеологическое значение смены письменности весьма существенно для современных условий, как показывает история последних лет. Однако вряд ли подобная мера могла восприниматься драматично почти поголовно неграмотным кочевым населением Саяно-Алтая в XIII в.
Невольно возникает мысль, что сентенции о «духовном возрождении» тюркоязычного населения Южной Сибири в связи с возвратом к «енисейской государственной письменности» в работах Л.Р. и И.Л. Кызласовых навеяны отнюдь не содержанием выявленных ими «приписок», а получившей некоторое распространение среди части современной хакасской интеллигенции идее замены кириллицы руническим алфавитом. В свете этой идеи становится понятным стремление растянуть существование рунической письменности на весь период обитания кыргызов на Енисее вплоть до присоединения Южной Сибири к России. [53] «Открытие» двух «приписок» монгольского времени, вероятно, должно послужить заполнением лакуны. Этому стремлению отвечает и предложенная датировка «обеих надписей» XIII-XV вв. [54] Откуда взялся XV век, если пресловутый «экономический подъём» и «духовное возрождение», повлекшие «возврат енисейской государственной письменности» продолжался всего 20 лет — с 1273 по 1293 г.? [55] В заключительном разделе своей статьи Л.Р. и И.Л. Кызласовы связывают «возрождение» на Енисее в конце XIII в. с манихейством. Оказывается, человеком, разработавшим «новые нормы позднего рунического правописания», был «средневековый хакас, получивший образование в манихейской общине». [56] Авторы уверяют, что «манихейство распространилось в Древнехакасском государстве в качестве официальной религии уже к середине IX в.». [57] А в XIII в. оно получило «новый импульс для возрождения и возвращения прежних позиций». [58] В борьбе «за политическую, экономическую и идеологическую самостоятельность возрождаемой в конце XIII в. Южносибирской державы местная власть опиралась на духовенство…». [59] Поскольку «новые орфографические требования» «распространились и на Хакасию, и на Туву, ясно, что реформа правописания проводилась на всей территории страны, т.е. была правительственной, а её создатель отражал государственную идеологию». [60] Не слишком ли
(109/110)
много далеко идущих предположений на базе «двух кратких енисейских надписей»?
В источниках нет никаких сведений о том, что манихейство было принято в Кыргызском каганате в IX в. «в качестве официальной религии». Можно говорить лишь о знакомстве части кыргызов с этой религией после завоевания Центральной Азии. Об этом свидетельствуют косвенные данные: слово «марамыз» — вероучители, в кыргызской Суджинской надписи и находки предметов торевтики с канонической символикой. [61] В то же время кыргызы проявляли интерес к буддизму и религии бон. [62] Нет никаких оснований для того, чтобы представлять участие кыргызов в междуусобных войнах чингизидов в качестве религиозных войн. Территория Минусы и Тувы ещё до монгольского завоевания не составляла единого государства, а входила в состав разных кыргызских княжеств «Киргиз» и «Кэм-Кэмджиут», каждое из которых возглавлял самостоятельный инал. [63] Не могло быть у них единого правительства, озабоченного орфографическими реформами, и следов деятельности «манихейского духовенства» на Енисее в монгольское время тоже пока не обнаружено.
Приходится признать, что выделение «нового этапа развития енисейской письменности» произведено Л.Р. и И.Л. Кызласовыми без должных оснований, а сделанные ими на этой базе далеко идущие выводы никак не вытекают из содержания интерпретируемых надписей.
Примечания.
(110/111)
[12] Лившиц В.А. О происхождении… С. 9.
[14] Лившиц В.А. О происхождении... С. 3.
[15] Там же. С. 4.
[19] Кызласов И.Л. Аскизская культура (средневековые хакасы X-XIV вв.) // Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981. С. 207.
[27] Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. М.; Л., 1950. Ч. I. С. 352.
(111/112)
[51] Кызласов И.Л. Аскизская культура Южной Сибири X-XIX вв. // САИ. М., 1983. Вып. Е3-18. С. 67.
[52] Худяков Ю.С. Кыргызы на Енисее. Новосибирск, 1986. С. 73-75.
[63] Рашид Ад-Дин. Сборник летописей. М.; Л., 1952 Т. I. Кн. I. С. 150.
|