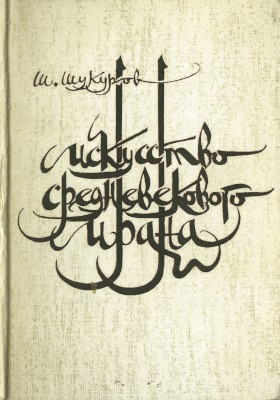 Ш.М. Шукуров
Ш.М. Шукуров
Искусство средневекового Ирана
(Формирование принципов изобразительности).
// М.: ГРВЛ. 1989. 248 с., вклейки. ISBN 5-02-016708-8
[ аннотация: ]
Книга посвящена исследованию принципов формирования изобразительного искусства Ирана на широком фоне иных проявлений художественной культуры: литературы, ремесла, философии. Прослеживается логика движения искусства, его трансформации на пути перехода от графических форм художественного выражения до сугубо изобразительных. Выделяются эстетические категории искусства и культуры в целом. Заключает работу серия практических разработок в области мусульманской иконографии, сделанная на основе теоретических выводов в основном тексте исследования.
См. файл .pdf, 35,5 Мб.
Содержание
Глава I. От графического знака к изображению. — 15
Графический стиль художественного мышления. — 17
Картина мира в графических начертаниях. — 47
Глава II. Ритуал и творческое сознание. — 63
Глава III. Слово и образ (О пределах изобразительного воплощения образа Человека). — 84
Общее и частное в сложении изобразительного облика Человека. — 85
Метод расподобления в искусстве средневекового Ирана. — 99
Иконография изображений пророка Мухаммада. — 135
Глава IV. Персидская миниатюра и трансформация художественного мышления. — 146
Заключение.
Знак и значение в изобразительном искусстве ислама. — 184
Экскурсы в мусульманскую иконографию.
Экскурс I. О преобразующей роли архитектурного типа мечети. — 199.
Экскурс II. О въезде Хосрова к Ширин. Аргументы к атрибуции одной иконографической схемы. — 205
Экскурс III. Идеография: метод творчества или метод познания? — 217
Экскурс IV. К проблеме иконографии сада: Царь – Дерево – Садовник. — 225
Литература. — 232
Summary. — 243
Введение ^
Предлагаемая читателю книга посвящена искусству средневекового Ирана. Однако названная нами тема представляет собой чрезвычайно широкое и многообразное поле исследования. Об искусстве средневекового Ирана написано и издано множество книг. Но каждая из них имеет свой собственный исследовательский ракурс, свою точку отсчёта и в соответствии с этим особый выбор аргументов и методологических предпосылок систематизации материала. По этой причине автором должны быть сделаны необходимые пояснения, касающиеся как собственно предмета исследования, так и поставленных в книге задач.
Задаваясь проблемой, вынесенной в заглавие книги, — «Искусство средневекового Ирана», автор намерен обсудить принципы становления искусства Ирана в контексте проблем, сформулированных культурой ислама. Исследование не предполагает последовательное изложение истории иранского искусства в мусульманское время. Цель книги иная: попытаться понять значение изобразительных форм и пути постижения этого значения средневековым сознанием. Разумеется, мы не могли не следовать принципам исторического развития искусства в рассматриваемый в книге период — с IX по XIV в. Другой подход к проблемам истории искусства было бы трудно себе представить.
(5/6)
Но вместе с тем сам материал в его историческом движении от робких начертаний арабской графики до классических образцов миниатюрной живописи исследуется под определённым углом зрения.
Изучение значения изобразительных форм в их историческом развитии обязывает исследователя обратиться к совокупности проблем художественной жизни, именуемой в современной науке эстетикой. Однако сказанного, очевидно, недостаточно для полного уяснения задач, поставленных перед книгой. Прежде всего встаёт вопрос о том, что понимать под средневековой эстетикой и какие сферы человеческой деятельности она охватывала.
Для современного человека представления о красоте чаще всего ограничиваются пределами наружности людей и форм предметов. Критерием оценки часто служит зеркало; в его отражении постигается эстетическая ценность глядящегося в него человека. В зеркало, естественно, смотрелись и в древности. Но средневековые представления о красоте и совершенстве не были объективированы в замкнутых в себе вещах или личностях. Отражение в зеркале для средневекового человека ещё не являлось свидетельством его истинной Красоты и Совершенства. Напротив, истинная Красота и Совершенство тщательно скрывались за непроницаемой вуалью. Красота человека или вещи являлась следствием взаимоотношений объекта созерцания как с миром явлений, так и с миром архетипов. Представления о прекрасном и разнообразных формах проявления красоты были неотделимы от гносеологических основ миропонимания средневекового человека. Сфера эстетического охватывала три взаимосвязанные области художественной и духовной деятельности человека: окружающее его бытие (вуджуд), правильно устроенное мироздание (‛алам) и его нравственную, этическую позицию (ихсан) (ср. в этой связи [Аверинцев, 1977б, с. 33]). С этой точки зрения предметом средневековой эстетики становятся любые вопросы средневекового сознания, сколь неожиданными и отвлечёнными они ни казались. Например, известный философ и теолог XIII в. Азизаддин Насафи весьма подробно рассказывает о том, что понимали мусульмане под словами «знак», «мироздание», «образ». И хотя в сочинениях Насафи почти ничего не говорится об искусстве, его сообщения, дополненные сведениями из других сочинений иранских авторов (Фирдоуси, Санаи, Аттара, Шабистари, Руми, Хафиза, Джами) и данными изобразительного искусства, дают нам достаточно полную и законченную картину осмысления художественного образа. Итак, в задачи книги входило рассмотрение ряда эстетических категорий, которые могли помочь постижению гносеоло-
(6/7)
гических перспектив художественного образа и в целом творчества художников.
Постановка такой задачи, естественно, требует обращения не только к универсальным категориям средневекового сознания и эстетики. Культура ислама выработала свои собственные правила отношения к сфере эстетического. Важнейшей проблемой средневекового мусульманского мышления, отразившейся и в искусстве, был вопрос о взаимоотношениях священного и мирского. В отличие от христианского и буддийского искусства искусство ислама было принципиально некультовым. Только две формы художественного выражения — мечеть и каллиграфия — в полной мере отражали сакральные основы культуры. Но означает ли это, что все иные области художественного творчества были «деэстетизированы», отстранены от решения насущных для средневековой эстетики проблем осмысления бытия, космоса и высокой морали? Этого, естественно, произойти не могло. Окончательному разделению искусства на сакральное и мирское препятствовали особенности религиозного и социального сознания мусульман.
В исламе не существовало официального противопоставления духовного и светского, всё было подчинено идее о преобладании духовного начала в жизни общества. В отличие от христианства в догматическом исламе не существовало церкви, не было и института священников. Посредствующая функция церкви и священников была чужда мусульманам, поскольку каждый верующий был приобщён к истокам традиции, а авторитет улемов и имамов основывался на лучшем знании тонкостей религиозного закона. Местом преклонения и отправления богослужения могла быть любая точка «обжитого» мусульманами пространства, огороженная пределами молитвенного коврика, являющегося символическим аналогом предельно сгущённого сакрального пространства мечетей. Освоенное мусульманами пространство тем самым наряду с земными границами ясно очерчивается границами небесными, а сам процесс духовной эволюции мира ислама происходит не по горизонтальной исторической оси, а по вертикальной оси, в восхождении. Прошлое поэтому представляется мусульманам лежащим не за их плечами, но «под их ногами» [Corbin, 1964, с. 18]. Само бытие мыслится в исламе как череда связанных между собой пространств (макам), завершающихся метафизическим понятием «за-пространственного бытия» (ла макан). Объектом эстетического преобразования, таким образом, становилось окружающее человека пространство, но в той мере, в которой оно осмысляется как неотъемлемая часть устроенного космоса (‛алам); пространство книги, поскольку именно книга символически от-
(7/8)
ражала в себе структуру мироздания; пространство человека как цели и совокупности всего бытия. Для такого сознания значимым оказывается рассмотрение явления не только и не столько в его безучастной «данности» и автономности формы и смысла, сколько в предполагаемой духовной перспективе, в степени приобщения этого явления к основам самой традиции. Так, например, аббасидский халиф в силу своих всеобъемлющих сакрально-мирских функций носил светский титул «султан». Султаном, но более низкого уровня, был и сельджукидский правитель [Пиотровский, 1984, с. 178]. Мирской титул находил своё оправдание и свою реальную власть в предстоянии сакрально-мирской власти.
Эстетическое осознание художественных форм не отступало от риторических постулатов ислама, любой знак воспринимался в соответствии с его причастностью к традиции, знак находил своё обоснование только как эксплицированное понятие.
Примером тому может служить мусульманская миниатюра. Изображения людей своим некультовым характером формально весьма далеки от сакральных основоположений мусульманской культуры. Но, как будет показано в книге, миниатюра и в целом изобразительное искусство отражает важнейшую для теоретической мысли ислама проблему о невозможности антропоморфизации Аллаха и статусе Человека в мире форм и идей. Связь изображений людей с сакральными формами арабских начертаний, о которой далее говорится в этой книге, позволяет рассматривать принципы формирования изобразительного облика Человека в соотнесении с доминирующей в исламе проблемой взаимоотношения священного и мирского начал. Рассуждения о светском характере мусульманского изобразительного искусства можно сравнить с аналогичными замечаниями о светском содержании газели. Действительно, на уровне знакомства с поверхностным содержанием газели читатель вправе прочитывать её в контексте бытовых представлений о взаимоотношениях влюбленного героя и его возлюбленной. Однако в самой же культуре ислама существуют многочисленные комментарии к газелям, где вскрывается второй, глубинный план содержания, отсылающий читателя к ассоциациям символического свойства, когда каждый персонаж и атрибут поэтического высказывания получает своё место в иерархии мироздания.
Сходными идеографическими функциями были наделены и различные компоненты живописных изображений: их композиция, логика цветопостроения, значение некоторых персонажей. Изображения оставались иллюстрациями светского характера, но вместе с двухплановостью иллюстрируемых сюжетов они становились носителями дополнительного смысла — символического
(8/9)
или метафорического. В сфере эстетики словесного и изобразительного творчества связь между духовным и светским началами, не будучи регламентирована самой традицией, может быть активизирована в результате специальных знаний и усилий, направленных на вскрытие внутренних закономерностей художественного творчества. Убедительным примером этому служит творческий метод ремесленников и художников, соответствующий изначальной и идеальной парадигме Творения. Всем этим проблемам посвящаются значительная часть книги и все экскурсы в область мусульманской иконографии. Цель экскурсов виделась автором и в том, чтобы на материале различных видов художественного творчества (изобразительное искусство, поэзия, архитектура) ещё раз и более подробно обратиться к основным теоретическим выводам книги о существе искусства ислама, о том, что придавало этому искусству его неповторимый облик. Рассмотрение природы художественного явления, углубление в его потаённый и неявный смысл является одной из основных задач книги.
Выявление специфики художественного сознания ислама не должно затенить и проблемы общих, типологических основ сложения средневековой культуры в целом. Целый ряд особенностей формирования и последующей жизнедеятельности культуры ислама может быть с успехом обнаружен и на материале иных средневековых культур. Скажем, хорошо известно, что возникновение нового искусства в истории мировой культуры не всегда основывается на полном отрицании предшествующих форм, напротив, старое, прошедшее, будучи переосмыслено новым искусством, органично вплетается в его художественную ткань. Искусство ислама, в свою очередь, не могло возникнуть без существенных предпосылок предшествующих ему традиций эллинистического, христианского и сасанидского искусства. Суть проблемы состоит только в том, чтобы обнаружить и явственно обозначить принципы группировки старого и нового, уяснить себе закономерности во взаимоотношениях между традиционными и постулируемыми формами художественного выражения. Типологические соответствия не всегда оговариваются в книге, ибо для автора более существенным представлялось выяснение не общего, но особенного в формировании искусства ислама на иранской почве, в центре внимания исследования оказывался не сам факт появления того или иного понятия или изображения, но специфические условия, способствующие возникновению этого явления. Безусловно, внимательный читатель столкнётся в книге с тем, что он вправе будет соотнести с аналогичными примерами из других культур средневекового мира Востока и Запада. Такие сравнения могут принести только поль-
(9/10)
зу и расширить круг знаний об искусстве средневекового мира, но вместе с тем нельзя забывать и о том, какие специфические процессы предопределили появление тех или иных явлений искусства, в какие отношения они вступали между собой.
Важно помнить при этом, что существенным для понимания внутренних закономерностей художественного сознания оказывается постановка проблемы и соответственно пути и методы её решения. Постижение смысла художественно выделанной «вещи» обращается в акт творческий, способствующий уяснению методов творческого мышления её создателей, читателей и созерцателей. Средневековый человек не стремился постичь истину сразу и из первых рук, цель его была иной — найти, прочитать, увидеть дорогу, пройдя по которой он мог бы наконец обрести искомые им ценности. Путь от незнания к знанию, путь указаний и наставлений постоянно находился в поле зрения средневекового человека. К примеру, между шариатом и хакикатом лежал тарикат, Путь. Императивные формы высказывания — знай, выслушай, скажи — не сходят с уст Авторитета и авторитетов средневековой культуры. Существенным и симптоматичным в связи со сказанным является следующее: основным объектом научного знания также являются поиски путей для достижения поставленной задачи. «Следовательно, весь круг методологических вопросов, всё, что связано с путём от вопроса к ответу (но не с самим ответом), принадлежит науке», — отмечает Ю.М. Лотман [Лотман, 1972, с. 4]. Тем самым, раскрывая ход мышления и пути реализации целей далёкого от нас сознания, мы одновременно подходим и к решению важнейшего вопроса научного знания.
Вместе с тем читателю необходимо помнить и о том, что книга посвящена искусству Ирана. Логичным может показаться вопрос: означает ли всё сказанное выше, что культура иранцев при исламизации потеряла своё лицо, утратив исконные духовные ценности? Разумеется, нет. И пример Фирдоуси свидетельствует о прямо противоположном. Былые основы иранской культуры (например, традиционные праздники) продолжали существовать, их не было нужды духовно реанимировать, живы были мифологические и фольклорные образы, живой оставалась и жанровая традиция героического сказа. Но все эти ценности, своеобразные следы древнего иранского величия, оказались вовлечёнными в принципиально новый контекст арабомусульманской культуры, вступили в необычные для них прежде семантические отношения.
И всё же вопросы соотношения традиционного и нового, иранского и мусульманского являются одной из основных проблем современной иранистики. Некоторые изобразительные фор-
(10/11)
мы иранского происхождения легко усваивались культурой ислама в силу универсальности их значения. Таковы были, к примеру, блюда с тронными сценами или изображения поединков героев с дикими животными. Но культура сасанидского Ирана не могла не оставить нечто более значительное и весомое в глазах новой культуры. Усилиями ряда исследователей (в частности, Е.Э. Бертельса, А. Корбена) обнаружены реальные связи исламизированных иранцев со своим прошлым. В свою очередь, в настоящей книге предпринимается попытка нового понимания взаимоотношений двух традиций — иранской и мусульманской. На наш взгляд, контакты исламизированных иранцев с культурой прошлого носили не случайный, эпизодический характер обращения к отдельным сюжетам, ритуалам, изобразительным мотивам, но долгое время отражали в литературе и изобразительном искусстве систему древнеиранских представлений, связанных с ритуалом джашн-и сада́.
Исламизация, затронув многие сферы духовной жизни и быта иранцев, естественно, отразилась и в их искусстве и ремесле. Так же как и словесное творчество, изобразительное искусство Ирана располагало давними и прочными традициями, которые не могли исчезнуть бесследно вопреки любым попыткам его уничтожить. Больше того, многочисленные памятники домусульманского искусства позволяют судить о высоком уровне и утончённости визуального стиля мышления иранцев. Могли ли противопоставить арабы-мусульмане что-либо существенное столь мощному, многовековому пласту изобразительного искусства? Попытке ответить на этот вопрос посвящены две первые главы книги. Задачей исследования в этом разделе работы было не описание и общая характеристика корпуса хорошо известных памятников ремесленного производства и искусства, но систематизация и выделение тех особых черт, которые позволяли им органично влиться в систему мусульманского искусства и соответствовать её эстетическим представлениям. Иначе говоря, нас интересовал особый трансформативный механизм, используемый ремесленниками и художниками в процессе создания ранних памятников собственно мусульманского искусства Ирана. Именно в этой связи в работе рассказывается о хорошо известной в научной литературе роли арабской графики в культуре мусульманских народов. Слово и его начертания стали той моделирующей системой, которая была противопоставлена мусульманами соответствующим нормам прежней духовной и художественной культуры.
Естественно, новые ценности и принципы художественного мышления утвердились на территории Ирана не сразу. Проникновение мусульманского сознания в художественную среду
(11/12)
иранцев было сложным и долгим процессом. Рассматриваемые в книге принципы формирования изобразительности и последующее изменение ориентации художественного мышления ограничиваются хронологическими рамками с IX по XIV в. Именно в этот период складываются предпосылки перехода от художественного мышления, в основе которого лежала арабская графика, к осознанию эстетически развитого мира изобразительных форм. Переход от графики к изображению был важнейшим объектом исследования в настоящей работе. Несколько забегая вперёд, отметим, что развитие арабской графики от строгих форм куфического письма до переплетения буквенных начертаний с антропоморфными изображениями и последующим отделением изображения человека представляет собой один из важнейших диалектических этапов исторического развития не только иранского, но и всего мусульманского искусства. С течением времени графика вовлекала в сферу своего влияния всё более, сложные изобразительные формы, занимавшие всё более высокое место в иерархии бытия. Этот исторический процесс, этапы которого рассматриваются в трудах ряда исследователей (например, А. Громана, Р. Эттингхаузена), характеризуется в книге в его связи с мусульманскими представлениями о миропорядке в космогоническом и космологическом измерениях.
Таким образом, основной задачей книги является восстановление внутренних закономерностей сложения иранского искусства и соответственно постижение этих законов в их неразрывности со всей культурой. Сказанное намечает и ещё одну проблему, обсуждению которой посвящена значительная часть исследования. Рассматривая на страницах работы проблемы эстетики средневекового искусства, мы по необходимости обратились к представителям данной культуры, к её носителям: поэтам, философам, историкам, теологам, ибо, описывая и интерпретируя художественное сознание прошлого, мы не вправе обойти их собственные соображения о своём времени и своей культуре, а тем более нельзя их модернизировать. Принцип историчности исследовательского подхода не позволяет «интерпретировать старое мировоззрение в духе нового, вследствие чего оно становится каким-то межеумочным мировоззрением, где форма обманывает относительно содержания, а содержание — относительно формы» [Маркс, т. 1, с. 314].
Внимание в работе к традиционным представлениям мусульман о миропорядке и сопоставление с ними методов художественного творчества позволило прийти к целому ряду выводов, значение которых не может быть ограничено только эпохой средневековья. Во-первых, следует сказать о том, что происхо-
(12/13)
дящие в современном мусульманском мире процессы так или иначе связаны с историческим прошлым. Всякое обновление, каким бы неожиданным оно ни казалось, основывается на прошедшем, на том, что составляет не всегда заметное ядро нового мышления. Ведь культурно-исторические ценности различных народов возникают не вдруг и не без существенных объективных предпосылок. Знание внутреннего механизма функционирования старой культуры может оказаться полезным для обоснования новых, более прогрессивных форм идеологии и общественных отношений. Во-вторых, при обращении к прошлому сознанию непременно должен учитываться и гуманитарный аспект предпринимаемого исследователем шага. Д.С. Лихачёвым эта мысль сформулирована со всей возможной ясностью: «В расширении нашего кругозора, и в частности эстетического, — великая задача историков культуры различных специальностей. Чем интеллигентнее человек, тем больше он способен понять, усвоить, тем шире его кругозор и способность понимать и принимать культурные ценности — прошлого и настоящего. Чем менее широк культурный кругозор человека, тем более он нетерпим ко всему новому и „слишком старому”, тем более он во власти своих привычных представлений, тем более он косен, узок и подозрителен. Одно из важнейших свидетельств прогресса культуры — развитие понимания культурных ценностей прошлого и культур других национальностей, умение их беречь, накоплять, воспринимать их эстетическую ценность. Вся история развития человеческой культуры есть история не только созидания новых, но и обнаружения старых культурных ценностей. И это развитие понимания других культур в известной мере сливается с историей гуманизма. Это развитие терпимости в хорошем смысле этого слова, миролюбия, уважения к человеку, к другим народам» [Лихачёв, 1979, с. 353].
Таким образом, книга в целом посвящена принципам мусульманского иранского искусства 1, охватившего обширную территорию от Багдада до Бухары, и более конкретным разработ-
[сноска:] 1 Понятие «иранское искусство» в настоящей книге соответствует географическим, этническим, языковым и общекультурным нормам, согласно которым употребляется, например, понятие «персидско-таджикская литература». Средневековое искусство и культуру таджиков Бухары и персов Шираза единит не только общий для них этнический субстрат, но и языковое и культурное наследие двух народов. В книге рассматривается период, когда культурные ценности иранцев от Мавераннахра до Фарса носили диффузный характер, они свободно перетекали из одной провинции в другую, из города в город, а носители этих ценностей, родившись в Бухаре, могли закончить свою жизнь где-нибудь на западе современного Ирана. Соответственно под словом Иран в книге обозначен весь ареал активного расселения и творчества иранцев — предков современных таджиков и персов.
(13/14)
кам в области иконографии этого искусства. Однако при всём своеобразии формирования и развития иранского средневекового искусства было бы неверным выделять его как нечто изолированное. Напротив, приведённые в работе многочисленные обращения к арабскому материалу свидетельствуют о существовавшей в средние века целостной мусульманской культуре и едином творческом методе художников, поэтов, архитекторов и философов.
В своей работе автор не мог обойтись без помощи и советов коллег. Всем им, а в особенности Н.И. Пригариной, С.С. Аверинцеву, Фарруху Ф. Арабову, В.И. Брагинскому, А.X. Вафе, Айдеру И. Куркчи и Рустаму М. Шукурову автор приносит свою искреннюю и глубокую признательность.
Список иллюстраций. ^
[Чёрно-белые: вклейка между стр. 64 и 65]
Ил. 1. Блюдо с изображением танцующей пары. Нишапур. Колл. Кайр.
Ил. 2. Зооморфно-растительный мотив в слове «ал-йумн» на сосуде X-XI вв. Мавераннахр. Душанбе.
Ил. 3. а) Блюдо из Нишапура. XI в. Япония. Музей Тенри. б) Блюдо с надписями «барака» в форме уток. X в. Нишапур. Япония. Музей Тенри.
Ил. 4. Котелок Бобринского (Гератский котелок). 1163 г. Ленинград. Эрмитаж.
Ил. 5. Бронзовая чернильница. Иран. XIII в. Берлин. Музей исламского искусства.
Ил. 6. Изображения Рустама из рукописи «Шах-наме» Фирдоуси. 1333 г. Ленинград. ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Ил. 7. Изображения Абу Зайда из рукописи «Макам» ал-Харири (к макамам 5, 11, 18, 20). 1237 г. Париж. Национальная библиотека.
Ил. 8. Пророк Мухаммад в «Куббат ас-Сахра» (Иерусалим). Миниатюра из рукописи «Ми‛радж-наме». 1330 г. Стамбул. Музей Топкапы.
Ил. 9. Симург несёт Заля. Миниатюра из стамбульского альбома. Около 1370 г. Музей Топкапы.
Ил. 10. Битва Бахрама Гура с драконом. Миниатюра из рукописи «Шах-наме» Фирдоуси 1371 г. Стамбул. Музей Топкапы.
Ил. 11. Битва Бахрама Гура с драконом. Миниатюра из рукописи «Шах-наме» Фирдоуси. 1333 г. Ленинград. ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Ил. 12. Хумай перед замком Хумаюн. Миниатюра из рукописи «Хамсе» Хаджу Кирмани. 1396 г. Лондон. Британский музей.
Ил. 13. Хумай перед замком Хумаюн. Миниатюра из «Антологии». Берлин. Музей исламского искусства.
Ил. 14. Миниатюра начала XIV в. Шираз. Бостон. Музей изящных искусств.
Ил. 15. Миниатюра с изображением влюбленной пары. Середина XVI в. Бостон. Музей изящных искусств.
Ил. 16. Миниатюра из рукописи «Китаб ат-Тирйак». 1199 г. Париж. Национальная библиотека.
Ил. 17. Блюдо с полихромным изображением. 1187 г. Кашан. Нью-Йорк. Музей Метрополитен.
[Цветные: вклейка между стр. 96 и 97.]
Ил. 18. Хумай и Хумаюн. Миниатюра из рукописи «Хамсе» Хаджу Кирмани. 1396 г. Лондон. Британский музей.
Ил. 19. Испытание Сиявуша огнем. Миниатюра из рукописи «Шах-наме» Фирдоуси. 1333 г. Ленинград. ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Ил. 20. Испытание Сиявуша огнем. Миниатюра из рукописи «Шах-наме» Фирдоуси. 1371 г. Стамбул. Музей Топкапы.
Ил. 21. Хосров у замка Ширин. Миниатюра из рукописи «Шах-наме» Фирдоуси. 1330 г. Стамбул. Музей Топкапы.
Ил. 22. Въезд Христа в Иерусалим. Миниатюра из Ахпатского Евангелия. 1211 г. Ереван. Матенадаран.
Ил. 23. Миниатюра из рукописи «Бустан» Са‛ди. 1576 г. Ленинград. ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина.
(246/247)
Ил. 24. Миниатюра из рукописи «Бустан» Саеди. 1576 г. Ленинград. ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Ил. 25. Миниатюра с изображением идеального пейзажа. Из «Антологии» 1398 г. Стамбул. Музей турецкого и мусульманского искусства.
Фронтиспис: миниатюра из рукописи «Китаб ал-Булхан». 1399 г. Бодлеянская библиотека. Оксфорд.
Оборот шмуцтитула: интерьер мечети Омейядов в Дамаке.
наверх
|