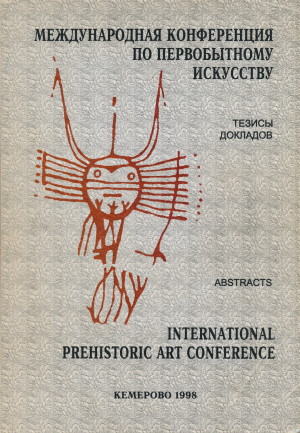 Д.Г. Савинов / D.G. Savinov
Д.Г. Савинов / D.G. Savinov
Идея реинкарнации в наскальных изображениях Центральной Азии и Южной Сибири.
/ The idea of reincarnation in the petroglyphs of Central Asia and South Siberia.
/ L’idée de la réincarnation dans les petroglyphes de L’Asie Centrale et de la Sibérie Meridionale.
Изучение ранних форм религиозных представлений и связанных с ними обрядовых действий древних народов Центральной Азии и Южной Сибири опирается на различные виды источников, в том числе и на наскальные изображения. К сожалению, информационные возможности петроглифов в этом плане, помимо самых общих определений, весьма ограничены, так как для «прочтения» их в семантическом аспекте необходимы устойчиво повторяющиеся композиции, а такие случаи встречаются сравнительно редко.
Один из них — изображение ряда идущих друг за другом животных, в первую очередь, лошадей. По материалам эпохи бронзы выделяются два вида построения этих
(138/139)
композиций: линейное и круговое. Примером линейной композиции могут служить рисунки из Шивертын ам (Монголия), где по двум сторонам от горизонтальной линии (обозначение пути?) показаны фигуры идущих лошадей, некоторые в зеркальном отражении — спинами друг к другу. В аналогичных композициях (Хачурт и др.) представлены также геометрические прямоугольные фигуры, заполненные точками (символические изображения душ?); птиц с раскинутыми крыльями (переносчики этих душ?); ряды схематических антропоморфных фигурок, близко напоминающих изображения духов на саяно-алтайских бубнах. Примером круговой композиции могут служить рисунки на каменной плитке из могильника Есино 1 (южная Хакасия), где фигуры лошадей расположены по кругу, также иногда спинами друг к другу, и сопровождаются отдельно выбитыми точками.
Основное значение этих и подобных им композиций, скорее всего, заключается в передаче обрядовых действий, связанных с идеей реинкарнации, «перехода» душ жертвенных животных, как необходимого условия благополучного существования кочевников. Та же идея, очевидно, отражена в расположенных по спирали (вверх и вниз) фигурах оленей на оленных камнях монголо-забайкальского типа и — кульминационное развитие сюжета — в отдельной фигуре жертвенного коня рядом с кинжалом (орудием жертвоприношения?) на лицевой стороне некоторых оленных камней саяно-алтайского типа.
Археологическими эквивалентами этих изображений можно считать расположенные рядами (по вертикали и горизонтали) фигурки животных на рукоятках бронзовых ножей и кинжалов из Саяно-Алтая, Монголии и Ордоса, которые также, скорее всего, являлись орудиями сакрализованных действий; и массовые захоронения конских черепов в специальных выкладках около некоторых курганных сооружений, исследованные в Монголии.
Приведённые материалы свидетельствуют о существовании своеобразной формы представлений древних кочевников Центральной Азии и Южной Сибири, при которой, в условиях естественного природного и хозяйственного окружения, на первое место выдвигается обмен ценностями между представителями этого и «потустороннего» мира. Сложные планиграфические комплексы с рядами оленных камней, исполнявших, наряду с другими, медиативную функцию и захоронения конских черепов в ритуальных выкладках образуют своего рода «каркас» религиозно-мифологической системы, для которой ещё нет наименования. Это не шаманство, не зороастризм и не первобытные тотемические верования, а совершенно особая, близкая к анимистической, сфера представлений древних кочевников, основная идея которой наиболее отчётливо отражена в рассматриваемых выше петроглифических композициях.
Значительно позже такое отношение к «потустороннему» миру будет выражено в одной из эпитафий древнетюркского времени: «Я ушёл в Золотую степь».
наверх
|