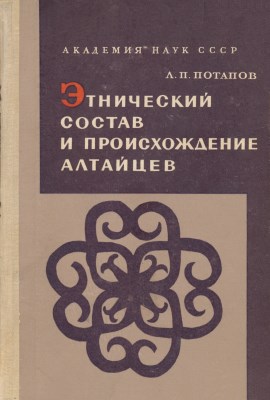 Л.П. Потапов
Л.П. Потапов
Этнический состав и происхождение алтайцев.
Историко-этнографический очерк.
// Л.: 1969. 196 с.
Оглавление
Этнический состав алтайцев в конце XIX и начале XX в. — 14
Ближайшие исторические предки алтайцев. — 80
Древние элементы в этническом составе алтайцев. — 147
Введение. ^
Вопросы происхождения народов нашего многонационального советского государства приобрели весьма актуальное значение, как теоретическое, так и практическое. Многие народы бывшей России, возрождённые к самостоятельному существованию Великой Октябрьской социалистической революцией, впервые в своей истории встали на путь национального самоопределения и получили возможность строить своё хозяйство, культуру и быт в условиях, свободных от национального угнетения. Развитие социалистической экономики, культуры и быта у многих народов, особенно тех, которые ещё недавно характеризовались крайней политической, экономической и культурной отсталостью, не имели своей письменности и литературы, вызвали в их среде, во всех слоях населения, огромный интерес к своему историческому прошлому и прежде всего к своему происхождению. Вопросы о том, кто мы, как и откуда произошли, какова была наша предшествующая история и т.п., появились у каждого такого народа. Удовлетворить эти духовные запросы и потребности — весьма важная и неотложная задача советской исторической науки. Нельзя забывать о том, что такие народы буржуазная наука относит обычно к разряду «доисторических», не имеющих якобы собственной истории, и тем самым проповедует их историческую неполноценность. Но даже в тех случаях, когда отдельные представители буржуазной науки и не отрицают того, что упомянутые выше народы всё-таки имели свою историю, они заявляют о невозможности её научного изучения, её реконструкции и мотивируют это обычно отсутствием надлежащих источников и материалов. Другими словами, при общем формальном признании отсталых бесписьменных или младописьменных народов историческими, фактически всё же утверждается, что научно разработанной истории они иметь не могут, поэтому их следует отнести к категории народов как бы второго сорта.
Иначе к данной проблеме подошли советские учёные, которые не только решительно отрицают нелепое антинаучное деление народов на исторические и неисторические, но и разработали методы и приёмы изучения истории и происхождения так называемых «неисторических» народов, а главное — выявили новые виды ценных научных источников для подобных исследований и научи-
(3/4)
лись владеть ими. К такого рода источникам относятся прежде всего различные типы археологических памятников и весьма многочисленные виды этнографических материалов. Затем к ним относятся разнообразные антропологические материалы, данные фольклора и языка, этнонимики и топонимики и т.д. Само собой разумеется, что большое значение в комплексе перечисленных источников придаётся всякого рода сведениям, содержащимся о народах в любых письменных источниках.
Основным методическим приёмом в изучении истории и происхождения народов, о котором идёт речь, является комплексное использование источников, их анализ и сопоставление, хронологическое расположение и классификация в связи с той или иной периодизацией исторического процесса. Только совокупность разнообразных видов источников даёт возможность изучить исторический процесс бесписьменных народов как в целом, так и в отдельных его звеньях, этническую историю, раскрывающую главные этнические компоненты, образующие народ, изменение этнического состава под влиянием определённых исторических причин и т.д.
Советские историки, в частности этнографы, уже накопили значительный опыт такого изучения, получили положительные результаты и внесли тем самым вклад в науку, открыли новое направление в исторических исследованиях, имеющих международное значение. В наше время, когда к самостоятельной жизни приступили или приступают многие народы Азии, Африки, Латинской Америки, освободившиеся или освобождающиеся от колониального империалистического гнёта, опыт советских учёных по изучению исторического прошлого бесписьменных или младописьменных народов имеет большое положительное значение. На указанных континентах, населённых огромным количеством различных племён и народностей, вопросы исторического прошлого освободившихся народов встают сразу же в процессе строительства новой жизни. Не случайно в Академию наук СССР поступают из различных недавно возникших государств просьбы о помощи и советах в организации исследований по истории и происхождению, например, народов Африки, Юго-Восточной Азии и др. Однако и в пределах Советского Союза работа по изучению истории бесписьменных или младописьменных народов всё ещё недостаточна и явно отстаёт от практической потребности в таких исследованиях. Недостаток ощущается особенно в таких многонациональных районах, как Кавказ и Сибирь. Касаясь Сибири, можно отметить, что больше всего в этом отношении сделано для народов Южной Сибири. Новым примером к сказанному может служить издание «Истории Тувы». [1]
(4/5)
Предлагаемая работа посвящена алтайцам. Несмотря на то что нами уже уделялось внимание вопросам происхождения алтайцев, решение их оставалось до сего времени слишком общим, намечающим лишь основные вехи алтайского этногенеза. [2] Теперь мы можем осветить это более подробно и специально, хотя, конечно, неисчерпывающе. Из других работ, посвященных вопросу, исследуемому в настоящей книге, можно назвать только одну. Речь идет о небольшой статье П.Е. Тадыева «Этнический состав дореволюционных алтайцев и особенности их административного устройства». [3] К сожалению, статья содержит некоторые фактические ошибки и отдельные неудачные утверждения, что делает пользование ею иногда затруднительным. Например, в ней говорится о 15 (!) родах-сеоках у кумандинцев (да ещё со ссылкой на нашу статью), [4] что достигается, видимо, за счёт признания кумандинцами некоторых шорских или телеутских сеоков и перечисления разных названий одного и того же сеока (например, jоты, jутты) и т.д. Так же ошибочно говорится в статье и о пяти челканских родах. Мы лично были у челканцев, хорошо изучили оба челканских сеока и их расселение. Увеличение количества челканских сеоков, установленных в количестве двух ещё Радловым, происходит из-за того, что П.Е. Тадыев варианты названия одного и того же сеока, например jакши (по Радлову) и шакшылыг (как это установили мы), принимает за название двух различных сеоков. Обобщённое название челканцев по р. Лебеди (куу-кижи) также принимается им за название особого челканского сеока. В статье отвергается, причём без аргументации, родоплеменная самостоятельность алтайских тёлёсов — этой древней этнической тюркоязычной группы, этногенетические истоки которой уходят в древнетюркский период (VI-VIII вв.) и с этого времени прослеживаются до современности, о чём будет сказано в заключительной главе. Следовательно, статья П.Е. Тадыева хотя и ставит вопрос об этническом составе алтайцев, не даёт, однако, его решения.
Изученный нами материал по происхождению алтайцев охватывает период с половины первого тысячелетия нашей эры до современности, что вполне отражает хронологическую протяжённость этнической истории современных алтайцев. Но если говорить об этнической истории населения Алтая в ещё более
(5/6)
древние эпохи и об этническом субстрате, послужившем основой для этногенеза далеких исторических предков современных алтайцев, то следует признать, что эта проблема во многом не исследована. Отметим кратко лишь некоторые аспекты, изучение которых требует широкого сравнительного исследования археологического и антропологического материала на фоне общего исторического процесса, протекавшего не только в Центральной, но в Средней и Передней Азии. Необходимо, например, выяснить окончательно вопрос о том, какой этнический тип населения и откуда (из Ордоса или из районов Средней и Передней Азии) проник на Алтай и в Минусинскую котловину в так называемое «карасукское время» (середина II тысячелетия — VII в. до н.э.), в составе которого могли быть древнейшие предки ряда современных народов Сибири, не только тюркоязычных, но и, например, кетов, происхождение которых до сего времени остаётся загадочным. Всё ещё не ясным остаётся вопрос об этническом составе обитателей Горного Алтая в так называемое «скифское время» (V-III вв. до н.э.), памятники культуры которых широко известны по раскопкам Пазарыкских [Пазырыкских] курганов. Накапливаются доказательства о происхождении этой культуры, характеризующейся ахаменидскими [ахеменидскими] импортными вещами, породистыми лошадьми из Средней Азии, из районов обитания саков, вероятно, ираноязычных племенных объединений. Но всё это требует научной обоснованной разработки. Или возьмём вопрос, особенно важный для истории населения Саяно-Алтайского нагорья, о роли и значении хуннов в формировании этнического состава этого региона в последних веках до н.э. и первых веках нашей эры, в так называемый хуннский период. Хуннская проблема в исторической востоковедной науке рассматривается на протяжении не одной сотни лет. [5] Были высказаны соображения в пользу тюркоязычности, монголоязычности и даже ираноязычности хуннских племён. Большинство современных исследователей, особенно советских, склонялось к мнению о том, что хунны были политическим объединением племён кочевников, в этническом отношении неоднородным, но с преобладанием в нем тюркоязычных племён. Совсем в недавнее время выдвинута новая точка зрения по этому вопросу, которая сводится к утверждению, что хунны говорили на «енисейском» языке, т.е. на языке того типа, который сохранился в настоящее время у маленькой сибирской народности кетов (и ныне ассимилировавшихся коттов), обитающих на Енисее. [6] Упомянутая гипотеза, поскольку она принадле-
(6/7)
жит крупнейшему и авторитетнейшему современному синологу Англии, вызвала первоначально своего рода сенсацию и даже некоторую растерянность среди отдельных зарубежных востоковедов. Дело в том, что она опровергала взгляд, широко распространенный в мировом востоковедении, о том, что хунны были предками древних тюрков-тугю (VI в.), как это неоднократно удостоверялось древними китайскими письменными источниками. Поэтому мы позволим себе в настоящей книге рассмотреть гипотезу Е. Пулибланка. Это сделать тем более необходимо, что мы в своих историко-этнографических и археологических исследованиях народностей Саяно-Алтайского нагорья, опираясь на различные исторические источники, неоднократно заявляли о принадлежности древних тюркоязычных предков современных алтайцев и тувинцев к хуннской этнической среде, которую мы представляем себе в виде конгломерата, с преобладанием в нём тюркоязычных этнических элементов.
Профессор Е. Пулибланк как лингвист полагает, что главным подтверждением теории хуннского происхождения древних тюрков-тугю была очевидная связь между словом ch’en-li — «небо» в языке хуннов с тюркским tängri (стр. 240). Со ссылкой на знаменитого П. Пельо, проф. Пулибланк подчёркивает, что связь эта в тюркском и монгольском языках неустойчива, и находит, что в обоих этих языках данное слово было заимствованным. Далее, он буквально отмахивается от ряда свидетельств ранних китайских историков о происхождении древних тюрков от хуннов, не признавая за ними «доказательной ценности» только потому, что в древнетюркский период, к которому относятся свидетельства письменных источников, «подлинные хунны» будто бы «давно исчезли» в связи с выходом на историческую сцену в середине VI в. древних тюрков. Вот те аргументы, на основании которых теория хуннского происхождения древних тюрков объявляется ниспровергнутой. Мы не будем касаться здесь лингвистического опровержения ее, ибо это не входит в нашу компетенцию. Однако мы обязаны пояснить, какое источниковедческое наследие так легко отбрасывает проф. Пулибланк, исходя из своего представления об исчезновении потомков хуннов в древнетюркское время. Из династийной истории Чжоушу (551-583 гг.) уже давно было известно, что предки древних тюрков-тугю, под названием Ашина, составляли отдельную отрасль дома Хунну. [7] Этногенетическая связь древних тюрков с хунну засвидетельствована источником довольно определенно. Но имеются и другие исторические сообщения, позволяющие детализировать и уточнить эту связь. С тех пор как появилась публикация новых источников по истории восточных тюрков-тугю, уже нет сомнения
(7/8)
в том, что они произошли от смешения поздних хуннов, проникших на запад после 265 г. (т.е. в период массового переселения на запад хуннских племён из восточной части Центральной Азия и из Ордоса), в районе небольших государств Пиньляна и Хэси (провинция Ганьсу) с местными ираноязычными «варварами». [8] Отсюда после разгрома Пиньляна Китаем во 2-й половине V в. предки тугю откочевали в горы Гаочана, к северо-западу от Турфана, и были покорены жужанами, а затем переселены последними на южные склоны Монгольского Алтая, где они занимались кузнечеством для жужанских каганов. [9] Кроме того, в известных древних письменных источниках имеются указания на происхождение ряда тюркоязычных племён, относящихся к группе теле, также непосредственно от хуннов. Возьмём уйгуров, тюркоязычность которых ни у кого не вызывает сомнения. О них в Таншу прямо говорится, что их предками были хунны. [10] В более ранней династийной истории Вэйшу предки племён теле, в частности предки уйгуров, не только выводятся от хуннов, но и отождествляются с ними в отношении языка. В летописи сказано: «Язык их сходен с хуннуским, но есть небольшая разница». [11] Следовательно, имеется свидетельство и о тюркоязычном характере языка какой-то части хуннов, поскольку мы считаем хуннов в целом этническим конгломератом. Мы вправе привести это доказательство, ибо проф. Пулибланк сам пользуется такого рода аргументами. Он пишет, например, опираясь на Вэйшу, что поскольку ухуань и сяньби говорили на одном языке, а П. Пельо очень убедительно показал монголоязычность некоторых групп сяньбийцев, то следовательно и ухуаньцы были монголоязычными. [12] Ограничиваясь приведёнными фактами, незаслуженно игнорируемыми проф. Пулибланком, мы хотели бы подчеркнуть, что так называемые «подлинные хунны» в древнетюркское время вовсе не исчезли. Ряд племён из этнического состава хуннов вошёл, вероятно частично, под своими родо-племенными названиями, частью изменёнными, в конфедерации племён теле или в древнетюркские каганаты. Во всяком случае в составе племён теле одно племя носило даже народное имя хунну и именовалось, как известно, хун. [13] Кстати сказать, С.Г. Кляшторный
(8/9)
недавно обратил внимание на то, что в согдийских «старых письмах» впервые воспроизводится имя центральноазиатских гуннов не иероглифически, а алфавитным письмом в форме xūnhūn. [14]
Наше многолетнее изучение истории племён Саяно-Алтайского и Хангайского нагорий убеждает в том, что кочевые племена, особенно крупные, вовсе не исчезают бесследно даже в самые драматические времена их жизни, в период войн и поражений, а рассеиваются и вновь появляются, вновь консолидируются под старым или новым названием.
Перейдём теперь к краткому изложению новой гипотезы проф. Пулибланка, которая базируется на чисто лингвистических доказательствах. Автор собрал 190 вероятных хуннских слов для древнеханьского периода (202 г. до н.э. — 25 г. н.э.): 57 слов из Хоу Хан-ши (25-265 гг.); 31 слово из Цзинь-шу (265-420 гг.). [15] Из всего этого количества предположительно хуннских слов абсолютное большинство представляет собой собственные имена или титулы, что, разумеется, весьма снижает их научную ценность, так как обе эти категории слов широко распространяются путём заимствования. Но среди них имеется и несколько так называемых культурных слов, исследование которых может дать плодотворные результаты. После общего фонологического анализа путём предположительного восстановления древних китайских фонологических транскрипций, обозначающих эти слова, автор приходит к выводу, что в упомянутом словарном фонде из 278 слов выявляются две особенности (наличие начальных r и l), которые говорят против алтайских связей и не обнаруживают близкого сходства с какой-либо известной нам формой тюркского или монгольского языка. [16]
Так была решена по-новому судьба хуннского языка в целом и начаты поиски его современного потомка, которым, по мнению автора, является современный «енисейский», именно кетский, язык, недавно ещё именовавшийся в научной литературе «енисейско-остяцким». Проф. Пулибланк проделал большую работу по сопоставлению ряда выбранных им предположительно хуннских слов с современными кетскими или со словами недавно исчезнувших родственных кетам коттов. Он не скрывает того, что ему было «трудно сравнивать фонологию хунну (добавим, восстановленную предположительно, — Л.П.), как она открывается в китайских транскрипциях ханьского периода, с недостаточно, изученным кетским и коттским языками на два тысячелетия позднее». [17] Заявив, что «фонология не может прийти на помощь»,
(9/10)
автор обращается к словарному составу и выдвигает ряд сравнений культурных слов между языками хунну и «енисейским». В результате у него относительно удачно сопоставлены с «енисейскими» три слова: «сын», «камень», «молоко». Далее с большими натяжками и оговорками идут слова: «конь», «кислое молоко». Наконец, для слов «масло», «кумыс» и «сухой сыр» не найдено сопоставлений за отсутствием их в кетском. При этом автор признает, что «кислое молоко», «кумыс», как и слово «небо», можно проследить в монгольском и тюркском языках. И ещё одно хуннское слово — «сапоги» — может быть в некоторой степени сопоставлено с кетским, на что уже обращалось внимание раньше. Однако автор вслед за проф. Лигети (L. Ligeti) и проф. Бэйли (K. Bailey) склоняется к иранскому происхождению этого термина. [18]
Кроме того, проф. Пулибланк из множества хуныских слов рассматривает четыре наиболее известных титула, как шанъюй, хатун и т.п., из которых он только один, да и то с оговоркой, что это «всего лишь предположение», сопоставляет с «енисейским», а остальные находит в тюрко-монгольской среде. Из всего сказанного проф. Пулибланк делает неожиданный вывод: «Простейшей гипотезой для объяснения этих фактов является та, что хунну говорили на енисейском языке, что тюрки и монголы, их преемники в качестве хозяев восточных степей, приняли в себя элементы хуннской культурной и политической организации с соответствующими названиями». [19] Предложенную гипотезу, основанную на лингвистических доказательствах, проф. Пулибланк предлагает подвергнуть проверке другими видами доказательств, в частности археологическими. [20]
Оценивая гипотезу проф. Пулибланка, мы должны признать, что она является результатом увлечения формальными лингвистическими реконструкциями, оторванными от исторических реальных фактов, от исторического процесса, протекавшего в хуннское и последующее время на огромных просторах Центральной Азии и пояса обширных степей, тянущихся от Алтая до Дуная. Как известно, хуннское объединение, первоначально центр которого в III в. до н.э. находился по южную сторону пустыни Гоби, включая Ордос, распространяло политическое господство далеко на запад (до Средней Азии) и на восток (до Большого Хингана и Ляодунского залива включительно), на юг до Китая и на север до Байкала. Позднее хунны доходили до юго-востока Европы. Однако на всём этом огромном пространстве нигде не сохранилось следов кетской «енисейской» речи, зато
(10/11)
повсюду сохранились тюркские языки (а местами монгольские). Трудно себе представить, чтобы в столь широком ареале хуннского распространения, если хунны говорили по-кетски, не осталось бы никаких следов «енисейского» языка. Напротив, согласно китайским летописным известиям, да и генеалогическим легендам, тюркоязычные племена теле и тюкю несомненно вышли из хуннской среды. Они сохранили и развили именно тюркские языки. И не только языки. Многие обряды и обычаи, особенности хозяйства, культуры и быта древних тюркоязычных племён сходны с хуннскими именно потому, что генетически они восходят к хуннам. Нам удалось в этом убедиться на археологическом материале из раскопок хуннского и древнетюркского времени в Туве. [21] Мы знаем также археологически хуннов в Забайкалье и Монголии. Но где же у современных потомков древних хуннских племён кетоязычная «енисейская» речь, или хотя бы её малейшие следы?
Антропология также не подтверждает связи хуннов с кетами Енисея. Имеющиеся в настоящее время антропологические материалы по хуннам Забайкалья и Монголии и современные краниологические материалы по кетам не дают оснований для сближения хуннов с кетами. Последние обнаруживают ясное сходство с современными народами севера Средней Сибири (селькупы, ненцы). Хунны Забайкалья, например, гораздо более монголоидны, и их родство с аборигенным более древним населением хорошо прослеживается при сопоставлении с антропологическими материалами неолита, бронзового века и скифского времени. Так же нет оснований для установления антропологической близости между кетами и хуннами Тувы. [22] Поэтому, отдавая должное труду, таланту и эрудиции проф. Э. Пулибланка, который опубликовал свою реконструкцию фонетической структуры древнего и среднекитайского языка, внеся много важных изменений в известную реконструкцию Карлгрена, [23] мы с историко-этнографической точки зрения не можем не отнестись критически к гипотезе о языке хуннов как языке «енисейском» (т.е. кетском, коттовском, арийском) потому, что она находится в полном противоречии с большой серией научно установленных исторических и этногенетических фактов, потому что она изолирована от конкретного исторического материала, который нельзя не учитывать при решении вопроса об этническом составе и языке хуннов.
(11/12)
Наконец, укажем ещё на одну особенность данной гипотезы с историко-этнографической точки зрения. При подавляющем преобладании в составе предполагаемых хуннских слов имён и титулов следует иметь в виду, что они могли попасть к хуннам из других языков, в том числе и «енисейского», ибо известно, что далёкие предки кетов появились в Сибири из южных районов Центральной Азии, а современный кетский язык даже принято часто связывать с тибето-бирманской группой. [24] Отрицая гипотезу проф. Пулибланка, мы вовсе не склонны считать его труд по сопоставлению предполагаемых хуннских слов с «енисейско»-кетскими бесполезным. Напротив, не может быть сомнения в том, что автор внёс в хуннскую проблему серьёзный вклад, который заключается в выявлении новых исторических сигналов, свидетельствующих либо о вхождении в этнический хуннский конгломерат древних предков енисейских кетов, либо об их тесном контакте с этим конгломератом, и если даже не непосредственно с политическим центром хуннов, то во всяком случае с его периферией. Тем самым укрепляется точка зрения, рассматривающая хуннскую этническую среду как своеобразный конгломерат преимущественно тюркских, а также монгольских, енисейско-кетских и некоторых других этнических элементов, определение которых ещё предстоит.
Отвлекаясь от всех перипетий, связанных с хуннской проблемой, мы должны подчеркнуть огромное значение археологических памятников хуннского времени и антропологического материала из них в изучении проблемы этногенеза народов Южной Сибири вообще и в частности алтайцев. К сожалению, на Алтае ещё не изучены археологические памятники хуннского времени. Пока в значительной мере это сделано лишь в Туве. [25] Некоторые итоги изучения их в Туве дают возможность утверждать, что хуннское время нужно считать начальным этапом этногенеза современных тувинцев и, вероятно, современных алтайцев. В этот период путём инфильтрации из южных районов (и смешения с местным населением) в Саяно-Алтайское нагорье развивается монголоидный физический тип населения, характерный для жителей Тувы и Алтая. Далёкие исторические предки современных алтайцев и тувинцев — племена теле вышли из хуннской среды, что удостоверено китайскими письменными источниками. Вот почему, затра-
(12/13)
гивая вопрос о наиболее ранних исторических предках алтайцев, мы довольно подробно рассматриваем материал, относящийся к племенам теле и к древним тюркам-тугю.
В настоящей работе мы применили несколько иную методику, отличающуюся от наших более ранних публикаций. Отталкиваясь от хорошо изученного современного этнического состава алтайцев, мы постепенно удаляемся в глубь веков и, основываясь на свидетельствах различных источников, определяем ряд основных этнических компонентов различной исторической давности, которые сыграли решающую роль в происхождении современных алтайцев. Намеченный объём нашей работы не позволил включить в неё обширный конкретный археологический материал, хотя некоторые обобщения и выводы, вытекающие из него, мы включили в отдельные части заключительной главы. Нам остаётся выразить надежду, что представленная работа, отражающая современное состояние источников, окажется полезной не только для современных алтайцев, но и для будущих этногенетических исследований, посвящённых широкому кругу народов Саяно-Алтайского нагорья.
[2] Л.П. Потапов. 1) Очерк этногенеза южных алтайцев. Советская этнография, 1952, №3; 2) Очерки по истории алтайцев. М.-Л., 1953, стр. 133-162; 3) Этноним теле и алтайцы. В сб.: Тюркологический сборник к шестидесятилетию Андрея Николаевича Кононова, М., 1966.
[3] Записки Горно-Алтайского научно-исследовательского института истории, языка и литературы, в. 6. Горно-Алтайск, 1964, стр. 3-15.
[4] Автор ссылается на нашу работу «Этнографический обзор племён Алтая в джунгарский период» (Изв. Всес. геогр. общ., 1946, №2), где в действительности говорится, да и то попутно, в порядке цитирования документа, только о четырёх сеоках кумандинцев.
[6] E.C. Pulleyblank. The Consonantal system of old Chinese. The Hsiung-nu Language. Asia Major, New Series (vol. IX), pt. 2, London, 1962, стр. 239-265.
[9] Подробнее и на более широкой источниковедческой базе вопрос о происхождении тюрков обосновал С.Г. Кляшторный (Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии. М.. 1964, стр. 106-114).
[11] Там же, стр. 214. Ср.: «Предки теле были потомки хунну (Суй-шу)». Liu Mau-tsai, ук.соч., стр. 109.
[12] Е. Pulleyblank, ук.соч., стр. 259.
[13] О. Pritsak. Xun, der Volksname der Hsiung-nu. Central Asiatic Journal, vol. V, 1959, №1.
[14] Кляшторный, ук.соч., стр. 108.
[15] Pulleyblank, ук.соч., стр. 240.
[16] Там же, стр. 242.
[17] Там же, стр. 244. Это тем более справедливо, что в настоящее время, как пишет автор, кетский язык так же мало допускает начальное r, как и алтайский (стр. 244).
[18] L. Ligeti. Mots de civilisation de Haut Asie en transcription chinoise. Acta Orientalia, vol. 1, 1950, fasc. Budapest.
[19] E. Pulleyblank, ук. соч.. стр. 243.
[20] Там же, стр. 265.
[21] Частично такие данные опубликованы нами: История Тувы, т. 1, стр. 60-64.
[22] Этой справкой я обязан антропологу И.И. Гохману, занимающемуся изучением антропологии хуннских могильников.
[23] B. Karlgren. 1) Analytic dictionary of Chinese and Sino-Japanese. Paris, 1923; 2) Grammata Serica, script and phonetics of Chinese and Sino-Japanese. Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities, 1940.
[24] Известный лингвист Леви пишет: «Важность кетского языка как связующего звена между Кавказом и Дальним Востоком трудно переоценить» (Е. Lewi. Ketica. Materialen aus dem ketischen oder jenisseiostjakischen aufgezeichnet von Kai Dormer. Helsinki, 1955, стр. 125). Подробнее об этом см.: Е.А. Алексеенко. Кеты. Л., 1967; А.П. Дульзон. Кетский язык. Томск, 1968.
наверх
|