|
16. Монета Филиппа II.(Открыть в новом окне) |
17. Монета Атея.(Открыть в новом окне) |
кийцев, дошёл с войском до Дуная и даже переправился на его левый берег в земли гетов — одного из фракийских племён. Скифы в контексте этого похода не упоминаются. Может быть, Александр просто прошёл в стороне от их территории или же после войны с Филиппом они временно покинули Придунавье.
Весной 334 г. до н.э. Александр с 35-тысячной армией переправился через Геллеспонт на азиатский берег. В Илионе он принёс жертвы богам и Ахиллу, в храме Афины Илионской оставил полное вооружение, взамен чего взял, по свидетельству Арриана, «кое-что из священного оружия, сохранившегося ещё от Троянской войны», которое в сражениях носили перед ним. Так начался великий поход на Восток, в котором Александр Македонский, по словам того же Арриана, «не рассчитывал ни на кого, кроме себя; он не убегал от великого царя; покорил племена, мешавшие ему по дороге к морю» (Арриан. Поход Александра. I, 12, 4). За три года, взяв множество городов и одержав несколько славных побед над персами, он дошёл до Ассирии, где недалеко от реки Тигр у Гавгамел произошло последнее крупное сражение Александра с Дарием.
До начала сражения к персидской армии присоединились различные народы, находившиеся в подчинённых
или дружеских отношениях с персами, в том числе и скифы (так пишет Курций Руф). Арриан упоминает саков («скифское племя из тех скифов, что живут в Азии», «наездники, стрелявшие из лука»), пришедших вместе с индами, бактрийцами и согдийцами (ил. 15). Характерно, что последними предводительствовал Бесс — сатрап Бактрии, а саки ему не подчинялись, поскольку были непосредственными союзниками Дария, — ими командовал Мавак. При описании построения персидского войска упоминаются и другие среднеазиатские кочевники, в частности даи (дахи) и массагеты. В данном случае наши основные источники — Арриан, Курций Руф и Диодор Сицилийский, описывая одни и те же события, иногда по-разному называют конкретные племена номадов, участвовавших в битве. Так, на левом фланге персидской армии стояли, по Арриану, скифы (в авангарде) и даи, а на правом фланге — саки. По Курцию Руфу, на левом фланге находились дахи и массагеты. Характерно, что единственный крупный успех персов в этой битве был достигнут именно там, где стояли отряды номадов. Когда уже началось «повальное бегство» основной массы персов, левый фланг македонян был прорван и через этот прорыв часть вражеской конницы пробилась к обозу армии Александра. Арриан в данном случае пишет об индах и «персидской коннице», Курций Руф — о массагетах (затем называя этот же отряд «скифским»), а Диодор — об отряде, состоявшем в том числе из «тысячи скифских всадников». Как бы то ни было, совершенно ясно, что именно отряду всадников-кочевников удалось прорваться к обозу армии Александра и разграбить его. Дважды македоняне пытались отбить нападение, но им это не удалось. Правда, во время второй контратаки, по Курцию Руфу, был убит предводитель скифов, но пришедшие на помощь бактрийцы восстановили положение. Тем не менее персы в этой битве потерпели сокрушительное поражение, после чего Александру уже практически ничто не препятствовало в дальнейшем продвижении на восток.
Ему понадобилось меньше двух лет, чтобы дойти до самых отдалённых персидских сатрапий, Бактрии и Согдианы, форсировать реку Окс (Амударью) и подойти к Яксарту-Танаису (Сырдарье), реке, которую «местные варвары», по словам Арриана, называли Орксантом. Здесь он в 329 г. до н.э. решил основать город, назвав его своим именем. Тогда же началось восстание местных жителей, «живущих по соседству с рекой», которые стали уничтожать македонские гарнизоны в городах. А чуть раньше к Александру прибыли посольства от скифов-абиев, живших в Азии, и от европейских скифов. Об этом событии сообщают, правда не во всём абсолютно одинаково, и Арриан, и Курций Руф. Арриан более последователен и понятен в своих описаниях, да и в географических представлениях, тогда как у Курция присутствуют некоторые дополнительные детали, но больше неясностей с географией. Арриан пишет, что со скифами (самым большим племенем, живущим в Европе) Александр отправил «кое-кого из своих „друзей” под предлогом заключения дружбы; настоящая же цель этого посольства была в том, чтобы познакомиться с природой скифской земли и узнать, велико ли народонаселение, каковы его обычаи и с каким вооружением выходит оно на войну» (Арриан. Поход Александра. IV, 1, 2). Курций Руф называет и имя посланца — Пенда (или Берда), которому было поручено посетить скифов, живущих на берегах Боспора. Среди учёных до сих пор ведутся споры о том, кем были эти скифы. Большинство исследователей считает, что речь шла все же о среднеазиатских кочевниках, которых могли назвать «европейскими» по ошибке, поскольку азиатский Танаис (Яксарт) уже во время похода Александра, но особенно
18. Карта распространения горитов чертомлыкского типа.
(Открыть в новом окне)
после него стали нередко смешивать с европейским Танаисом (Доном), впадавшим в Азовское море и отделявшим, по наиболее распространённому в древности мнению, Европу от Азии. Тем не менее сам Арриан (или, быть может, его источник), судя по описанию дальнейших событий, имел в виду именно причерноморских, отдалённых скифов. Ведь вскоре после отправки послов у Танаиса произошла стычка между македонянами и «азиатскими» (так их характеризует Арриан) скифами, войско которых прибыло к реке и расположилось на её правом берегу. Эти скифы стали задирать Александра, «хвастаясь по варварскому обычаю». Александр, несмотря на неблагоприятные предсказания, «в раздражении» решил перейти реку. В стычке было убито около тысячи и пленено около полутораста скифов. Сам Александр, правда, во время преследования пил «плохую» воду, в результате чего заболел и был вынужден повернуть македонян назад. В скором времени к Александру явились послы от скифского царя с извинениями и объяснениями, что «действовал ведь не весь скифский народ в целом, а шайка разбойников и грабителей». Этот эпизод подтверждает разницу в представлениях Арриана об «азиатских» скифах, живших в непосредственной близости за рекой Яксартом, и «европейских», обитавших явно совсем в другом месте. После описанных событий македоняне
какое-то время были вынуждены бороться с восставшим населением, заодно с которым действовали и отряды местных кочевников.
После того как Александр провёл зиму в Зариаспах, к нему вновь пришло посольство от европейских скифов, с которым вернулись и посланцы Александра. За это время в Скифии умер царь, отправивший первое посольство, и теперь царствовал его брат. Из этого как будто бы следует, что эти скифы, в отличие от скифов азиатских, обитали довольно далеко от среднеазиатского междуречья — там, путь куда занимал несколько месяцев, что косвенно подтверждает возможность их локализации именно в Северном Причерноморье. Европейский Танаис/Дон и азиатский Танаис/Сырдарью разделяют около 2-2,5 тыс.км, следовательно, послам требовалось для неспешной и беспрепятственной поездки приблизительно четыре месяца.
Эти скифы принесли дары, которые у них почитались «самыми драгоценными», а также предложение выдать за Александра царскую дочь, а за его друзей — дочерей скифских могущественных людей. «Скифским посланцам Александр ответил ласково и так, как ему на то время было выгодно, но от скифских невест отказался» (Арриан. Поход Александра. IV, 15, 5). В данном эпизоде заслуживает внимания рассказ о том, что одновременно со скифами прибыл и хорезмиец Фарасман, который предложил оказать Александру помощь в покорении народов Эвксинского (Чёрного) моря. На это царь тогда ответил отказом, сказав, что «идти к Понту для него сейчас несвоевременно», так как мысли его заняты Индией. Но, покорив всю Азию, он вернётся в Грецию и оттуда уже ворвётся на Понт. Из этих слов следует, что Александр не отказался от мысли покорить Причерноморье, следовательно, становится ясно, зачем он посылал послов-разведчиков к скифам и почему Фарасман сделал своё предложение именно тогда, когда у Александра находились скифские послы. Одним из материальных свидетельств обмена посольствами со скифами может служить находка в скифском «царском» Чертомлыкском кургане трофейного драгоценного персидского золотого акинака, который мог быть послан Александром степному владыке в качестве дипломатического дара (кат. №324 [опечатка, надо: 312]). В контексте этих или схожих политических событий можно рассматривать и парадный конский убор из другого скифского кургана — Александропольского (кат. №69).
Не исключено, что изначально, ещё до того, как Персия была покорена, Александр вынашивал замысел обхода Чёрного моря с севера по землям скифов-кочевников и возвращения оттуда в Македонию. Во всяком случае, ещё до отправки царского посольства в Скифию наместник Александра на Понте Зопирион в 331 или 330 г. до н.э. предпринял поход своей 30-тысячной армии в Северо-Западное Причерноморье против гетов, скифов и греческого города Ольвии. Зопириону даже удалось осадить Ольвию, в которой, возможно, существовала «пятая колонна», установившая контакт с понтийским наместником (в одном из ольвийских поселений археологами было обнаружено письмо на черепке глиняной амфоры: «Никофан, сын Адраста, подарил Зопириону лошадь; пусть он пошлёт ко мне в город и пусть передаст ему письмена», свидетельствующее, по мнению некоторых исследователей, именно об измене). Тем не менее поход окончился полной неудачей, Зопирион был с помощью скифов разгромлен. Характерно, что эту победу скифов в древности рассматривали в одном ряду с их легендарными победами в VI в. до н.э. над царями Персии — Киром II и Дарием I. Так, Юстин в эпитоме «Истории» Помпея Трога, перечисляя важнейшие события скифской истории, сообщал следующее: «Владычества над Азией скифы добивались трижды; сами они постоянно оставались или не тронутыми, или не побеждёнными чуждым владычеством. Персидского царя Дария они с позором выгнали из Скифии; Кира перерезали со всем войском; Зопириона, полководца Александра Великого, точно так же уничтожили со всей армией...» (Юстин. Эпитома. II, 3, 1-4).
Но самое удивительное, что Александр, узнав об этом разгроме, выказал труднообъяснимую на первый взгляд радость (о чем пишет Помпеи Трог). Понять это можно, только если предположить, что к тому времени планы Александра уже кардинально изменились и этот разгром, по сути, открывал ему путь в Индию. Ведь в случае удачи Зопириона пришлось бы вопреки желанию царя претворять в жизнь глобальный стратегический замысел соединения войск Зопириона и Александра в глубине скифских степей.
Мир кочевников Евразии не был совершенно однородным, скифы — это самое общее название многих различных племён, отличавшихся и местом обитания, и особенностями вооружения, и обычаями, и политическими пристрастиями. Во время пребывания Александра в Средней Азии, когда вся Бактрия и Согдиана уже формально оказались под властью македонян, царю и его соратникам постоянно приходилось подавлять сопротивление местных жителей, самым известным предводителем которых был бактриец Спитамен, приближённый сатрапа и самозванного царя Бесса, один из тех, кто схватил и передал его Александру после убийства Дария. Спитамен опирался в том числе и на поддержку разных кочевнических племён — прежде всего массагетов и дахов. Когда в очередной раз Спитамен решил нанести удар по македонянам в Согдиане, он убедил около трёх тысяч скифских всадников-массагетов присоединиться к нему. Арриан пишет, что «скифы эти жили в крайней бедности, не было у них ни городов, ни осёдлого жилья; бояться за свои блага им было нечего, и потому склонить их на любую войну ничего не стоило» (Арриан. Поход Александра. IV, 17, 5). В битве македоняне победили, многие бактрийцы и Согдиане сдались им, а массагеты, разграбив обоз своих союзников, бежали вместе со Спитаменом. Узнав о намерении Александра преследовать их, они убили Спитамена, а его голову отослали царю. Есть, правда, и другая версия этих событий: в рассказе Курция Руфа
Спитамен скрывался не у массагетов, а у дахов, убийцей же была его жена.
Позднее среднеазиатские кочевники, судя по имеющимся сведениям, также принимали довольно активное участие в дальнейших событиях, но уже будучи привлечёнными Александром на свою сторону. Известно, что отряды дахов и скифов входили в состав его армии во время Индийского похода и сражения с Пором. Их присутствие, видимо, было весьма важно для царя, так как, призывая своих уставших солдат продолжать поход в Индию, он специально указывал, что теперь на их стороне сражаются скифы и дахи. Курций Руф так передает его слова: «О нашей малочисленности надо было думать тогда, когда мы переплывали через Геллеспонт, теперь за нами следуют скифы, помощь нам оказывают бактрийцы, среди нас сражаются дахи и согдийцы» (Курций Руф. История. IX, 2, 24).
Последний раз кочевники упоминаются в 323 г. до н.э., когда, по свидетельству Арриана, на пути в Вавилон к великому царю прибывают посольства разных народов — бреттиев, луканов и тирренов из Италии, карфагенян, эфиопов, кельтов и иберов и в третий уже раз — «европейских» скифов. Арриан пишет: «Тогда-то в особенности Александр и самому себе, и окружающим явился владыкой мира» (Арриан. Поход Александра. VII, 15, 5).
После смерти Александра и распада его империи самая северная её часть — Фракия — досталась диадоху (διάδοχος — греч. «преемник, наследник») Лисимаху, военачальнику и одному из телохранителей царя. Но ещё за несколько лет до этого, после гибели Зопириона, от Македонии отпали фракийцы-одрисы во главе с царём Севтом III. Примерно в это же время взбунтовался, возмутив и варваров, Мемнон — наместник Александра во Фракии. С 323 г. до н.э. Одрисское царство под властью Севта III усилилось и возобновилась борьба фракийцев с македонским владычеством — теперь уже в лице Лисимаха, который тем не менее в 305 г. до н.э. провозгласил себя царём Фракии. Естественными союзниками фракийцев в такой ситуации могли стать скифы, также уже неоднократно сталкивавшиеся с македонской экспансией. О связях скифов и фракийцев в это время свидетельствуют довольно многочисленные импортные фракийские парадные изделия, прежде всего — украшения конских уздечек (см. кат. №68). В 313 г. до н.э. Лисимах пытался покорить западнопонтийские города — Каллатий, Истрию, Одесс, на помощь которым пришли геты и скифы. Выступление последних было неудачным, так как Лисимаху удалось расколоть коалицию и разбить оставшихся без поддержки скифов. Вскоре после этого, на рубеже IV-III вв. до н.э., под давлением различных обстоятельств, не последнюю роль среди которых сыграл, видимо, натиск новых кочевников с востока (а их движение на запад могло быть стимулировано в том числе военными действиями Александра в Средней Азии), и сама Причерноморская Скифия как мощное военно-политическое образование перестала существовать.
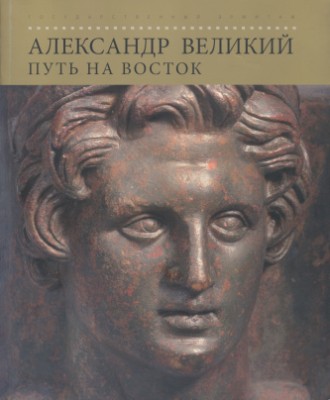 [ каталог выставки ]
[ каталог выставки ]


