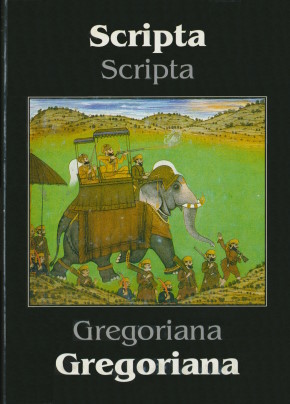 И.М. Стеблин-Каменский
И.М. Стеблин-Каменский
Анекдоты про востоковедов.
См. также вторую и третью серии.
…Но дней минувших анекдоты
От Ромула до наших дней
Хранил он в памяти своей…
А.С. Пушкин. Евгений Онегин
Григорий Максимович в последние годы «с охотой роется в хронологической пыли» разных архивов, увлечённо и плодотворно исследует историю нашей науки и культуры. Но есть помимо письменных ещё один источник сведений о прошлом, которым не обязательно пренебрегать. Это анекдоты о деятелях культуры и науки. Анекдот (этимологически «не-изданный»), разумеется, жанр преимущественно устный. В устном бытовании анекдотов большую роль играют интонации, произношение, мимика, жесты и такие звуковые элементы, которые невозможно отразить на письме (имитация акцента, причмокивание, присвистывания, звукоподражательные возгласы). Полноценная жизнь устного рассказа недолговечна. Использование видеозаписей возможно, но вряд ли удобно. Трудно представить, что кто-либо будет «смотреть» анекдоты, суть которых заключается именно в их краткости и «уместности». Высказывается справедливое, на мой взгляд, мнение, что анекдоты прекрасно адаптируются к Интернету и хорошо в нём «уживаются». Эта «всемирная помойка» оказалась для анекдота идеальной средой, а «характер распространения анекдотов наконец-то стал соответствовать природе жанра» (Курганов, с. 9). Анекдоты в Интернете не только распространяются, но и архивируются, что важно для историков. Ведь по наблюдению А.Г. Манькова, высказанному в дневниках 30-х годов прошлого века, «…тот, на чью долю падёт когда-либо трудное дело написания истории быта наших времён, несомненно, не пройдёт мимо замечательной его страницы — анекдотов» (Маньков, с. 73). Относится это, однако, лишь к тем образчикам этого жанра, которые рассчитаны на всеобщую аудиторию (см., например, anekdot.ru и пр.).
Одну разновидность или специфический разряд анекдотов, не представляющих интереса для массовой публики, утратить было бы жалко. Имеются в виду анекдоты, которые можно классифицировать как «исторические» — устные рассказы о реальных людях и об «анекдотических» случаях из их жизни, за которыми также могут стоять вполне реальные события, происшествия и ситуации. В каком-то аспекте эти тексты, будучи записанными и опубликованными, могут способствовать лучшему пониманию характеров действовавших лиц, прояснению отдельных фактов и эпизодов их биографий, а также и нравов уходящей эпохи. К ним не относятся, разумеется, большинство так называемых «анекдотов о Пушкине» («…однажды Пушкин и Лермонтов…» и т.д.). Это истории о знаменитых и менее известных, но реальных личностях, бытующие в определённых достаточно узких кругах на протяжении многих лет.
(470/471)
Анекдоты о самых знаменитых обычно попадают в конце концов в печать и сохраняются для потомков — так, например, всем памятны публикации анекдотов об античных философах, правителях древнего и нового времени, остроумных писателях, артистах и полководцах. Другие же такие устные рассказы интересны лишь для тех, кто лично знал того или иного персонажа анекдота или хотя бы слышал о нём. Это своего рода «семейные» предания или местные легенды.
Так, в Петербурге до сих пор ходят анекдоты о профессоре-химике Иване Алексеевиче Каблукове (1857-1942), отличавшемся, по этим рассказам, феноменальной рассеянностью.
* * *
Рассказывают, что однажды профессор Каблуков забыл где-то зонтик. Обнаружив пропажу, он вспомнил, что побывал в булочной. Зашёл он в булочную Филиппова и спросил:
— Не оставил ли я здесь свой зонтик?
Зонтика не нашли. Зашёл он и к Елисееву, но там тоже его зонтика не было… Наконец, пришел он в булочную Мюллера:
— Нет ли у вас моего зонтика?
— Вот Ваш зонтик, господин профессор!
— Я же говорил, что немцы честнее, — заключил Каблуков.
Для того чтобы оценить этот анекдот, нужно вспомнить, что в Петербурге были когда-то немецкие булочные («…И хлебник, немец аккуратный…» — из «Евгения Онегина»).
Изрядное число забавных историй рассказывается в академической среде и в околоуниверситетских кругах о наших коллегах — востоковедах, историках и филологах. В целом публикаций университетского фольклора немного. Так, не хочется даже упоминать авторов сборника «Легенды и мифы Университета» (СПб., 1999) — это жалкое собрание описаний каких-то студенческих пьянок, настолько обильно и, главное, безвкусно сопровождаемое матерщиной, что становится стыдно за наш студенческий фольклор.
В публикуемой ниже подборке, преподносимой Григорию Максимовичу по случаю его Дня рождения, собраны анекдоты преимущественно про петербургских (петроградско-ленинградских) учёных, связанных с Восточным факультетом СПбГУ (деканом которого с 1995 г. избирается публикатор этой выборки). Со многими из них Григорий Максимович знаком, о некоторых даже писал по архивным данным (в частности, об академике В.В. Струве: Бонгард-Левин, 2000). Рассказывались эти истории (а в правдивости лежащих в основе многих из них эпизодов нет особых причин сильно сомневаться) во время дружеских застолий, банкетов, фуршетов по случаю юбилеев, дней рождений, памятных заседаний, а иногда, к сожалению, и на поминках. Имея долголетний опыт полевой работы по собиранию фольклора на иранских языках, я часто по привычке датировал свои заметки и не счёл излишним как-то документировать и публикуемые ниже записи в тех случаях, когда это оказалось возможно («Слышал от NN, тогда-то» — в скобках после записи). Большинство записей сделано 1990-х годах, многие были рассказаны неоднократно и в разных вариациях. Два-три анекдота взяты из газетных и журнальных публикаций, а в одном-двух слу-
(471/472)
чаях я был участником или очевидцем. Порядок расположения — приблизительно хронологический и тематический, а также выборочно поименной. Прилагаются самые краткие биографические справки об упомянутых персонажах и рассказчиках.
Надеюсь, что Григорий Максимович хотя бы несколько раз улыбнётся или, может быть, даже посмеётся, читая эти нехитрые истории (а может быть, даже использует в своих изысканиях?). Смех, говорят, укрепляет здоровье и удлиняет жизнь, а смеются и смешат обычно люди хорошие и добродушные…
* * *
Орбели в компании поклонников Мариэтты Шагинян встречал её, никогда не видев, но только прочитав её романтически-эротические стихи *, на вокзале.
— Я пойду и первым расцелую её, — сказал Орбели и вошёл в вагон с букетом цветов.
— Ну как? — спросили его друзья, когда он вскоре вернулся на перрон.
— Тьфу! — сплюнул Орбели и быстро пошел прочь.
Мариэтта была, говорят, уродлива и горбата.
(И.М. Оранский)
* Вероятно, в сборнике «Orientalia» (1913):
…Я ремни спустила у сандалий,
Я лениво расстегнула пояс…
…Жарок рот мой, грудь белее пены…
…В эту ночь — от Каспия до Нила —
Девы нет меня благоуханней!
* * *
Лев Васильевич Ошанин пересказывал академику Бартольду со слов деятеля Бухарской революции, делегата Учредительного собрания от Туркестана Файзулло Ходжаева, как тот ездил к Керенскому. «Керенский, — говорил тогда Ходжаев Ошанину, — всем всё хочет дать поровну, а так нельзя. Вот орёл, когда справлял туй (обрезание или свадьбу) своему сыну и звал всех на туй, всем животным примерка делал. Брал зайца, ставил в зад косточку, мерил, сколько сможет скушать. Потом горлинку брал, тоже косточку в зад ставил, сколько мяса войдет… Надо примерка делать, а потом давать. Керенский примерка не делает…».
— Г-г-г-г-горлинка мяса не ест, — заметил Василий Владимирович (он заикался и косил).
(В.А. Лившиц, февраль 1993 г.)
* * *
Студентки Розенфельд и Успенская нажаловались на Елену Михайловну Пещереву, что она не читает с ними современных иранских газет, а читает только классические тексты.
Елену Михайловну хотели уже прорабатывать на собрании. Но она оправдалась, что для того, чтобы учить современный язык, надо каждый год ездить в страну, «лечить» язык, особенно тем, кто его «портит», общаясь с плохо говорящими учениками.
(472/473)
Зарубин сказал ей:
— Ах, как Вы здорово вывернулись!
(Е.М. Пещерева, 7 декабря 1984 г.)
* * *
Зарубин жаловался Елене Михайловне Пещеревой, что Фрейман разводит на кафедре маниловщину.
— Ну, если Александр Арнольдович — Манилов, — подытожила Елена Михайловна, — то тогда Вы, Иван Иванович, — Собакевич!
Зарубин обиделся и долго с ней не разговаривал.
(Е.М. Пещерева, октябрь 1984 г.)
* * *
Иосиф Абгарович Орбели встретил на Дворцовом мосту (по обычному пути между Университетом и Эрмитажем) Василия Васильевича Струве и с гордостью объявил ему:
— Василий Васильевич, Вы знаете, у меня родился сын!
— И что же, известно, кто его мать? — спросил В.В. *
(А.Н. Болдырев, 1989 г.)
* Вариант: И что же, известно у кого?
* * *
Однажды Орбели вышел с Лившицем из Института востоковедения на Дворцовую набережную. Мимо проходила бывшая жена Орбели…
— Ну и город, — негодовал Иосиф Абгарович, — нельзя по улице пройти, чтобы не встретить жены!
(В.А. Лившиц, 1995 г.)
* * *
Орбели жаловался коллегам на свою жену:
— Тотя такая глупая, я учу сына грабару, а она требует, чтобы я учил его немецкому языку. Я рассказываю Мите про Арарат, а она говорит: расскажи про Монблан! Ну как можно быть такой дурой…
(О.Д. Джалилов, 1998 г.)
* * *
У Мариэтты Шагинян был муж, известный переводчик, высокий дородный мужчина, которого обычно представляли как мужа Мариэтты Шагинян. Академику Орбели его тоже представили так:
— А это муж Мариэтты Шагинян.
— А днём он чем занимается? — поинтересовался Иосиф Абгарович.
(P.M. Джанполадян, март 2002 г.)
(473/474)
* * *
Орбели предупредил коллег, которые показали ему какие-то эротические картинки в рукописном собрании Института востоковедения:
— Вы тут поосторожнее, у вас же тут есть девушки…
(В.Б. Касевич, февраль 1999 г.)
* * *
Яна Александровна Часова, натолкнувшись в факультетском коридоре на академика Орбели, бывшего тогда деканом, радостно воскликнула:
— Иосиф Абгарович, наконец-то я Вас поймала!
— Я не блоха *, чтобы меня ловить, — изрёк Орбели.
(B.C. Гарбузова)
* Этот же случай рассказывается с вариантами: бабочка, мотылёк, а также о сотруднице Эрмитажа.
* * *
Восточный факультет находится в университете на особом привилегированном положении. Один преподаватель работает с тремя студентами. А объясняется всё очень просто. К Сталину пришел Орбели и сказал:
— Иосиф Виссарионович, ты понимаешь, восточные языки — такие же трудные, как и грузинский. Давай сделаем коэффициент 1:3.
И Сталин подписал нужную бумагу.
(Из интервью Л.А. Вербицкой в газете «Невское время», 15 октября 1994 г.) *
* На самом деле распоряжение Совнаркома СССР по поводу педагогической нагрузки было подтверждено канцелярией Министерства высшего образования СССР 8 июня 1956 г. (копия деканата Востфака), соотношение один преподаватель на три студента введено на факультете в 1956/57 уч.г.
* * *
В январе 1951 г. один за другим умирали академики. Сперва похоронили китаиста Василия Михайловича Алексеева. В конце января, вскоре после погромного выступления Люциана (прозванного студентами «Поллюцианом») * Климовича, скончался академик Крачковский. Потом умер президент Академии наук Вавилов в Москве… Академик Струве был распорядителем на гражданских панихидах. На очередной панихиде подходит к нему Абдуррахман Тагирович Тагирджанов и вместо того, чтобы просто поздороваться, начинает, по восточному обыкновению, подробно расспрашивать о здоровье («Ну как поживаете? Как здоровье? Не болеете ли чем?»).
Сбитый с толку Василий Васильевич бормочет:
Ну, да пора уже, пора, — и тут ему надо открывать гражданскую панихиду, запутавшись, он начинает словами:
— С большим удовольствием… — он делает паузу, и, словно опомнившись, продолжает, — мы видим, как молодёжь приходит на смену старшему поколению…
(Н.В. Гуров, ноябрь 1995 г.)
* Об этом пишет А.А. Долинина в книге о Крачковском («Невольник долга», с. 383).
(474/475)
* * *
Во время «дискуссии» после выхода статьи Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» Десницкая требовала от Абаева раскаяться, публично отречься от марризма и признать сталинское учение о языке.
— Пассажиру с тяжёлыми чемоданами, — объяснял Василий Иванович, — труднее пересесть на новый поезд, чем тому, у кого нет никакого багажа…
(М.А. Дандамаев, декабрь 1995 г.)
* * *
Василий Иванович Абаев на своём 95-летии сказал:
— Когда я был маленьким, то помогал старшим, а они мне в благодарность по осетинскому обычаю желали: «Живи долго!». * Ну, я и не смог ослушаться старших.
(9 декабря 1995 г., Москва)
* Осетинское «бирæ цæр» — этимологически дословно: «мириад (то есть десять тысяч) паси».
* * *
Таджикского академика Ниязмухаммедова * хотел когда-то извести его коллега и, чтобы лишить ума, намеревался подмешать ему в плов мозг дохлого чёрного ишака. Об этом стало как-то известно Ниязмухаммедову.
— Эта своличь Обид савсем тёмный дурак, — возмущался Ниязмухаммедов, — чёрный ишак эффект не даёт, надо было взять мозг белого ишака!
(В.А. Лившиц, 1994 г.)
* Про которого в тогдашнем (50-е годы) Сталинабаде был сложен стишок:
Есть у нас мулла Нияз,
Он не вяжет пары фраз.
Если сделает доклад —
Значит, Лившиц виноват.
* * *
Бертельс переводил Низами и никак не мог понять какой-то строки. Ночью во сне ему явился Низами и объяснил смысл стиха. Бертельс рассказывал об этом курьёзном случае, но вскоре позабыл о нём.
Через несколько лет, перед празднованием юбилея Низами в Баку, его вызвал к себе Багиров («азербайджанский Сталин»). Евгений Эдуардович со страхом вошёл в кабинет. Багиров встретил его очень любезно, расспросил о работе, а потом подвёл к занавешенному у стены предмету и торжественно откинул занавеску. За ней был портрет пожилого бородатого мужчины в высокой чалме.
— Ну как, — испытующе глядя на Е.Э., спросил Багиров, — похож?
Евгений Эдуардович сразу не нашёлся, что отвечать, и замешкался…
— Нет, ты говори, похож или нет? — допытывался Багиров.
Бертельс начал было объяснять что-то, Багиров оборвал его:
— Но ведь ты же его видел? — настаивал он.
— Похож, похож, — сообразил Бертельс и поспешил ретироваться *.
(В.А. Лившиц, ноябрь 1993 г.)
* Этот исторический эпизод в кратком и несколько ином изложении (без упоминания имени Е.Э. Бертельса) приводится И.М. Дьяконовым в его «Книге воспоминаний» (с. 732).
(475/476)
* * *
К празднованию юбилея Рудаки * главным местным таджикским художником был написан портрет поэта. Возможно, при написании его художник пользовался реконструкцией по черепу, воссозданной знаменитым скульптором-антропологом Герасимовым **.
Портрет «Отца поэтов» показали Садриддину Айни.
Он долго молча стоял перед картиной, а потом изрёк:
— Асп. (По-таджикски это значит «лошадь») — И удалился.
Все остались в полном недоумении.
Позже выяснилось, что «Асп» («Лошадь») — это прозвище дяди главного художника, который торговал урюком на самаркандском базаре. У него была длинная, как у лошади, челюсть.
— Он своего дядю нарисовал, — объяснял Айни.
(В.А. Лившиц, февраль 1996 г.)
* Анекдот рассказывается также про портрет Ибн Сины-Авиценны со слов А. Мирзоева, уточнявшего смысл слова «асп», которое Садриддин Айни произнёс перед картиной (В.А. Лившиц, январь 2002 г.).
** Как рассказывал А.Н. Болдырев, раскопав безымянную могилу на кладбище в горном селении Панджруд в верховьях Зеравшана, где будто бы родился и умер Рудаки, Герасимов нашёл человеческий череп. Стряхнув землю, проведя рукой по челюсти и не обнаружив ни одного зуба, он радостно воскликнул:
— Это Рудаки!
Хрестоматийная «Жалоба на старость» Рудаки начинается строкой:
У меня истёрлись и выпали все зубы…
* * *
Уйдя из дома, Струве иногда забывал, куда ему нужно идти: в Эрмитаж, в Университет, в Институт востоковедения… Тогда он звонил домой и спрашивал изменённым голосом:
— Позовите, пожалуйста, Василия Васильевича!
— А он сейчас в Университете на Учёном совете, — отвечали ему всё понимавшие домашние, и Струве направлялся в Университет.
(В.А. Лившиц, 1993 г.)
* * *
Орбели позвонили, в бытность его деканом, с факультета и спросили:
— Иосиф Абгарович, Вы сегодня будете на факультете?
— А разве я нужен? — удивился Орбели.
(B.C. Гарбузова, 1994 г.)
* * *
Орбели уговаривал Кононова стать деканом вместо него. Андрей Николаевич всячески отказывался под тем предлогом, что у него болит сердце и плохо с глазами.
— Я хочу жить, — сказал Кононов Иосифу Абгаровичу.
— Нет, вы только подумайте, — возмущался Орбели, — он хочет жить! А я, следовательно, не хочу!
(Э.Я. Тёмкин, октябрь 1994 г.)
(476/477)
* * *
Однажды Кононов на заседании кафедры положил на стол портфель, открыл его, и из портфеля выкатилась поллитра и колбаса. Андрей Николаевич сначала оторопел, но сообразив в чём дело, побагровел от возмущения и объявил:
— Это мне Александр Алексеевич свой портфель подсунул!
Оказалось, что он случайно поменялся похожими портфелями с Холодовичем, про которого было известно, что буфетчица специально держит для него бутылку. Холодович выпивал перед лекцией стакан водки и читал, по отзывам, блестяще.
(B.C. Гарбузова, декабрь 1995 г.)
* * *
Юрий Владимирович Петченко в конце 1950-х годов вернулся из Индии и завился в деканат востфака в роскошной кожаной куртке с молниями.
— А это что тут за водолаз?! — вопросил Андрей Николаевич Кононов.
(Б.М. Новиков, октябрь 1995 г.)
* * *
Из кабинета разъярённого Орбели вышел пришибленный Илья Павлович Петрушевский. Орбели, теребя свою пышную бороду, что он делал всегда, когда сердился, ходил по кабинету, восклицая:
— Кто чем думает, тот за то и держится!
Илья Павлович имел обыкновение держать руки за спиной пониже пояса.
(О.Ф. Акимушкин, О.Д. Джалилов, 31 января 2000 г.)
* * *
Академик Струве, когда его спрашивали, не родственник ли он известному парижскому эмигранту, «легальному марксисту» Петру Бернгардовичу Струве, отвечал кратко:
— Даже не однофамилец!
(A.M. Беленицкий)
* * *
Встречая Моисея Семёновича Альтмана на Университетской набережной, Струве приветствовал его так:
— Здравствуйте, Моисей Соломонович!
И так много раз. Альтману это надоело, он решил отомстить и однажды сказал Василию Васильевичу при встрече:
— Здравствуйте, Пётр Бернгардович!
С этой поры Струве больше не оговаривался.
(А.Г. Периханян, декабрь 1995 г.)
* * *
Будучи директором Института востоковедения, Струве издал приказ: «С такого-то числа считать меня в декретном отпуске». Он думал, что все отпуска по декрету.
(А.Г. Периханян, декабрь 1995 г.)
(477/478)
* * *
Однажды на государственном экзамене академик Струве принял одного из членов комиссии, очень молодо тогда выглядевшего преподавателя-япониста Андрея Андреевича Бабинцева, за студента и начал его спрашивать. Андрей Андреевич на все вопросы охотно отвечал.
Василий Васильевич его похвалил, предложил поставить «отлично» и был немного смущён, узнав, что это не студент, а член экзаменационной комиссии.
(B.C. Гарбузова, 1999 г.)
* * *
На экзамене по древней истории академику Струве попался студент, который честно признался, что подготовиться к экзамену не успел.
— Голубчик, — обратился к нему Василий Васильевич, — Вы на лекции ходили?
Студент промямлил что-то в том роде, что, мол, на лекциях бывал.
— Ну вот и отлично, — обрадовался Василий Васильевич, — скажите мне, пожалуйста, между кем и кем были греко-персидские войны?
(Н.В. Гуров, 1991 г.)
* * *
На экзамене Струве спросил студентку:
— Где жил Саргон Аккадский?
— В Аккаде, — догадалась студентка.
— Вы первая из 34 экзаменующихся, кто ответил правильно, — сказал Василий Васильевич и поставил «отлично».
(Т.Н. Никитина рассказывала в 1999 г. как о происшедшем с ней самой)
* * *
На поминках по арабисту Матвееву Большаков рассказывал, что однажды академик Струве на каком-то экзамене всем поставил пятёрки и только Матвееву — четвёрку.
А произошло это следующим образом. Во время экзамена в аудиторию зашёл тогдашний секретарь партбюро и присел послушать, как отвечают студенты. Струве после ответа студента Матвеева спросил его:
— Ну как отвечал студент?
— Хорошо, хорошо, — сказал партийный секретарь. Струве и поставил «хорошо»…
(М.А. Родионов, 30 апреля 2002 г.)
* * *
В.В. Струве ставил отметки по следующему принципу: не знает, но понимает — «отлично». Не знает, не понимает, но учил — «хорошо». Не знает, не понимает, не учил, но интересуется — «удовлетворительно». А кто же скажет, что не интересуется?
(Н.А. Спешнев, январь 1999 г.)
(478/479)
* * *
Однажды академик Алексеев * поставил всем на экзамене пятёрки. В деканате ему напомнили:
— Василий Михайлович, а Вы знаете, что оценки бывают разные? Вы уж следующий раз будьте повнимательнее!
На следующем экзамене Василий Михайлович опять ставил всем пятёрки, но под конец вспомнил о требовании деканата и поставил последнему студенту тройку.
— Василий Михайлович, — обиделся студент, — разве я отвечал хуже других?
— Голубчик, — утешал студента академик, — отвечали Вы лучше всех, но, Вы понимаете, отметки бывают разные… **
(А.Б. Муратов, декабрь 1998 г.)
* По другому варианту: Струве.
** 9 января 1999 г. этот анекдот был рассказан во время экзамена доценту В.А. Дроздову. В деканат после экзамена была сдана ведомость, в которой всем четырём студентам этой группы были поставлены четыре разные оценки: 5, 4, 3 и 2.
* * *
На заседании, посвящённом дешифровке надписей на черепках из древней парфянской столицы Нисы в Туркмении, Винников читал эти письмена как арамейские, Лившиц с Дьяконовым — как парфянские.
— Как ваше «п», так может быть «б», — возмущался Исаак Натанович (со своим утрированным местечковым акцентом), — а моё «п» — не может! Таки я тгэбую гавнопгавия!
Председательствующий Струве, как всегда, спит, но просыпается, когда прекращаются звуковые колебания, и обращается к Фрейману:
— Александр Арнольдович, какое Ваше мнение?
Фрейман открывает рот, но долго не решается ничего сказать и шамкает что-то, — Струве засыпает. Фрейман закрывает рот, Струве просыпается и говорит:
— Ну вот и прекрасно, Александр Арнольдович, теперь мы всё знаем о парфянском языке.
(В.А. Лившиц, 24 февраля 1996 г.)
* * *
Академику Струве приписывается высказывание: «Сплю я однажды и вижу сон, что председательствую на Учёном совете… Просыпаюсь — и действительно — я на Учёном совете…»
(B.C. Гарбузова, 20 февраля 2002 г.)
* * *
На заседании Учёного совета востфака зашла речь о распределении выпускников. Выступавший сообщил, что несколько человек получили распределение в МГБ.
— Вы хотите сказать в МГУ? — переспросил Виктор Иванович Беляев.
— Нет, в МГБ, — подтвердил выступавший.
— А что это такое? — вопрошал недоумевающий Виктор Иванович.
Члены Учёного совета испуганно потупили взоры и промолчали.
(А.Н. Болдырев)
(479/480)
* * *
1960-е годы: на учение по МПВО («Гражданской обороне») созываются все заведующие кафедрами, сотрудники ректората…
Туповатый майор, когда все расселись, окидывает строгим взглядом притихшую аудиторию и торжественно провозглашает:
— Итак, началась война, какие будут ваши действия?
Илья Павлович Петрушевский тихонечко встаёт, бочком выходит из аудитории, спускается вниз в деканат, просит разрешения срочно позвонить домой, набирает номер и шёпотом говорит:
— Талиночка, ты знаешь, началась война, иди в сберкассу, возьми всё…
(Н.Н. Шавлюга, апрель 2001 г.)
* * *
Академик Крачковский пригласил гостившего в Ленинграде видного чешского востоковеда Яна Рипку в столовую Дома учёных пообедать. Сели за столик, заказали обед подоспевшему официанту.
— Что будете пить? — спросил официант.
— Пиво… две бутылки, — заказал Игнатий Юлианович.
— И пол-литра водки, — добавил Ян Рипка.
Игнатий Юлианович, по словам его жены, Веры Александровны, был очень сконфужен, долго оправдывался и говорил, что сегодня он очень оплошал.
(П.А. Грязневич, 1 марта 1996 г.)
* * *
На защите какой-то узбекской диссертации в Дубовом зале Института археологии с разгромными отзывами выступали оппоненты, ругали диссертацию и предлагали отправить на доработку. Председательствовавший Струве, как всегда, спал. Проснувшись он сказал:
— Ну, вот и хорошо. Замечательная, талантливая работа. Будем голосовать!
Голосование было единогласным — «за». Крачковский прошептал:
— Василий Васильевич, а водку надо пить дома!
(П.А. Грязневич, 1 марта 1996 г.)
* * *
На защите одной диссертации по осетинскому языку первый оппонент, профессор Холодович, коснулся только Введения и раскритиковал его за массу глупостей и ошибок.
— Я показал полную несостоятельность Введения к диссертации, — заключил он свой отзыв, — осетинского языка я не знаю, поэтому оценивать основную часть не могу. Но если второй оппонент покажет, что в работе есть что-то ценное, то тогда эта часть засияет как Эсмеральда на фоне Квазимодо…
Вторым оппонентом был Фрейман, диссертация была защищена.
(В.А. Лившиц, февраль 1993 г.)
(480/481)
* * *
На докторской защите Льва Николаевича Гумилёва в Эрмитажном театре председательствовал Василий Васильевич Струве. Лев Николаевич говорил о тюркском кагане, который в таком-то году пошёл с войском на юг, чтобы закрепить границы между Степью и Русью, и т.д.
Присутствовавший на защите Кляшторный, трепеща от смущения, выступил и сказал, что этот каган пошёл походом не в таком-то году, а совсем в другом, и не на юг, а на восток, и не расширять границы, а украсть в жёны чью-то дочь, и т.п.
— Есть историки и историки, — выступил в своё оправдание Гумилёв, — одни любят, как выразился Маяковский, рыться в окаменевшем дерьме, то есть в фактах, а другие, используя интуицию, решают глобальные проблемы истории народов…
После успешной защиты Василий Васильевич, голосовавший, конечно, «за», сказал Гумилёву:
— Ты, Лёвушка, голубчик, может быть, и прав, но я это дерьмецо ох как люблю!
(П.А. Грязневич, 1 марта 1996 г.)
* * *
Юного Леона Тиграновича Гюзальяна спросили как-то:
— Вы, армяне, — григориане или несториане?
— Мы, армяне, — гюзальяне, — гордо ответил мальчик.
(Сергей Жуков рассказывал на поминках по Леону Тиграновичу, октябрь 1994 г.)
* * *
В Эрмитаже Леон Тигранович сидел в бывшей бриллиантовой кладовой Зимнего дворца, на окнах оставались решётки. Леон Тигранович иронизировал:
— Раньше здесь была бриллиантовая кладовая, здесь было много бриллиантов, а теперь остался только один… — и он поглаживал себя по совершенно лысой голове. — Или два, — добавлял он иногда, указывая на стену, имея в виду, очевидно, своего коллегу в соседнем помещении.
(Тот же, тогда же)
* * *
На защите диссертации Абрама Григорьевича Лундина выступил Исаак Натанович Винников (говоривший на публику умышленно с утрированным местечковым акцентом):
— Вот у Вас у пэгэводэ «Аллах». Но вед Аллаха нэт!.. То эст вообшэ-то он эст, но у тэкстэ эво нэт!
(В.А. Лившиц, 1997 г.)
* * *
На защите диссертации Петра Афанасьевича Грязневича задал вопрос Исаак Натанович Винников:
(481/482)
— Вот Ви замечательный филолог, работа видаюшаяся, но вот Ви пэгэводите: «За пгогоком шло дэсат тисач пгаведных женщин…» И гдэ же это Ви видели дэсат тисач пгаведных женщин сгазу, да ещё пги войске?
(В.А. Лившиц, май 1995 г.)
* * *
Лившиц и Грязневич решили как-то написать популярную повесть о пророке Мухаммеде. После долгих обсуждений начали со сцены его кончины (согласно легендам, пророк умер от несварения желудка).
«Пророк умирал тяжело. Его мучили газы…» — сочинили они, и это им так понравилось, что дальше этих двух фраз дело не пошло. Больше писать не стали, поскольку сами поняли, что лучше этого уже ничего придумать нельзя.
(В.А. Лившиц)
* * *
Оранский читал иранистам группы Акимушкина, Борщевского, Соколова лекцию по Ирану и упомянул что-то о животном мире. Борщевский, бывший в Иране в составе Советской Армии (во время войны), заметил, что в Иране едят осетрину. Иосиф Михайлович был высказыванием этим несколько обескуражен.
Следующую лекцию Иосиф Михайлович начал так:
— По поводу прошлой лекции должен вам сообщить, что «осетрина» бывает только на столе, а в реках Прикаспия водится осётр…
(Ю.Е. Борщевский, 1983 г.)
* * *
В студенческие годы на лекции Болдырева о Хафизе Сергей Николаевич Соколов так переиначил хрестоматийный стих Хафиза о ширазской турчанке (турчонке?), за чью родинку поэт готов отдать Самарканд и Бухару:
Который турка из Шираза моё бы сердце покорил,
То этой турке Бухара бы за чёрный прыщик подарил.
(О.Ф. Акимушкин, 14 марта 1997 г.)
* * *
На назначение очередного декана Восточного факультета, которые в 1950-х годах (до пришествия Михаила Николаевича Боголюбова, возглавлявшего факультет в течение 35 лет) менялись довольно часто, Сергей Николаевич Соколов написал такой стишок:
В этой жизни всё движется, движется.
Отменились фита и ижица.
Поразбились стаканы,
Поменялись деканы,
Лишь одно постоянно: Яна.
(482/483)
Имелась в виду Яна, (Я)Нина Александровна Часова, служившая лаборантом на кафедре иранской филологии несколько десятилетий.
(Подлинник стишка, подарен Н.В. Гуровым в июне 1995 г.)
* * *
После какого-то юбилея, где выпивки не дали или не хватило, Чингиз Байбурди, Лившиц и Соколов пошли к Сергею Николаевичу в его «казарму» (комнату в коммуналке на 10-й линии В.О.). Посчитали деньги, хватило только на бутылку, на пару плавленых сырков и на килограмм студня за 52 коп.
Когда выпили и закусили, а студень ел только Лившиц, Сергей Николаевич сказал, обращаясь к Владимиру Ароновичу, такой стих:
— О ты, который студню съел как десять кобелей,
Когда ж придёт и твой собачий юбилей?
(В.А. Лившиц, 31 февраля 1998 г.)
* * *
С.Н. Соколов говорил про Л.Т. Гюзальяна:
— Леон Тигранович — это же мировая константа!
Имелось в виду постоянство привычек Леона Тиграновича — регулярные посещения Филармонии, хождения по набережной в Эрмитаж в одно и то же время, сидение на одном и том же месте во время заседаний и тому подобное поведение.
(Н.В. Гуров, 1994 г.)
* * *
Исаак Иосифович Цукерман так иллюстрировал особенности курдского синтаксиса:
— Он хотэл его зарэзать, а он нэ хотэл!
(В.Г. Гузев, 1995 г.)
* * *
В китайском языке есть иероглиф, звучание которого похоже на известное русское слово из трёх букв.
Студент на занятии написал этот иероглиф на доске.
— Почему у Вас такой *** кривой? — спросила преподавательница.
— А это нам такой Николай Алексеевич Спешнев показывал, — оправдывался студент.
(Н.А. Спешнев подтвердил, что это случилось на занятии Т.А. Малиновской, 1998 г.)
* * *
Рудольф Фердинандович Итс на банкетах любил почитать свои стихи. Однажды он встал и говорит:
А вот стихи одного поэта…
— Поэта зовут Итсаковский, — сострил Олег Иванович Голузеев.
(М.А. Родионов, 23 сентября 1997 г.)
(483/484)
* * *
Доцент востфака Акиф Мамедович Фарзалиев привёл на экскурсию в соборную мечеть Санкт-Петербурга группу (человек пять) студенток.
Встретивший их имам (это был турок, выполняющий обязанности муэдзина) спросил Акифа:
— А это все * Ваши жёны?
(Случай, происшедший 29 марта 2002 г.)
* [Прим. сайта: не вполне ясно, читать ли здесь ‘все́’ или ‘всё’.]
Заканчивая на этом недавнем случае публикацию анекдотов про востоковедов, надеюсь пополнять свою коллекцию — в том числе и рассказами о Григории Максимовиче, который, насколько известно, не раз бывал участником забавных и поучительных эпизодов в истории нашей востоковедной науки.
^ Краткие биографические справки.
Абаев Василий Иванович (1900-2001) — иранист, сотрудник Института языкознания, автор этимологического словаря осетинского языка.
Айни Садриддин (1878-1954) — писатель, основоположник таджикской и узбекской литературы.
Акимушкин Олег Фёдорович (1929) — иранист, сотрудник ЛО ИВ, доцент востфака.
Алексеев Василий Михайлович (1881-1951) — китаевед, академик.
Альтман Моисей Семёнович (1896-1986) — классик, профессор филфака.
Бабинцев Андрей Андреевич (1920-1983) — японист, преподаватель востфака.
Байбурди Чингиз Алиевич (1925) — иранист, доцент востфака.
Бартольд Василий Владимирович (1869-1930) — востоковед, академик.
Беленицкий Александр Маркович (1904-1993) — арабист, историк и археолог, сотрудник ЛО ИА, начальник Пенджикентской экспедиции.
Беляев Виктор Иванович (1902-1976) — арабист, профессор востфака.
Бертельс Евгений Эдуардович (1890-1957) — иранист, чл.-кор. АН.
Боголюбов Михаил Николаевич (1918) — иранист, академик, почётный декан востфака.
Болдырев Александр Николаевич (1909-1993) — иранист, профессор востфака.
Большаков Олег Георгиевич (1929) — арабист, сотрудник ЛО ИВ.
Борщевский Юрий Ефимович (1924-1984) — иранист, сотрудник ЛО ИВ.
Вербицкая Людмила Алексеевна (1936) — профессор филфака, ректор СПбГУ.
Винников Исаак Натанович (1897-1973) — семитолог, профессор востфака.
Гарбузова Виктория Степановна (1914) — тюрколог, профессор востфака.
Герасимов Михаил Михайлович (1907-1970) — скульптор-антрополог.
Голузеев Олег Иванович (1943) — арабист, преподаватель востфака.
Грязневич Пётр Афанасьевич (1929-1997) — арабист, сотрудник ЛО ИВ.
Гузев Виктор Григорьевич (1939) — тюрколог, профессор востфака.
Гумилёв Лев Николаевич (1912-1992) — историк, сотрудник Эрмитажа, ЛГУ.
Гуров Никита Владимирович (1935) — индолог, доцент востфака.
Гюзальян Леон Тигранович (1901-1994) — иранист, сотрудник Эрмитажа, доцент востфака.
Дандамаев Мухаммед Абдулкадырович (1928) — историк, сотрудник ЛО ИВ.
Десницкая Агния Васильевна (1912-1992) — языковед, профессор филфака, директор ЛО ИЯ АН.
Джалилов Ордихан Джасмович (1932) — курдовед, сотрудник ЛО ИВ, профессор востфака.
Джанполадян Рипсимэ Михайловна (1918) — историк, сотрудник ИА (ИИМК).
(484/485)
Долинина Анна Аркадьевна (1923) — арабист, профессор востфака.
Дроздов Владимир Альбертович (1961) — иранист, доцент востфака.
Дьяконов Игорь Михайлович (1915-1999) — историк и филолог, сотрудник Эрмитажа, ЛОИВ.
Жуков Сергей Петрович — двоюродный племянник Л.Т. Гюзальяна, преподаватель Академии гражданской авиации.
Зарубин Иван Иванович (1887-1964) — иранист, профессор ЛГУ, сотрудник Кунсткамеры.
Изергина Антонина (Тотя) Николаевна (1906-1969) — искусствовед, сотрудник Эрмитажа, жена И.А. Орбели.
Итс Рудольф Фердинандович (1928-1990) — китаист, этнограф, профессор исторического факультета, директор Кунсткамеры.
Касевич Вадим Борисович (1941) — языковед, профессор востфака и филфака.
Климович Люциан Ипполитович (1907-1989) — литератор.
Кляшторный Сергей Григорьевич (1928) — тюрколог, сотрудник ЛО ИВ, доцент востфака.
Кононов Андрей Николаевич (1906-1986) — тюрколог, академик.
Крачковская Вера Александровна (1884-1974) — востоковед, профессор востфака.
Крачковский Игнатий Юлианович (1883-1951) — арабист, академик.
Лившиц Владимир Аронович (1923) — иранист, сотрудник ЛО ИВ.
Лундин Абрам Григорьевич (1929-1994) — арабист, сотрудник ЛО ИВ.
Малиновская Татьяна Александровна (1922) — китаист, преподаватель востфака.
Матвеев Виктор Владимирович (1928-1995) — арабист, сотрудник Кунсткамеры.
Мирзоев Абдулгани Мухаммедович (1908-1976) — литературовед, академик Таджикской академии.
Муратов Аскольд Борисович (1937) — литературовед, профессор филфака.
Никитина Тамара Никифоровна (1929) — китаист, профессор востфака.
Ниязмухаммедов Бабаджан Ниязович (1906-1979) — таджикский языковед, академик.
Новиков Борис Михайлович (1929) — китаист, доцент востфака.
Оранский Иосиф Михайлович (1923-1977) — иранист, сотрудник ЛО ИВ.
Орбели Дмитрий Иосифович (1947-1971) — биолог, сын академика И.А. Орбели.
Орбели Иосиф Абгарович (1887-1961) — кавказовед, академик, директор Эрмитажа, ЛО ИВ, декан востфака.
Ошанин Лев Васильевич (1884-1962) — антрополог, профессор Ташкентского университета.
Периханян Анаит Георгиевна (1928) — историк, сотрудница ЛО ИВ.
Петрушевский Илья Павлович (1898-1977) — историк, профессор востфака.
Петченко Юрий Владимирович (1928) — индолог, доцент востфака.
Пещерева Елена Михайловна (1897-1985) — этнограф, преподаватель востфака, сотрудник Кунсткамеры.
Пиотровский Михаил Борисович (1944) — арабист, директор Эрмитажа, профессор востфака.
Родионов Михаил Анатольевич (1946) — арабист, сотрудник Кунсткамеры, профессор востфака.
Розенфельд Анна Зиновьевна (1910-1990) — иранист, профессор востфака.
Соколов Сергей Николаевич (1923-1985) — иранист, доцент востфака.
Спешнев Николай Алексеевич (1931) — китаист, профессор востфака.
Струве Василий Васильевич (1889-1965) — историк древнего Востока, академик.
Тагирджанов Абдуррахман Тагирович (1907-1983) — иранист, арабист, профессор востфака.
Тёмкин Эдуард Наумович (1928) — индолог, сотрудник ЛО ИВ.
Успенская Людмила Владимировна (1910-2000) — таджиковед.
Фарзалиев Акиф Мамедович (1954) — тюрколог, доцент востфака.
Фрейман Александр Арнольдович (1879-1968) — иранист, профессор востфака.
Ходжаев Файзулло (1896-1838) — туркестанский партийный и государственный деятель.
Холодович Александр Алексеевич (1906-1977) — японист, языковед, профессор востфака, сотрудник ЛО ИЯ АН.
(485/486)
Цукерман Исаак Иосифович (1909-1998) — иранист-курдовед, сотрудник ЛО ИВ.
Часова Яна (Нина) Александровна (1923-1991) — старший лаборант кафедры иранской филологии востфака.
Шавлюга Нина Николаевна (1901) — сотрудница деканата востфака.
Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888-1982) — советская писательница.
^ Список литературы.
Бонгард-Левин Г.М. А.А. Блок и В.В. Струве // «У времени в плену». Памяти Сергея Сергеевича Цельникера. Сб.ст. М., 2000. С. 215-234.
Легенды и мифы Университета. СПб., 1999.
^ Список сокращений.
востфак — Восточный факультет СПбГУ
ИА (АН) — Институт археологии Академии наук (ИИМК — Институт истории материальной культуры)
ЛО ИВ (АН) — Ленинградское отделение Института востоковедения Академии наук (после 1991 г. — Санкт-Петербургский филиал)
ЛО ИЯ (АН) — Ленинградское отделение Института языкознания Академии наук (после 1991 г. — Институт лингвистических исследований)
МГУ — Московский государственный университет
МГБ — Министерство госбезопасности (НКВД, КГБ, ФСБ)
СПбГУ — Санкт-Петербургский государственный университет (до 1991 г. — ЛГУ)
филфак — филологический факультет СПбГУ
|