|
|
|
|
| |
С. 101. Рис. 39б — зеркало
|
С. 102. Рис. 40а —
|
С. 103. Рис. 40б — деревянная фигурка оленя с кожаными рогами
|
(103/104)
свитые в две косы волосы женщины в особом кружевном накоснике. Борода мужчины была сбрита за несколько дней до его смерти, но вместе с головой была найдена искусственная подвязная борода, которая, видимо, носилась в торжественных случаях.
И мужчины, и женщины носили серьги, для которых в мочках ушей имеются отверстия. Судя по случайно сохранившимся обломкам серёг, они были золотые, тонкой работы, с перегородчатой эмалью из цветной пасты. И мужчины, и женщины носили шейные гривны (грабители II Пазырыкского кургана отрубили им головы, чтобы снять гривны), а женщины, кроме того, носили ножные и ручные браслеты.
Любопытно, что ножные браслеты носились не только выше стопы, но и выше икр ног, под коленным суставом. И стопы, и голени женского тела были отрублены, чтобы снять браслеты. Носили женщины и кольца или перстни.
Большое количество самых разнообразных вещей из больших алтайских каменных курганов, которыми мы в настоящее время располагаем, особенно II Пазырыкского, не позволяет дать даже краткое описание их всех. Помимо утилитарного своего назначения, они представляют интерес как показатель высокого уровня техники обработки различных материалов. На ней мы и остановимся вкратце.
Об обработке растительных материалов, в первую очередь дерева, можно судить по высокому качеству строительного дела. При постройке срубов погребальных камер брёвна не только исключительно тщательно отёсывались, но и идеально пригонялись одно к другому так, что не оставалось никаких зазоров. При отсутствии пилы плахи пола вытесаны настолько аккуратно и пригнаны одна к другой так плотно, что пол оказался абсолютно непроницаем для воды. Особого внимания заслуживает выделка из цельного дерева таких предметов, как саркофаг в 4 м длиной и около одного метра в диаметре, изящной формы столов с цельными крышками или различной формы сосудов, также из цельного дерева. Токарный станок уже был известен, и на нём вытачивались фигурные ножки столов, но всего замечательнее была художественная резьба по дереву, образцами которой являются те же ножки столов в виде фигур львов, поддерживающих крышки, бесчисленное количество резных из дерева украшений, конской сбруи и предметов церемониального назначения (рис. 40а, 40б, 42).
Из II Пазырыкского кургана уже и сейчас имеется семь видов различных шерстяных тканей типа полотна, саржи или диагонали, ковровой с длинным ворсом и псевдогобелена или паласа. Одни из них, например ковровые, были шириной до 42 см, саржевые — 15 см, псевдогобеленовые — всего около 9 см. Одни ткани (ковровые) окрашивались в готовом виде, другие ткались из окрашенных ниток, причём псевдогобелен соткан из разноцветных ниток со сложным ритмически повторяющимся узором. Помимо тканей, имеется и плетёная шерстяная тесьма, и узорчатые кружева из тех же шерстяных ниток. В качестве красителей употреблялись типы индиго, пурпурин и ализарин. Следует все же отметить, что для одежды в основном использовались меха и частично кожа, для обуви — кожа и фетр. Ткани ценились, видимо, высоко, шли на отделку предметов одежды, в частности обуви, в основном же использовались в домашнем убранстве.
В обработке минеральных веществ в первую очередь следует отметить технику изготовления глиняной посуды. Большие глиняные кувшины из II Пазырыкского кургана оригинальной формы, но не совершенной техники изготовления. Тесто довольно грубое с примесью гравия; формовка без гончарного круга; обжиг примитивный на костре.
Как была поставлена разработка рудных месторождений, мы пока не знаем. Известно, что в эту именно эпоху золото с Алтая шло непрерыв-
(104/105)
Рис. 42. Деревянное навершие (II Пазырыкский курган).
(Открыть Рис. 42 в новом окне.)
(105/106)
ным потоком на запад и на юг. На Алтае же могло добываться и серебро, и медь, и олово; разрабатывались там и месторождения железа. Поскольку курганы ограблены, нельзя судить о том количестве золота, которое в них было захоронено, а было его не мало. Каковы были похищенные вещи, можно судить по массивным и тяжелым золотым шейным гривнам и браслетам эрмитажного собрания «сибирского золота». Впрочем, и то, что уцелело в курганах, указывает на весьма широкое использование листового золота для украшения вещей, казалось бы, третьестепенного значения. Наравне с золотом, но в меньшем количестве, для покрытия различных вещей употреблялось и листовое олово. Техника плющения золота и олова стояла довольно высоко: наиболее тонкие листки золота около 15 микрон, ещё тоньше оловянная фольга.
Литьё различных предметов из бронзы было общераспространенным. Отливались бронзовые удила, гвозди, художественные изделия, как, например, фигурки орлов из Берельского кургана.
Какие железные руды разрабатывались, мы пока не знаем, но употребление в большом количестве кристаллов пирита в качестве украшения подошв женской обуви указывает на то, что сернистое железо им было известно. Добывался ли пирит попутно при разработке золотых россыпей вместе с золотом или независимо, это другой вопрос. Железные вещи, такие, как удила или ножи, выделывались ковкой.
Серебряное зеркало настолько оригинально и необычно, что трудно решить, местного оно изделия или привозного. Зато поясные серебряные бляхи и особенно серебряная подвеска с изображением лошади настолько «скифская», местная, что нет сомнения в том, что алтайцы были знакомы с техникой литья и серебряных изделий, притом изделий высокохудожественных.
При раскопках II Пазырыкского кургана впервые найдены музыкальные инструменты двух типов — ударный и струнный. Первый из них односторонний барабан небольших размеров, бокаловидной формы, удобной для держания в руке. Корпус его составлен из двух роговых половин. По своей форме и, отчасти, по способу крепления мембраны он близок односторонним барабанам, и поныне бытующим в Афганистане, Иране и Малой Азии. Резонансный корпус струнного инструмента выдолблен из цельного куска дерева с мембраной-декой, выделанной из тонкой кожи. Его многострунность, равно как тщательность и изящество в отделке, указывает на высокую степень музыкальной культуры создавшего его народа.
Особо видное место в культуре населения Алтая, оставившего большие каменные курганы, занимает изобразительное искусство. Нет почти ни одного предмета, независимо от его утилитарного назначения, чтобы он не был в той или иной мере украшен. Глиняная и деревянная посуда, мебель в частности столики, и другие предметы домашней обстановки, одежда, конская сбруя (рис. 43), предметы ритуальные, из какого бы материала они ни были сделаны, выполнены в изысканной форме и всячески разукрашены. В изобразительном искусстве широко использованы приёмы графического силуэтного изображения, резьбы в низком рельефе и в круглой скульптуре, техника мозаики, литья и чеканки. Особенно излюбленными приёмами были резьба по дереву и рогу, апликация из кожи и фетра (рис. 41 [вклейка]). Имеется ещё один момент, который должен быть отмечен, это полихромность. Красителей было не так много. Общеупотребительными были цвета в различных оттенках: синий, красный и жёлтый, но в комбинации с натуральным белым, коричневым или чёрным цветами шерсти, с различными цветами и их оттенками кожи и меха с расцветкой золотом и оловом получались богатые возможности для многокрасочных изделий, и ими широко пользовались.
(106/107)
Рис. 43. Налобник из рога (II Пазырыкский курган).
(Открыть Рис. 43 в новом окне.)
(107/108)
Что касается мотивов изобразительного искусства, то на первом месте стоял известный «скифский звериный стиль».
Второй момент, который должен быть особенно подчёркнут, — это вскрытое раскопками наличие орнаментов растительных и геометрических. Скифское искусство и «звериный стиль» часто употребляются как синонимы. Разумеется, изображения животных занимали в нём видное место, но наряду с ними население широко пользовалось и мотивами из растительного мира, в частности лотосом, и различными геометрическими фигурами. Растительные мотивы особенно широко использовались для украшения одежды, всевозможных предметов домашнего обихода — мешков, сумок, кошелей, кожаных сосудов, ковров и тому подобных вещей, где орнаментальные мотивы из мира животных или вовсе отсутствуют или занимают подчиненное место.
Для суждения об общественном строе и идеологии населения Алтая в рассматриваемое время, за отсутствием письменных источников и за недостаточным количеством исследованных памятников, данных у нас очень мало. Между тем и здесь мы располагаем такими фактами, которые археологически не засвидетельствованы в других местах. Общество, оставившее большие каменные курганы, представляется нам в виде родовых общин, патриархальных семей, объединённых в племенные группы. Богатство сочеталось с общественной властью, что подтверждается наличием, помимо небольших рядовых, очень больших курганов, в сооружениях которых должен был принимать участие большой коллектив. Однако на Алтае не было таких крупных племенных объединений под властью выдающихся вождей, как на юге России. Самые крупные курганы в долине р. Урусула ещё не исследованы, но те, что раскопаны, также не малые по размерам, заключают не более четырнадцати захороненных коней.
Важная деталь, которая отмечалась и выше, это то, что все кони верховые, засёдланные. Верховые кони — это личная собственность погребённого. Кони эти разномастные, с различными метами на ушах, указывающими на происхождение от различных хозяев. Кони I Пазырыкского кургана оказались не молодыми: возраст их определён старше 9 лет, большинство же старше 17-20 лет. Такие же старые кони были погребены и во II Пазырыкском кургане. Это — высокопородные кони, лучших кровей, содержавшиеся на отборных кормах. Надо думать, что они покупались или выменивались у различных владельцев; в престарелом возрасте они заменялись более молодыми, а по смерти их хозяина сопровождали его в загробную жизнь. Верховой конь, в том числе и боевой, был самым ценным имуществом, и его мы находим во всех без исключения погребениях рассматриваемого времени, как мужских, так и женских, вместе с остальным личным имуществом.
Во II Пазырыкском кургане погребён убитый в бою мужчина, и врагом был снят с него скальп. С ним погребена женщина, вероятно его любимая наложница. [1] Не все детали этого замечательного памятника выяснены, но это пока наиболее вероятная версия. Изысканная, но не особенно богатая одежда женщины, музыкальные инструменты, многочисленные принадлежности туалета — все это определяет её социальное положение. В данном погребении нашли своё подтверждение факты, отмеченные впервые в Шибинском кургане, погребения мумифицированных трупов с трепанацией черепа. Последнее практиковалось, видимо, только в отношении особенно влиятельных лиц, так как трепанированных черепов в рядовых погребениях, поскольку нам известно, не находилось.
Оживлённую дискуссию вызвали лошадиные маски из I Пазырыкского кургана с их композициями нападения барса на оленя и схватки барса или тигра с рогатым львиным грифоном. Во II Пазырыкском кургане также
(108/109)
найдены маски. Мотив одной из них — птица, сидящая на голове горного барана. Этот мотив борьбы хищных или фантастических зверей, или нападения их же или хищных на копытных во многих вариантах имеется в Пазырыкских курганах. Смысловое значение этих сцен видели и в тотемических и в дуалистических представлениях. Отмечу только, что не во всех сценах мы имеем указанное выше сочетание. Из I Пазырыкского кургана на седельной покрышке имеется сцена борьбы двух грифонов — орлиного и львиного; в одной из масок — схватка тигра с львиным грифоном, а на бляхе из II Пазырыкского кургаиа борьба двух орлиных грифонов.
Несколько слов ещё о вероятных культурных связях Алтая с Передней Азией. Что культура алтайцев в рассматриваемое время была независима от передовых культур юга, в этом нет никакого сомнения, но она была в той или иной мере с ними взаимно связана. Мы уже отмечали элементы культуры Передней Азии на Алтае, например наличие таких мотивов в изображениях животных, как орлиные и львиные грифоны, нередко в стиле, характерном для ахеменидской Персии. Помимо этого, многие композиции борьбы зверей чисто переднеазиатские, в частности ассирийские, что и не удивительно, принимая во внимание исторически засвидетельствованное участие в VII и VI вв. до н.э. восточных кочевых племён в войнах Передней Азии.
Не случайно и исключительное преобладание среди мотивов растительного орнамента лотоса, в его специальной переднеазиатской трактовке. Но не только в художественном творчестве, в одежде (кандис), в вооружении (акинак), в конском убранстве между Алтаем и Передним Востоком много общего. При наличии местной металлургии и при высокой технике изготовления металлических изделий нет уверенности в том, что золотые ювелирные вещи с цветной перегородчатой эмалью были местного производств а. Хотя их найдено пока немного, они чрезвычайно близки к тем, какие мы знаем в это время в Персии.
Очень показательно нахождение во II Пазырыкском кургане значительного количества семян посевного эфирномасличного кориандра — растения субтропического, восточно-средиземноморского, который, подобно индиго и пурпурину, на Алтае мог оказаться только в результате сношений с югом. Что касается этих сношений, то сомнительно, чтобы они были исключительно военного характера. Несравненно интенсивнее должны были быть мирные торговые сношения. С Алтая на юг шло золото, драгоценные меха пушных зверей, вряд ли скот, в том числе лошади, которых на Алтае не могло быть так много, как в степных областях. Взамен получались породистые лошади, возможно, овцы, предметы роскоши в виде ювелирных изделий, редкие краски, лекарственные и пряные растения. Однако всё иноземное здесь же на месте подвергалось детальной переработке и входило в сокровищницу богатой местной культуры.
Каменных курганов на Алтае изучено слишком мало, поэтому пока нет вполне надёжных критериев для их точной датировки. Отметим только, что нет оснований относить их ко времени позднее IV в. до н.э. Связи с югом могут быть прослежены за весь период ахеменидской династии. Решительно никаких следов сношений с Грецией, времени её господства в Передней Азии после падения названной персидской монархии, и позднее с Китаем, по крайней мере в Пазырыке, мы не имеем.
[1] [ Прим. сайта: О положении женщины в азиатских скотоводческих обществах скифского времени см.: Грач 1980: 50-56. ]
Вклейка:
[ Рис. 41. Покрышка седла. Войлок. Цветная апликация. (II Пазырыкский курган). (Открыть Рис. 41 в новом окне.) ]
[ Сокращения ]
ВДИ — Вестник древней истории
ГИМ — Государственный исторический музей
ЗОРСА — Записки Отделения русской и славянской археологии Русского археологического общества
ЗСОРГО — Западно-сибирское отделение русского географического общества
ИАК — Известия археологической комиссии
ИИМК — Институт истории материальной культуры им. Н. Я, Марра Академии Наук СССР
ИИЯиЛ — Институт истории языка и литературы Академии наук СССР
КСИИМК — Краткие сообщения Института истории материальной культуры им. Н.Я. Марра Академии Наук СССР
ЛОИИМК — Ленинградское отделение Института истории материальной культуры им. Н.Я. Марра Академии Наук СССР
ОАК — Отчет Археологической комиссии
СА — Советская археология
СЭ — Советская этнография
ТКУ — Сборник «Трипiльска культура».
ТСА — Труды секции археологии
WPZ — Wiener Prähistorische Zeitschrift
наверх
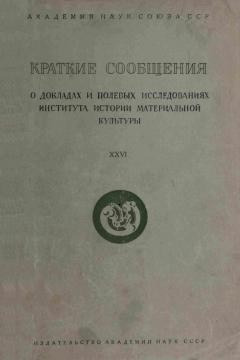 С.И. Руденко
С.И. Руденко






