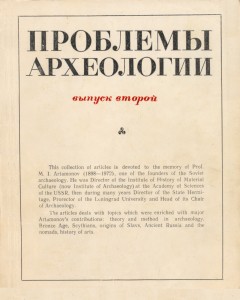 Д.А. Мачинский
Д.А. Мачинский
О смысле изображений на чертомлыцкой амфоре.
В 1863 г. при раскопках чертомлыцкого кургана И.Е. Забелиным была обнаружена знаменитая чертомлыцкая ваза. Авторы изданной в 1889 г. сводки «Древности скифо-сарматские» с уверенностью утверждали, что «первое место между скифскими сосудами и древностями бесспорно принадлежит великолепному серебряному сосуду, найденному в Чертомлыцком кургане» (Толстой и Кондаков, 1889, с. 135). М.И. Артамонов подробно описал чертомлыцкую амфору, охарактеризовал её «как образец работы первоклассного мастера» и уделил ей в альбоме значительно больше внимания, нежели любому другому шедевру греко-скифского искусства (Артамонов, 1966, с. 48, табл. 162-176).
До сих пор исследователи не углублялись в понимание взаимосвязи и смысла разнообразных изображений и орнамента, покрывающих всё тулово сосуда, а сосредотачивали своё внимание на описании отдельных сценок, помещённых в пределах фриза на плечиках сосуда и посвящённых, как принято считать, теме укрощения скифами своих коней. Эти сцены рассматривались обычно изолированно даже друг от друга, как отдельные реалистические зарисовки, и не ставились в связь с изображениями на других частях сосуда, которые расценивались как чисто декоративно-орнаментальные композиции или декоративные оформления деталей сосуда утилитарного назначения.
Безусловно, сценки на плечиках амфоры, равно как и изображения скифов на других произведениях греко-скифской торевтики, пронизаны распространившимся в IV в. до н.э. среди греков специфиче-
(232/233)
ским интересом к скифам. Отношение к скифам окрасилось оттенком некоторой идеализации их как людей неиспорченных, живущих просто и слитно с природой. Работавшие в Северном Причерноморье греческие мастера дополнили это несколько умозрительное построение живыми наблюдениями над жизнью реальных скифов и создали тот своеобразный стиль изображений варваров, который был назван М.И. Ростовцевым «стилем этнографического реализма». Однако это название отражает лишь взгляд на эти изображения «c греческой точки зрения», и вряд ли учитывает те требования, которые, судя по всему, что мы знаем о ней, должна была предъявлять к рассматриваемым предметам заказывавшая их скифская аристократия.
Автор статьи предпринял попытку рассмотреть все изображения и орнамент на чертомлыцком сосуде как взаимосвязанную систему образов, посвящённую воплощению некой важной для скифов идеи. Соображения актора в сжатом виде излагаются ниже.
Образы прекрасных животных, воплощённых в произведениях скифских торевтов конца VII-IV вв. до н.э., несомненно связаны со скифской мифологией и воспринимались как изображения богов, олицетворявших космические и земные силы природы. Анализ всей системы образов «звериного стиля» евразийских степей и лесостепи VII-III вв. до н.э. позволяет обнаружить в ней два основных, противостоящих и взаимсавязанных круга образов. Первый — представлен в первую очередь образами оленя, горного козла и коня (или существ, представляющих как бы их помеси), т.е. прекрасными, быстроногими, мирными травоядными животными. Иконография этих существ, равно как аналогии из древнейших пластов индоевропейской мифологии, позволяет полагать, что очерченный круг образов воплощает представления о мужских божествах животворящих сил природы, в первую очередь солнца, дневного солнечного света, и о зависящем от него мире растительности и травоядных животных. Второй круг представлен образами хищника кошачьей породы и хищной птицы (или «помесями» между ними, различного рода грифонами), которые на ранних этапах развития скифского звериного стиля (VII-V вв. до н.э.) часто изображаются в позах, композиционную основу которых составляет полумесяц. Эти образы, видимо, воплощают представления о силах ночи, неизбежно следующей за солнечным днём, о времени, когда господствуют месяц и хищные звери, о силах вечного уничтожения-обновления, об агрессивной мужской силе.
Звериные божества второго круга неизменно терзают представителей божеств первого круга. Эта тема «благого терзания», вечного обновления жизни через смерть и страдания (является отражением своеобразного первобытного, дуалистического и диалектичного взгляда на жизнь, выраженного в мифологических образах. На ранних этапах
(233/234)
скифского искусства, когда преобладают изображения отдельных животных, тема терзания лишь намечена, как, например, на выступе ножен келермесского меча, где фигура возлежащего оленя окружена направленными на него хищными клювами. Позднее, в V-IV вв. до н.э., сцены терзания становятся основной темой искусства евразийских степей. И есть все основания полагать, что скифская аристократия, воспитанная в традициях подобного мировоззрения, отражённого в произведениях скифского искусства, требовала, чтобы и в произведениях греческих торевтов были воплощены некие мифолого-эпические идеи и темы.
Нет необходимости заново описывать изучаемый сосуд. Напомним лишь, что чертомлыцкая амфора представляет собой положенный в погребение и предназначенный для вина крупный сосуд из серебра с позолоченными главными горельефными изображениями (сценки на фризе и головы «фантастического» коня и львов, которыми оформлены краники). У сосуда отчётливо выражена насыщенная изображениями лицевая сторона, центральная вертикаль которой проходит через верхний, средний (фриз) и нижний пояс изображений, пересекая наверху тело терзаемого оленя (рисунок, 1), в середине — тело кобылицы, окружённой четырьмя скифами (рисунок, 1 [? — лишнее], 2), и внизу — кран в виде головы коня (рисунок, 3). Сакральное значение таких элементов характеристики, как «вещь, положенная в могилу», «изображение из золота», «крупный сосуд», публичное питьё вина, трёхчастность членения и т.д., легко устанавливается по описанию скифских легенд и обычаев у Геродота и наталкивает на мысль о сакральном характере сосуда в целом. Вопреки распространённому мнению, горельефный фриз на плечиках сосуда не состоит из отдельных сценок дрессировки лошадей скифами, а представляет собой продуманную, взаимосвязанную, постепенно нарастающую и в определённом месте достигающую кульминации систему сцен на тему, которую условно можно назвать «жизнь и назначение скифской лошади». На оборотной стороне сосуда, на том участке фриза, который наиболее удален от центральной (вертикали лицевой части, представлены два абсолютно симметричных изображения свободно пасущихся жеребцов с головами, направленными в разные стороны. Направо и налево от пасущихся коней, ближе к лицевой части сосуда, помещены две идентичные по смыслу сценки, каждая из которых содержит изображение одного скифа, ловящего арканом одного жеребца. Следующие две, взаимоуравновешивающие сцены, пятая и шестая, расположены уже на лицевой стороне сосуда. На каждой из них представлен жеребец, уже вполне подчинившийся воле человека. Слева скиф, подгибая жеребцу ногу, одновременно натягивает надетую на него узду, видимо, заставляя коня лечь, т.е. вероятно, обучает или осматривает уже укрощённого

(234/235)
Изображения на Чертомлыцкой амфоре (1, 2, 3)
и ножнах меча из кургана Куль-Оба (4, 5).
(235/236)
коня. Справа скиф стреноживает жеребца, на которого надеты узда и седло.
Итак, шесть из семи сцен, расположенных на плечиках сосуда, подчинены строгой логике. Действие начинается на оборотной стороне фриза и, симметрично развиваясь в идущих вкруговую в обе стороны сценах, должно завершиться в центральной части лицевой стороны. Смысл и взаимосвязь развития действия ясны: от свободно пасущейся лошади, через борьбу с ней человека — к полной победе человека над животным. Оба ряда сцен соединяются и завершаются седьмой, центральной, сценой (расположенной под барельефной сценой терзания оленя грифонами и прямо над главным краном, оформленным в виде головы «фантастического» коня). Эта сцена кульминационна, и её особое значение подчёркнуто мастером. Здесь присутствуют уже не один, а четыре скифа, стоящих около кобылицы (в шести других сценах изображены жеребцы) (рисунок, 2).
Обычно исследователи не заостряли внимание на этой центральной композиции, а если и описывали её, то как одну из сцен укрощения лошадей. Однако такая трактовка вызывает возражения. Во-первых, если один скиф мог оправиться с одним неприрученным жеребцом (как это изображено на сценах поимки коней арканом), то почему для усмирения одной кобылицы понадобились четыре человека? Во-вторых (и это главное), если считать, что здесь изображено усмирение лошади, то тогда рассыпается вся внутренне логичная последовательность нарастания действия от оборотной к лицевой стороне сосуда, так как оказывается, что после поимки и полного приручения лошади, вновь возникает сцена усмирения и борьбы. Подобное нарушение композиционно-смыслового единства фриза совершенно противоречило бы нормам греческого искусства классической поры. И для того чтобы обнаруженное нами композиционное единство фриза не распалось, необходимо предположить, что в рассматриваемой сцене достигнута кульминация темы «жизнь и назначение лошади». А сточки зрения коневодов-скифов, только одно событие в жизни лошади могло быть более значительным, чем перипетия её служения человеку, — это принесение лошади в жертву божеству.
Геродот (IV, 60, 61) сообщает, что у скифов «в жертву приносится всякий скот, а особенно лошади». «Обряды жертвоприношений всем богам и на всех празднествах у них одинаковы и совершаются так: жертвенное животное ставят со связанными передними ногами. Приносящий жертву, стоя сзади, тянет за конец верёвки и затем повергает жертву на землю. Во время падения животного жрец взывает к богу, которому приносят жертву. Затем он набрасывает петлю на шею животного и поворотом палки, всунутой в петлю, душит его... После того как жертва задушена, обдирают шкуру и приступают к
(236/237)
варке мяса». Итак, последовательность действий, непосредственно направленных на жертвенное животное, такова: сначала ему «выключают» передние ноги, чтобы оно не могло сопротивляться (стреноживание коня), затем рывком верёвки его заставляют упасть на согнутые передние ноги, после этого животное душат петлёй, накинутой на шею; потом с него сдирают шкуру и приступают к приготовлению жертвенного мяса. В описанном Геродотом случае в жертвоприношении участвуют два человека (речь идет об обычном, широко распространённом виде жертвоприношения) — приносящий жертву простой скиф и жрец, причем каждое конкретное действие над жертвенным животным совершается всегда силами одного из участников жертвоприношения, чем и обусловлена необходимая очерёдность этих действий.
В центральной сцене фриза представлены все перечисленные Геродотом этапы жертвоприношения с той разницей, что на фризе изображено жертвоприношение, совершаемое от имени аристократа (или даже царя) и исполняемое силами его многочисленных подчинённых; поэтому целый ряд действий производится почти одновременно, и необходимые результаты достигаются несколько иным способом, чем это описано у Геродота. У некоторых скифов на фризе в сжатых кулаках сохранились обрывки серебряных проволочных нитей, некогда изображавших арканы. И если мысленно на центральной сцене соединить руки скифов, натягивающих арканы, с соответствующими частями тела кобылицы, то станет понятна странная поза лошади с расползающимися ногами, с пригнутой к земле передней частью тела, беспомощно опущенной головой и приоткрытым ртом. Крайний слева, бородатый скиф, оттягивает арканом переднюю правую ногу кобылицы вперёд, тогда как стоящий справа от неё, позади, безбородый скиф оттягивает переднюю левую ногу назад, заставив её беспомощно согнуться в коленном и голеностопном суставах. Благодаря такому беспомощному положению кобылицы третий скиф, стоящий перед головой лошади, получил возможность накинуть ей на шею аркан, чтобы задушить её. Следы проволочного аркана сохранились на изображении в виде маленькой дырочки под шеей кобылицы, у самого основания головы (Артамонов, 1966, табл. 174). Изо рта лошади вырывается предсмертный хрип. В это время четвёртый, крайний справа, бородатый скиф (композиционно относящийся к этой же сцене), приготовился к следующему этапу жертвоприношения. У этого скифа, единственного из всех изображённых на фризе, обнажены правая рука, плечо и правая половина груди, с которых скинута свисающая куртка, ноги его босы. Он явно приготовился к некоему энергичному действию правой рукой, при котором ему придется упираться ногами. Таким действием, безусловно, является следующий из описанных Геродотом этап жертвоприношения, трудоёмкая операция по сня-
(237/238)
тию шкуры, при (которой усиленно действуют ногами и руками (особенно правой), пачкая их при этом в крови. К сожалению кисти рук, этого скифа обломаны, и мы не знаем, что в них находилось. Весьма вероятно, что в правой руке он держал нож и затачивал его на точильном камне, находившемся в левой руке.
Подобная трактовка центральной сцены фриза раскрывает осмысленность и законченность всей его композиции. Опираясь на «расшифрованную» систему сцен на фризе, можно обратиться к другим изображениям, в первую очередь к главным, находящимся на центральной вертикали лицевой части. Как явствует из приведённого выше текста Геродота, жертва всегда приносилась какому-то одному, конкретному богу. Естественно искать на этом сосуде следы присутствия божества. Возможно, одной из его ипостасей является барельефное изображение оленя, терзаемого клювами грифонов в верхней части тулова сосуда; однако это изображение не позволяет конкретизировать имя и функции искомого божества. Поэтому более плодотворным представляется обращение к расположенному под центральной сценой фриза изображению головы «фантастического» коня со своеобразным «воротником» (который можно понимать и как сияние) и двумя расправленными крыльями (рисунок, 3).
Думается, что можно назвать даже имя изображённого здесь божества. Геродот (IV, 59) сообщает имена ряда скифских божеств, каждому из которых для пояснения его функций он приводит имя близкого ему «по кругу обязанностей» греческого бога. При этом он утверждает: «...этих богов признают все скифы, а так называемые царские скифы приносят жертвы ещё и Посейдону. На скифском языке... Посейдон называется Фагимасад». На первый взгляд подобное утверждение Геродота кажется странным: каким образом коневоды и степняки могли иметь «национальное» божество, аналогичное морскому богу Посейдону? Однако это сомнение легко устранимо: известно, что функция морского божества является отнюдь не древнейшей в «биографии» Посейдона. В древности он был тесно связан с сушей (о чём говорит его эпитет «колебатель земли») и являлся покровителем скотоводства, в особенности коневодства, причём сам мыслился в образе огромного небесного жеребца, в виде которого он и представал перед своими возлюбленными — Деметрой, Меланиппой и Медузой. Рождались от него зачастую также жеребцы. Так, Медуза родила крылатого коня Пегаса, отцом которого был Посейдон. И, конечно, именно эту, древнюю, функцию Посейдона имел в виду Геродот, когда сопоставлял его с национальным божеством царских скифов — Фагимасадом.
Правда, перед греческим мастером, видимо, знакомым с принятой аналогией Фагимасад — Посейдон и пытавшимся в IV в. до н.э. изо-
(238/239)
бразить Фагимасада в традициях и нормах греческого искусства, стояла трудная задача: в классическую пору Посейдон не изображался в веде жеребца. Однако в непосредственном мифологическом окружении Посейдона имелись существа, сохранившие в своей иконографии V-IV вв. до н.э. следы его «конской» природы: сын Посейдона конь Пегас, обязательным атрибутам которого являются крылья, и морской конь, возящий колесницу Посейдона, — гиппокамп, атрибутом которого является своеобразный плавникоподобный «воротник» вокруг шеи. На базе этих образов, производных от древнего Посейдона-жеребца, греческий мастер и воссоздал облик божества царских скифов, покровителя коневодства, жеребца Фагимасада — Посейдона, которому приносится в жертву прекрасная кобылища.
Неслучайность возникновения нового «эллинизированного» образа скифского божества в греко-скифском искусстве IV в. до н.э. подтверждается одной важной аналогией — изображением на выступе ножен меча из кургана Куль-Оба, т.е. из погребального комплекса, по ряду признаков наиболее близкого Чертомлыку. Если на выступе ножен из самого Чертомлыка представлен вариант древней сцены терзания оленя — терзание грифоном головы самца лани, то на ножнах меча из Куль-Обы сцена терзаемого грифоном и львом оленя перенесена на саму поверхность ножен (рисунок, 5), а их выступ, отводимый обычно под «главное» в мифологическом смысле изображение, украшен фигурой морского коня гиппокампа со своеобразным «воротником» вокруг шеи (рисунок, 1 [?], 4). Среди бляшек Куль-Обы, изображавших скифских богов и скифские обычаи, имеются также фигуры гиппокампа и Пегаса.
Два других краника на чертомлыцком сосуде оформлены в виде двух головок львов. Напомним, что хищник кошачьей породы занимает важное место в скифской мифологии и представители «хищного» начала, обычно по двое, окружают в сценах терзания представителя «мирного» начала. Правда, здесь эти образы занимают подчинённое положение и, возможно, воспринимались в античности как обычное оформление места слива жидкости.
Пятилепестковая розетка над головой божественного коня, не связанная непосредственно с системой растительного орнамента на тулове, может восприниматься как вариант солярного знака, указывающего на солнечную природу Фагимасада, что подтверждается свидетельством Геродота о наличии верховного бога в виде коня — солнца у связанных со скифами в культурном и историческом отношении массагетов. Наличие только трёх кранов на тулове сосуда (тогда как на оборотной стороне оставалось свободное место для четвёртого), вероятно, связано с особым значением «священного» числа три и перекликается с сообщением Лукиана Самосатокого о том, что
(239/240)
при заключении перед лицом богов священного союза кровного побратимства в этот союз могли вступать не более трёх человек, выпивая при этом, по Геродоту, вино, предварительно смешанное в большом сосуде с каплями крови побратимов.
На основании всего вышеизложенного мы вправе предположить, что чертомлыцкая амфора использовалась не в обыденной обстановке (во время любой трапезы), а лишь в особых, торжественных случаях, связанных с заключением неких союзов и совершением неких обрядов, когда вино (или вино с примешанной кровью?) лилось как бы из уст божества, присутствующего при немом торжестве или обряде скифов царских. Неслучайность членения тулова чертомлыцкой амфоры на три части (верхнюю, среднюю и нижнюю, каждая из которых связана с определённой системой образов) подтверждается повторением этой трёхчленности на вещи совершенно иной формы — пекторали из Толстой могилы. Не исключено, что эта трёхчленность является отражением некоего представления о трёх мирах — одном земном и двух неземных.
Предлагаемая трактовка чертомлыцкой амфоры может привести к пересмотру ряда положений, связанных с мифологией, этнической историей и содержанием искусства как скифов, так и некоторых их соседей (Мачинский, 1973, с. 25-26).
Литература. ^
|