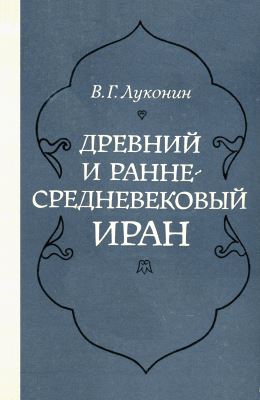 В.Г. Луконин
В.Г. Луконин
Древний и раннесредневековый Иран.
Очерки истории культуры.
// М.: ГРВЛ. 1987. 296 с.
Хосров II и Анахита.
Хосров II в «Шах-наме». ^
Хосров II Парвиз — один из главных героев поэмы Фирдоуси «Шах-наме». Фирдоуси посвятил ему 4125 бейтов — более одной трети сасанидской части поэмы, которую современные исследователи в отличие от остальных частей называют «исторической». [1]
Для Фирдоуси то, что он писал в своей поэме, было, конечно, историей его страны. Но это совсем не труд, при создании которого был применён аналитический метод или метод оценки различных версий, т.е. совсем не такая история, как её понимали, например, Табари или многочисленные переводчики сасанидской «Хватай-намак», или даже те четыре мудреца-перса, которые по приказу правителя города Туса Абу Мансура Мухаммеда ибн Абд ар-Раззака закончили в 959 г. так называемую «Большую Шах-наме».
«Большая Шах-наме» представляла собой свод самых различных книг, не только сасанидских исторических хроник, но и сасанидских «романов» — андарзов, преимущественно в их арабских переложениях и переводах. Это был «подстрочник» Фирдоуси. Но Фирдоуси, манипулируя всеми этими материалами по своему желанию, перенося иногда даже большие исторические события из одной эпохи в другую, оставался прежде всего поэтом. [2] Он создавал характеры, исторические образы, выделяя в своём материале те именно поступки и высказывания своих героев, которые казались ему наиболее яркими. «Кем был Рустам до сих пор? — писал он. — Только каким-то сеистанским воином. Я же сделал его Рустамом, сыном Дастана».
Нужно подчеркнуть, что, судя по всему, Фирдоуси даже в этой «исторической» части своей поэмы не воспользовался никакими дополнительными фактами и сведени-
(177/178)
ями, никакими дополнительными источниками, кроме тех, которые содержались в «Большой Шах-наме». Больше, чем политика, много больше, чем конкретные исторические события, Фирдоуси интересовала, так сказать, «культурная история», и потому все три «великие царствования», вокруг которых, в сущности, и концентрируется остальной материал (подготавливая события этих трёх царствований или объясняя их последствия), — царствование Бахрама Гура (2600 бейтов), Хосрова Ануширвана (4526 бейтов) и Хосрова Парвиза (4125 бейтов) [3] — строятся у него по одинаковой модели. Это «тронные речи», сухое и скучное изложение событий политической и внутренней истории, совсем не подробное и к тому же — с произвольными (точнее, авторскими) акцентами, и, наконец, описание подвигов и поступков его главных героев, их достоинств и недостатков, внешнего антуража дворцов, гарема, богатства, отношений с различными второстепенными персонажами и т.д.
Бахрам Гур у Фирдоуси — прежде всего великолепный воин, охотник, главный кавалер. Он совсем не мудрый владыка, не яростный в своей силе герой, он скорее храбрец. Он мечется по страницам поэмы и по всему своему царству с одной охоты на другую, из одного дворца в другой, он любит посещать гостей — и знатных дворян, и простых подданных — и везде пьёт вино. Он совсем не стратег — во время угрожающей Ирану войны с тюрками он поступает не как главнокомандующий иранскими вилами, а как лихой полковник, совершая неожиданный рейд на дружины хакана. Он может проникнуть к врагам, скрываясь за дипломатическим статусом официального посла, с целью разведать силы и намерения врага, но дело кончается очередной любовной историей. Этот образ у Фирдоуси, пожалуй, самый человечный, он наделен известной глубиной, динамичен, внутренне интересен. [4]
Хосров Ануширван в этом смысле — подлинный антипод Бахрама Гура. Это — государь государей, «мироустроитель», царь-реформатор, непревзойдённый образец повелителя огромной страны, образ этот тяжеловесен, монументален, неподвижен — это не человек, но идеал правителя. Его заботят прежде всего слава и престиж его державы, не только в военной и экономической, но и в культурной сфере: в его царствование осуществляются переводы научных трактатов («Панчатантра», переведённая Барзуей, воспринималась прежде всего как науч-
(178/179)
ный трактат, «книга полная мудрых слов» [5]), и даже «Шатранг» для него — модель для изучения военной стратегии, а «Нард-Неварташир» — модель для астрологических штудий. [6]
Хосров Парвиз — как бы между этими двумя крайностями. Личная храбрость и рыцарское благородство, забота о благе государства, но и любовь к жизненным удовольствиям хорошо сочетаются в этом образе сибарита, мецената и очень осторожного и мудрого политика. Как и у Хосрова Ануширвана, у него — блестящий двор, но это преимущественно не учёные — это поэты, музыканты, строители. Его характер ужесточается к концу жизни: заботясь о блеске, преимущественно внешнем блеске, своей империи, предпринимая большие и изнурительные для страны походы, часто исключительно в престижных целях, он сам исподволь готовит свой страшный конец. Зло, учинённое им в начале царствования, оборачивается против него в его последние дни.
Такой образ Хосрова Парвиза, пожалуй, не очень соответствует тому, что мы узнаём о нём из многочисленных и разноязычных исторических источников, посвящённых этому периоду сасанидской истории. [7]
В арабо-персидской традиции (ярче всего, пожалуй, у Динавари [8]) Хосров II прежде всего — завоеватель, деспот. Он обуян гордыней. Характерна в этом отношении упомянутая у нескольких авторов история с одним римским всадником, который хотел одолеть Бахрама Чубина, отнявшего царство у Хосрова. Бахрам рассёк его пополам, а Хосров смеялся: «Он упрекал меня и мне понравилось, что он познал тот удар, который победил меня в моём царстве».
Хосров жаждет мести за отца и долго выжидает удобного случая. «Он захотел начать со своих дядей, Биндоя и Бистама, забыв о помощи, оказанной ему Биндоем. Злобу против них он копил в течение десяти лет».
Его обвиняют в неблагодарности, в убийстве многих знатных воинов и вельмож, в том, что обилие собранных им богатств достигнуто «путём взимания хараджа насильственным способом» (были собраны, в частности, недоимки тридцатилетней давности), в угнетении подданных, высокомерии, хитрости...
У христианских авторов Хосров совсем другой. Он озабочен делами христиан и христианской церкви, и в основном под этим углом рассматривается вся его деятельность.
(179/180)
Хосров II и христианство. ^
В этой работе я хочу сосредоточиться лишь на вопросе о судьбе христианства в позднесасанидском Иране, даже точнее — на идеологической политике Хосрова по отношению к христианству. Мне представляется, что здесь мы можем различить не только политико-экономическую основу, но и действия, обусловленные личными привязанностями шаханшаха, конкретными событиями его жизни.
Для этой цели «Шах-наме» Фирдоуси представляется благоприятным фоном реконструкции.
Как известно, Хосров пришёл к власти благодаря решительной поддержке византийского императора Маврикия. Причины этого союза двух «великих держав», сложные внешнеполитические отношения, их последствия для экономики и внутренней истории Ирана и Византии не раз подвергались анализу. [9]
Но для Фирдоуси вся эта история сводится к чисто личным отношениям — верности Хосрова Маврикию, помогшему ему в критическую минуту, мести за его смерть, помощи его сыну (он для Фирдоуси — реальный претендент на власть в Византии, а совсем не самозванец, который был использован Ираном как повод для начавшейся войны). Уважение к Маврикию окрашивает в поэме и отношение Хосрова к христианству.
Всем обязанный императору Маврикию, называя его своим отцом, Хосров берёт в жены его дочь Мариам. Мариам — «разумная, величественная, мудрая» [Шах-наме, т. 9, 1502 и сл.] —имеет на шаха громадное влияние. Он строит для неё христианские церкви, она часто даёт ему советы в религиозных спорах. Так случилось, например, когда император в числе даров посылает Хосрову роскошное платье, украшенное изображениями креста. Хосров прочёл письмо кесаря и удивился его подаркам.
Потом сказал шахрийар своему дастуру: «Мол, это румийское платье, украшенное драгоценностями, не было в обычае [носить] именитым декханам, ибо оно — одежда епископа. Раз на нашем платье изображение креста, то надеть его — это обычай христиан. Если не надену его — обижу кесаря... а если надену — то все знатные начнут говорить, что, мол, этот шахрийар стал христианским, ибо на нём кресты». [10] Дастур царя уверяет его, что вера не зависит от платья: «Ты — пайгамбар
(180/181)
веры Зардушта, хотя и имеешь связи с кесарем» [Шах-наме, т. 9, 2066].
Шаханшах облачается в епископский наряд и появляется в нём на приёме. «Разумные, когда увидели его в этом платье, поняли, что он предпочёл мнение кесаря, а другие говорили, — вот этот властелин мира втайне обращён в христианство». На приёме присутствует сын кесаря Ниятус (так считает Фирдоуси; на самом деле посланником при сасанидском дворе в то время был магистр войск востока Нерсей). Биндой появляется у накрытого к торжественнному ужину стола с принадлежностями для застольной зороастрийской молитвы (вадж), и Хосров произносит эту молитву. Ниятус отбросил хлеб и с гневом вскочил из-за стола. Сказал: «Вместе вадж и крест от кесаря — это обида для христиан!» Начинается драка между Ниятусом и Биндоем. Хосров покраснел от гнева. «Не надо было, — сказал он Бистаму, — давать вина этому безумному быку!» Но Ниятус вызывает свой конвой и требует, чтобы Биндой принёс извинения. Шаханшах понимает всю остроту ситуации, но решительно возражает: «Да не будет такого, чтобы веру предков, этих достойных венца и чистых, я преступил и стал христианином, чтобы я не читал ваджа за столом и стал бы верить в Христа» [Шах-наме, т. 9, 2092 и ел.].
Скандал улаживает Мариам. Она объясняет Ниятусу, что «истинного величия недостойно менять веру, как меняют платье». [11]
Ещё одна история, связанная с отношением к христианству Хосрова и косвенно — с Мариам, это история со «святым крестом», захваченным сасанидскими войсками в Иерусалиме. Вот как излагает её Фирдоуси.
Кесарь обращается со специальным письмом к Хосрову, в котором, восхваляя его правление, его богатства, его мудрость и т.д., между прочим, пишет: «Есть у меня просьба к шахрийару, которая для него совсем ничтожна. Христианское древо храните вы в сокровищнице. Проверьте — и увидите, что это — правда. Уже много лет прошло, [как оно хранится у вас]. Быть может, пошлёте его нам назад. Удовлетворив это желание, шахрийар мира одарит у нас великих и малых сим» [Шах-наме, т. 9, 3278 и ел.].
В ответном письме Хосров, как бы между прочим, касается и вопроса о «священном древе». Он пишет о том, что, конечно, «Христос был на нем распят, но ведь потом он вознёсся на небеса, и потому, зачем печалиться о ка-
(181/182)
ких-то досках? Когда такие пустые слова исходят от самого кесаря, то над этим смеются даже ничтожные люди. Это Иисусово древо не стоит, конечно, того, чтобы шахи хранили его в своей сокровищнице. Но если я пошлю в Рум это древо из Ирана, то вся страна будет надо мной потешаться. Народу покажется, что я стал христианином, что я был обращён в христианского священника» [Шах-наме, т. 9, 3328 и ел.].
Это все, что пишет Фирдоуси об отношении к христианству Хосрова Парвиза. Хотя в «Шах-наме» вопросы религии занимают Хосрова много меньше, чем остальных шаханшахов (даже в его многочисленных речах и «поучениях» о зороастризме говорится лишь вскользь), всё же он — праведный зороастриец, он посещает зороастрийские храмы (в особенности — храм Атур Гушнасп), приносит им дары. Вообще в его время религиозные вопросы — совсем не основное. Видимо, так отражалась идеологическая обстановка в Иране того времени и в сасанидской официальной истории. Во всяком случае, даже захват сасанидскими войсками Иерусалима в 614 г. и вывоз оттуда в Иран главной святыни христиан, этот, по выражению Н.Я. Марра, «факт мирового значения» [Марр, 1909] не столь уж заметен и в арабо-персидской традиции, основанной на «Хватай-намак».
У Фирдоуси «священное древо», как мы видели, издавна хранится в сокровищнице, и он ничего не пишет о захвате Иерусалима. [12] Табари и Бал’ами упоминают об этом вскользь. Динавари утверждает, что крест обнаружили после долгих поисков где-то на огороде в Александрии [Колесников, 1970, с. 132].
Важность этого события и для сасанидской политики проявляется лишь в ответах на обвинения, предъявленные Хосрову в конце его жизни. Оппоненты Хосрова, упрекая его во многих грехах, в частности, считают, что он поступил неблагодарно по отношению к кесарю в ответ на оказанную помощь: «... ради него ты не проявил заботы о его сыне и родственниках, когда они явились к тебе с просьбой вернуть им древо распятия, которое прислал тебе Шахин из Александрии». Хосров отвечает на это: «Истинно дороже этого дерева тридцать миллионов дирхемов, которые я распределил среди прибывших со мной ромеев (растрата, в которой его прежде всего и винили. — В.Л.)... Я запер его [это дерево] для того, чтобы с его помощью получить в залог их послушание и
(182/183)
чтобы они повиновались мне во всём... вследствие великого воздействия на них этого древа» [Колесников, 1970, с. 133].
Много больше об отношении Хосрова к христианству содержат сирийские, армянские и греческие источники. В некоторых из них упоминаются сведения, не вызывающие сомнений в их достоверности.
Помощь Маврикия Хосрову в его борьбе с Бахрамом Чубином за трон Ирана, возможно, с самого начала была обусловлена какими-то будущими уступками христианам в Иране со стороны шаханшаха. Во всяком случае, судя по сообщению Симокатты (Пигулевская, 1946, с. 97), в Телль-Константине Хосрова встретили специальные посланники Маврикия — епископы Домициан Милитенский и Григорий Антиохийский, которые вместе с официальными переговорами об условиях помощи Ирану вели неофициальные беседы с шахом о религии.
В том же, 591 г. Хосров направляет золотой крест, захваченный в Византии его прадедом Кавадом, со своим посланием церкви св. Сергия в Русаре [Пигулевская, 1946, с. 100].
Большинство христиан в Иране были несторианами. В Иране, в частности, хранилась одна из самых почитаемых несторианских святынь — мощи пророка Даниила. По сообщению Себеоса [Себеос, XII, с. 44-45], они находились в Сузах, в царском казнохранилище, в медной раке. «Персы её называют Кав-Хосров»; такое название ей было дано, возможно, в честь Хосрова I, пожертвовавшего этому храму значительные суммы денег. Себеос пишет, что Маврикий просил Хосрова Парвиза вернуть в Византию эту святыню. «Царь Хосров приказал исполнить просьбу Маврикия... но вся страна собралась на этом месте, усиленной мольбой и слёзным плачем просила Христа не допускать этого». Попытку увоза сопровождали различные знамения. Святыня осталась в Иране.
Несторианской церкви в Иране широко покровительствовал и отец Хосрова, Хормизд, но при Хосрове, помимо этого, в Иране укрепляются и позиции монофизитского духовенства. Эти позиции усилила женитьба Хосрова на дочери Маврикия Марии: по приказу шаханшаха, например, и на государственные средства строятся три большие церкви, в которых служат епископы, состоявшие в его свите.
В дальнейшем покровительство монофизитам ещё бо-
(183/184)
лее усиливается — cкopee всего потому, что, готовя войну с Византией (после смерти Маврикия), Хосров рассчитывал и на широкую поддержку восточных христиан, которые не могли простить новому византийскому императору Фоке тех привилегий, которые он предоставил папскому престолу и халкедонитам.
Покровительство монофизитскому толку в Иране при Хосрове II (и только при нём) очень важно подчеркнуть. Монофизиткой была также и ещё одна жена Хосрова, царица цариц, «христианка из земли Хузистан по имени Ширин» [Себеос, XI, с. 43]. Для неё Хосров возвёл монастыри и церковь близ царского дворца. При церкви состояли многие священники, храмы были хорошо украшены, им выделялись специальные средства от казны, «евангелие божьего царства открыто проповедовалось при царском дворе, и никто из старших магов не смел открыть рта и сказать христианину какое-нибудь слово» [Себеос, XI, с. 44]. В день праздника Вербного воскресенья «христиане из монастыря Ширин и из других мест шли к дверям царского покоя, читали во время церковной службы евангелие, получали подарки от царя и уходили, и никто не осмеливался сказать им ни слова» [Себеос, XI, с. 44].
Согласно сирийскому анониму, по настоянию Хосрова, католикосом Ирана становится Григорий Форатский [Пигулевская, 1939, с. 67-68] — соотечественник Ширин, несмотря на желание всех несториан иметь своим патриархом Григория Кашкарского. Вскоре, впрочем, Григорий Форатский был смещён, поскольку был монофизитом, но после него интригами Ширин несторианская церковь оставалась вообще без главы.
Характерна история Гавриила Шигарского, личного врача Хосрова и Ширин, который был монофизитом, потом принял «ересь Нестория», потом вернулся «в лоно истинной церкви», т.е. стал снова монофизитом. Такая беспринципность вызвала много толков, к тому же Гавриила обвинили во взяточничестве, но Хосров решительно стал на его сторону, заявив при этом, что следует поощрять монофизитов.
Помимо уже упоминавшихся монастырей и церквей Агапий и анонимная сирийская хроника сообщают о строительстве в Бет Лашпар громадного храма в честь «девы Марии» [Пигулевская, 1946, с. 256], что представляется весьма интересным. И на византийских территориях после их захвата войсками Хосров всячески поощ-
(184/185)
рял монофизитский клир. Так, после взятия Эдессы населению этого города было предложено исповедовать или монофизитство, или несторианство, но никак не «халкидонитскую веру» — веру императора Ираклия [Пигулевская, 1946, с. 202].
Наконец, следует ещё раз вернуться к главному событию в этой области — к истории о захвате «священного древа распятия» во время взятия иранскими войсками Иерусалима в 614 г. Факты говорят о том, что захват этой святыни — не случайное событие, не просто военная добыча в числе любой другой, но вполне преднамеренный акт увоза реликвии. История эта отражена многими источниками, но наиболее подробно рассказана современником и участником событий — греком, монахом монастыря св. Саввы, Антиохом Стратигом. Полководец Хосрова Шахрвараз взял Иерусалим после двадцатидневной осады, ценой предательства. Город был разграблен и разрушен. Было уничтожено (по ряду независимых друг от друга источников) не менее 60 тысяч жителей. «Святой крест» по приказу Хосрова был взят в храме Гроба Господня так, как он хранился — в большом ящике. В «персидское пленение» вместе с ним отправился и иерусалимский патриарх Захарий, сопровождаемый многими монахами. До Вавилона пленные подвергались надругательствам, маги требовали, чтобы они попирали крест ногами, и, согласно Антиоху, многие предпочли истязания и поношения. Но так было только до Вавилона.
Туда двинулся «навстречу кресту» сам царь царей. По его приказу, с тем чтобы проверить святость креста, прямо перед этой священной реликвией («царь поставил крест перед собой») был устроен диспут между патриархом Захарием и «главным магом» о сущности веры. Антиох уверяет, что Захарий выиграл этот диспут, доказав, что зороастрийский жрец не может совершить чуда, и этот жрец был тут же казнён по приказу царя. «И с тех пор никто из них (неверных) не дерзал приблизиться к господнему кресту... так как от того, что совершилось, все были объяты страхом». Таков рассказ очевидца, нервный, экзальтированный, но верный в деталях — Антиох специально подчёркивает, что все это он видел сам, а о дальнейшем рассказывает с чужих слов, так как в ту же ночь ему удалось бежать.
Он рассказывает, что по просьбе жены Хосрова — «христианки, чтившей древо креста», эта святыня, всё ещё «запечатанная в ящик», была перенесена в церковь
(185/186)
рядом с дворцом царя, куда поместили и Захария, и остальных пленных христиан и «расточали им почести, дарили дары, жаловали в обилии ладан и свечи». Царь царей «почитал Захария, обращаясь к нему как к пророку».
Крест был возвращён уже после трагической смерти Хосрова тем самым полководцем, который уничтожил Иерусалим, — Шахрваразом. Это случилось в 631 г., 21 марта. Крест, «запечатанный по-прежнему в ящик, как он и был взят», был торжественно внесён в Иерусалим императором Ираклием.
Интересны сведения и ещё об одном диспуте в присутствии царя царей, происходившем между представителями всех основных толков христианства. О нём сообщают многие источники, но особенно подробно — Себеос [Себеос, XIV, с. 102-105].
После захвата Иерусалима «Хосров, сын Ормизда, приказал всем епископам стран Востока и Ассирии собраться в царский дворец. Он сказал: „Я слышу, что среди христиан две партии и одна предаёт анафеме другую, ибо считает её неправой. Пусть они соберутся все в царском дворце и установят правую веру и отвергнут ложную”». Расследованию должны были подвергаться лишь вероучения Никейского, Константинопольского, Эфесского и Халкедонского соборов. Арбитрами были выбраны царский врач — Гавриил Шигарский (в то время уже монофизит), патриарх Захарий и «много мудрецов, которые были приведены пленными из города Александрия». Хосров сам вмешивается в диспут, так сказать, с позиции «здравого смысла». Он полагает, что поскольку три монофизитских собора состоялись при трёх царях, а халкедонитский — только при одном, то «веление трёх царей кажется более верным, чем одного». Рассмотрев учение несториан, он вообще приказал удалить их с диспута. Окончательное решение спора Хосров оставил за патриархом Захарием и «мудрецом из Александрии», но сам недоумевал по поводу Халкедонского собора: «отчего те три собора не сказали два естества раздельно (речь идёт о божественной и человеческой сущности Христа. — В.Л.), как этот? Кажется, и нас следует разделить и сказать: два царя, а не один. Ибо и я из двух естеств, хотя бы от отца и матери, хотя бы из души и тела. Но божество, которое присутствует везде и не может стать тем, чем желает, или делать то, что желает, — какое это божество?»
По приказу Хоерова в царской сокровищнице отыс-
(186/187)
кали рукопись с изложением символа веры Никейского собора. «Это изложение веры было запечатано перстнями царя Кавата и его сына Хосрова... Копию истинного вероучения царь Хосров приказал запечатать своим перстнем и отдать в царскую казну на хранение». Себеос утверждает, что Хосров издал приказ о том, что все христиане в его государстве обязаны держаться именно этого символа. Этого придерживались «в Ассирийских странах митрополит Каминшов, и другие десять епископов, и боголюбивая царица Ширин, и храбрый Смбат (Багратуни), и главный врач».
А. Кристенсен, отмечая интерес Хосрова Парвиза к христианству, в своё время писал, что шаханшах прибавил к своим многочисленным суевериям ещё одно, ни в какой степени не нарушая своей верности зороастризму [Кристенсен, 1944, с. 482]. Однако хорошо известно, что с многочисленным христианским населением — ремесленниками, торговцами и т.д., чем дальше, тем больше приходилось считаться. Приходилось считаться и с христианской религией, учитывая политическое положение Ирана. Достаточно важным было утвердить своё отношение к христианству и потому, что вплоть до смерти Маврикия и восстания Фоки Византия была союзником Ирана, а затем, во время широкого завоевания, предпринятого Хосровом, необходимо было надолго укрепиться в завоёванных областях и в этих целях была неизбежной толерантность по крайней мере к монофизитству.
Нужно иметь в виду также и судьбу самого зороастризма. К концу сасанидского периода ортодоксальный зороастризм уже превратился в сухую догму с необычайно усложнёнными, регламентированными до мелочей обрядами — недаром именно при Хосрове II потребовалась новая редакция канона. Вместе с тем христианство, занимавшее вполне прочные позиции уже и в начале сасанидской истории, [13] в особенности усиливается к концу периода Сасанидов, удачно соперничая с зороастризмом. Исследователи отмечали и общую тенденцию к монотеизму, неизбежную в условиях новых форм общественных отношений, развивавшихся на Ближнем Востоке [Пигулевская, 1946, с. 234-248].
И все же идеология эпохи царствования Хосрова II представляет собой особый феномен, во многом окрашенный не общими причинами и следствиями, но событиями конкретной истории и, хочу повторить, его личной судьбой.
(187/188)
Как уже говорилось, в «Шах-наме» Хосров Парвиз не очень-то много рассуждает о зороастризме. Христианская пропаганда тоже не очень его затрагивает, и он придерживается «золотой середины» в религиозных спорах. В данном случае у Фирдоуси совершенно верно отражён основной принцип реальной политики Хосрова: status quo в религиозных вопросах. По Себеосу, Хосров... отдал приказ: «Никто из беззаконных (т.е. для Себеоса — зороастрийцев) да не осмелится перейти в христианство, и никто из христиан да не осмелится перейти в беззаконие; каждый обязан твёрдо держаться отцовской веры» [Себеос, XI, с. 44]. [14] Для Фирдоуси это одна из определяющих черт характера Хосрова Парвиза. Другая черта — любовь к роскоши, и прежде всего к роскоши в «западном» (византийском) духе. Он заворожён западной культурой, в особенности архитектурой, и всячески старается ей подражать. Воистину он «пайгамбар веры Зардушта, хотя и имеет связи с кесарем».
Строительство эпохи Хосрова II. ^
Хосров в поэме строит множество роскошных дворцов и замков. Во многих случаях его архитекторы, декораторы, советники приглашены из Рума. Вот, например, описание строительства знаменитого «Айван-и Хосров» (комплекс Так-и Бостан): «Хосров послал людей в Рум, Индию, Китай и другие страны. И собралось три тысячи мастеров... Из них, из каждого, кто был искусным мастером, чьё сердце знало всё о кирпиче и ганче, сначала выбрали сотню румийцев, иранцев, из Ахваза и других стран, из них — тридцать мастеров, а из этих тридцати — двух румийцев и двух из Парса, а перед царём предстал самый главный мастер, румиец, который знал персидский язык» [Шах-наме, т. 9, 3687 и ел.].
Все эти упоминания роскошных дворцов и сокровищ, таких, как Тагдиз — «Трон Хосрова» (по описаниям — нечто вроде планетария), Айван-и Хосров, таинственные редкости Гандж-и Хазры, Гандж-и Сухте, Гандж-и Арус, входящего в число царских «сокровищ» архитектора-румийца, коня Хосрова — Шабдеза и др., вероятнее всего, заимствованы из «Большой Шах-наме», где содержались выдержки из так называемой «Парвиз-наме», пехлевийского сочинения, посвящённого диковинкам дворца Хосрова. Это сочинение знают и другие арабо-персидские
(188/189)
историки. Так, анонимный автор «Муджмал ат-тайарйх ва-л-кисас» (начало XII в.) пишет. «И было у него (Хосрова Парвиза.— В.Л.) 18 тысяч коней в конюшнях, и среди них — особенные, подобные Шабдезу, тому, изображение которого высечено в камне у города Керман-шаха, около деревни, которую называют Бастам (т.е. Так-и Бостан. — В.Л.) ... В „Парвиз-наме” я читал, что эти изображения в камне высек Китус, сын Сам-сара, румиец: он же построил Седир и Хаварнаг, [15] а приказал ему и другим мастерам [сделать это] Фархад, сепахбед.
И по приказу Хосрова здесь над источником был возведён айван и замок над этими каменными изображениями, и до сих пор он стоит на месте. И там шах пил вино со своими вельможами... и там изображения Парвиза, Шабдеза, Ширин и охотничьего парадиза — всё в камне» [Муджмал ат-таварих].
Об особом интересе Хосрова к западной архитектуре известно и по другим источникам. Издавая грузинский вариант Антиоха Стратига, Н.Я. Марр писал: «Историк искусства, в частности архитектуры, несомненно обратит внимание на то, с какой заботливостью персы брали к себе на родину мастеров — зодчих из Иерусалима: заявлением о своём ремесле зодчие спасали себе жизнь» [Марр, 1909, с. 5]. В «Пленении Иерусалима» Антиох пишет о том, что персы, захватив город, вывезли из церквей многие мраморные колонны. То же — у Михаила Сирийца: «Они вывезли в персидскую землю рабов, всякого рода имущество, даже колонны из мрамора и великое множество [мраморных] плит доставили они в Персию из Романии, Сирии и прочих западных областей» [Михаил Сириец, с. 360; Пигулевская, 1946, с. 266]. То же в «Анонимной сирийской хронике»: «Какой грабёж! Какой захват! ...Какие тяжкие подати! Сколько отправлено в персидские пределы камней, плит, мраморных колонн из церквей, тюков золота и серебра!» [Пигулевская, 1946, с. 266]. Такие сообщения есть и в других источниках.
Архитектурные сооружения времени Хосрова II действительно резко отличаются от тех, что строили в Иране до него. В его эпоху грандиозные постройки возводятся прежде всего в районе Керманшаха и Бехистуна. Это хорошо известный парадиз Так-и Бостан с его колоссальной нишей (айваном) и знаменитыми рельефами; [16] сравнительно менее известный большой дворец рядом с Бехистуном [Лушей, 1968, с. 129-142, ил. 1, табл. 51, 52],
(189/190)
так называемая Терраса Хосрова [Трюмпельман, 1968, с. 11-17], Тахт-и Нешин в Фирузабаде. [17]
«Старый Караван-сарай» у Бехистуна, «Терраса Хосрова», Тахт-и Нешин и некоторые другие архитектурные памятники того же времени возводились на грандиозных платформах из больших каменных квадратов со своеобразной рустовкой, которые слишком напоминают знаменитую персепольскую. О том, что такие постройки принадлежат именно Хосрову II, знала и арабо-персидская традиция. Так, например, Ибн ал-Факих, описывая «Дуккан Хосрова» в районе Керманшаха, украшенный изображениями «Факфура, царя Чина, Хакана, царя тюрок, Дахара, царя Индии, кесаря, царя Рума, и Хосрова Парвиза», особо указывает на то, что дуккан стоял на каменном подиуме, сложенном из камней [Ибн ал-Факих, с. 215, 15].
Эта особенность архитектурных сооружений времени Хосрова II впечатляет при посещении знаменитого храма Анахиты в Кангаваре, расположенном недалеко от Керманшаха. [18]
Раскопки этого комплекса, проведённые в 1972-1977 гг. иранской археологической экспедицией совместно с итальянскими реставраторами, заставили отказаться от старого плана реконструкции храма, предложенного еще в 40-х гг. XIX в. Е. Фланденом и П. Костом и использовавшегося во всех работах вплоть до недавнего времени. [19]
Оказалось, что колонн, образующих перистиль по всем сторонам гигантской платформы (230х200 м), не три ряда, как это предполагала старая реконструкция, а значительно меньше (во всяком случае, на южной и восточной сторонах): в исследованной части приблизительно до половины платформы по 24 колонны в один ряд. У южной стены в центре археологами была открыта каменная лестница, которая двумя маршами (по 26 ступеней в марше, высота ступеней — 15 см, ширина около 33 см) вела на платформу. Холм в северо-восточной части ещё не раскопан полностью, но уже сейчас ясно, что здание, которое под ним скрывается, — совсем иное по плану, чем предполагали ранее. Наконец, восстановленные от базы до капители колонны оказались не имеющими ничего общего с любыми из классических ордеров. Колонны приземисты и массивны: при высоте в 3,45 м их толщина — более 1,5 м (размер интерколумниев везде стандартен: 4.75 м). Реконструкция платформы ещё да-
(190/191)
леко не завершена; по существующим предположениям, она, возможно, была ступенчатой, и здание храма находилось в восточной части. Но при расчистке квадров, вывалившихся с разных сторон платформы, в том числе и в районе лестницы (в одном случае — даже квадра, на котором некогда стояла одна из колонн), были обнаружены многочисленные тамги, знаки и надписи, нанесённые на задние, необработанные стороны квадров. Количество надписей возросло уже до трёх десятков. Все они выполнены позднесасанидским письмом и представляют в подавляющем большинстве рабочие пометки мастеров-каменотёсов (типа «верхний камень», «убрать слой камня», «отверстие» и т.д.). Чтение части этих надписей уже было опубликовано. [20]
Итак, тамги, знаки и строительные пометки, относящиеся к позднесасанидской эпохе, позволяют утверждать, что и вся грандиозная платформа Кангавара, и колонны, возведённые на ней, и лестница, ведущая на платформу, — всё это должно быть отнесено к позднесасанидскому периоду. Трудно предполагать, что поздне-сасанидские строители использовали при этом более старые блоки, реставрируя, положим, платформу парфянского или раннесасанидского времени. Этому как будто бы противоречат и приёмы обработки внешней поверхности блоков (см. ниже). На одном из блоков платформы «Старого Караван-сарая» у Бехистуна в 1975 г. мне к тому же удалось обнаружить точно такую же тамгу, как и на блоке из Кангавара. Этому противоречит и то обстоятельство, что камней с пометами на обороте (найдены по всей платформе) слишком много, чтобы думать о частичной реконструкции, и то, что аналогичные пометы есть, кажется, на полуобработанных блоках каменоломни недалеко от Кангавара, откуда строители брали камень для платформы и для колонн (устное сообщение С. Камбахшфарда).
Наиболее вероятной датой этого строительства должно быть время Хосрова II. Во всяком случае, дворец у Бехистуна («Старый Караван-сарай») относится к этому времени, поскольку здесь находились капители колонн с изображением Хосрова II (о них далее). «Терраса Хосрова», расположенная также неподалёку, связывается с этой эпохой не только строительными приёмами возведения платформы и способом обработки квадров, но и по письменным источникам. Платформа в Фирузабаде (Тахт-и Нешин), имеющая ндентичные кон-
(191/192)
структивные особенности, датируется по аналогии с этими двумя. Иных платформ сасанидского времени в Иране не обнаружено. [21] Да и сам облик платформы с колоннадой живо напоминает сведения из источников о строительстве из камня в эту эпоху, которые приводились выше.
Дукт надписей этой дате не противоречит, но в них пока нет точных дат (лишь в одном случае [Камбахшфард, 1968, рис. 4, верхняя строка] — возможно, начало даты: štrywr — шестой месяц иранского года).
Однако в I в. н.э. на этом месте, бесспорно, находился храм, посвященный богине Анахите. Об этом упоминается в итинерарии Исидора Харакского (Λρτεμιυος ίερουв местности Κοδκοβαρ).
Возможно, он же упоминается и в III в. в надписях магупата Картира, который сообщает, что шаханшах Варахран II назначил его «адвенпатом» (распорядителем средств, передаваемых храмам «по обычаю») и владыкой храма Анахиты Арташир (этот храм находился в Истахре, в Фарсе) и храма «Анахиты-госпожи» (’nhyt ZY MRWT’) [Луконин, 1969а, с. 87] — храма в Кангаваре?
Хосров II и Анахита. ^
С Анахитой уже несомненно эпохи Хосрова II мы встречаемся и на нескольких мраморных капителях, обнаруженных в районе Бехистуна [22] и, как полагают, происходящих с территории дворца Хосрова II. Две стороны этих трапециевидных капителей заняты растительным орнаментом, напоминающим орнаменты большой ниши Так-и Бостана, а на двух других — шаханшах Хосров II и Анахита в инсигниях царицы цариц с «венцом власти» в руке (таким же, как у бога Ахурамазды на раннесасанидских рельефах). Перед нами, таким образом, инвеститурная композиция — сцена «венчания на царство» Хосрова II богиней Анахитой.
Форма этих капителей необычна для Ирана. Ими подробно занимался X. Лушей [1968, с. 129-142, табл. 53], приведший наиболее близкие аналогии в Византии (капители стамбульского Археологического музея начала VI в., Сан Марко — VII в., «константинопольская капитель» с именем императора Ираклия и ряд других). Похожие по форме и растительному орнаменту капители
(192/193)
изображены и в скульптурной орнаментации большой ниши Так-и Бостана [Фукаи-Хоручи, 1972, т. II, табл. LVII-LXII]. Известны еще несколько капителей такой же формы, происходящих из различных районов Ирана (в частности, и из района Керманшаха), но только с орнаментальными мотивами.
Та же инвеститурная сцена (венчание Хосрова II богиней Анахитой) изображена и на хорошо известном рельефе Хосрова II в большой нише Так-и Бостана. Анахита и здесь вручает ему венец власти.
Только при Хосрове II выпускается серия драхм, оборотную сторону которых занимает совеошенно необычное для сасанидской нумизматики изображение [Херцфельд, 1938а, с. 140-158, табл. VI; Гёбль, 1971, табл. 14, № 216-219]. Это опять богиня Анахита, с теми же иконографическими деталями, как и на капителях. Наиболее ранняя из этих монет, известных сейчас, имеет дату 610 г. На этих монетах, кроме того, появляются (в легенде оборотной стороны) и новые титулы царя царей: ’yl’n ’pzwt’nyt — «увеличивающий [славу] Ирана», ’yl’n ’pybym kltl — «избавляющий Иран от страха [перед врагами]» (или gyh’n ’pybym kltl — «избавляющий мир от страха»), т.е. титулатура, никак не связанная с зороастрийскими религиозными концепциями власти шаханшаха (как на монетах предыдущих правителей), но подчёркивающая политическое значение этой власти. Интересно, что те же титулы Хосрова II упоминает вступление к деяниям христианского собора 596 г.: «царь царей, победоносный (pyrwč = Парвиз), умиротворяющий страны» (gyh’n ’pybym kltl).
Итак, широкое строительство, которое предпринимает Хосров II и которое сосредоточено в основном в районе Керманшаха и Бехистуна, т.е. на главнейшем пути, связывающем Иран с Западом, решительно отличается от всего того, что строили до него иранские владыки. Прежде всего это строительство престижных монументов: храма Анахиты в Кангаваре, громадного дворца у Бехистуна, [23] ещё одного дворца у Керманшаха, царского парадиза, сочетающего в себе охотничий парк и инвеститурные рельефы, в Так-и Бостане. Большинство из них возводится на каменных платформах с лестницами — напоминание о развалинах Персеполя, который уже в позднесасанидское время, возможно, носил название «Тахт-и Джамшид» («трон Джамшида») и воспринимался как дворец основателя древнейшей дина-
(193/194)
стии Пишдадидов, создателя цивилизации и культуры в мире (к нему, согласно позднесасанидским генеалогиям, возводил свой род и Хосров II). Все эти памятники (это, пожалуй, их самая характерная особенность) имеют яркие черты «западного стиля». Это, прежде всего, многочисленные колонны. Нужно, правда, иметь в виду, что остатки колонн ападаны и стоколонного зала стояли тогда и в Персеполе (второе сасанидское название Персеполя или, скорее, только ападаны: st stwny — «сто колонн» <Pers. I, строка 2>), но колоннады совершенно не употреблялись в иранском строительстве в течение всего сасанидского периода до эпохи Хосрова II. О стремлении Хосрова II украсить свои дворцы каменными колоннами и плитами можно заключить из уже приводившихся выше письменных источников — иначе зачем было вывозить всё это «из Романии (Малой Азии), Сирии и прочих западных областей»? В «западном стиле» исполнена также орнаментация этих памятников — не только пышные растительные мотивы на колоннах и стенах большой ниши Так-и Бостана, но и оформление всей ниши, в особенности крылатые богини, изображённые на верху арки [Фукай — Хориучи, 1972, т. I, табл. XVI-XXIV]. Их западный облик, близость к современным им византийским памятникам подчёркиваются во многих работах [Пек, 1969, с. 105].
Ещё одна черта этих величественных монументов — присутствие в них изображений богини Анахиты. Эта династийная богиня была чрезвычайно популярна в первое столетие существования державы Сасанидов [Шомон, 1964, с. 167-181; Луконин, 1969а, с. 63-65]. Но уже при Картире и Варахране II (70-90-е гг. III в.) она теряет свой престиж как родовая богиня династии, во всяком случае, её храмы переходят в ведение верховного жреца. С бесспорно легитимистскими целями повелевает её вновь изобразить Нарсе на своем инвеститурном рельефе в Накш-и Рустаме (после 293 г.), и это — её последнее официальное изображение. С тех пор и вплоть до времени Хосрова II, т.е. в течение трёхсот лет, Анахиту не изображали на официальных памятниках. Не исключено, конечно, что обращение Хосрова II к покровительству богини Анахиты было связано с подчёркиванием законности его притязаний на престол Ирана в период борьбы за власть сначала с Бахрамом Чубином, а затем и с Вистахмом (Вистам). Во всяком случае, так можно интерпретировать инвеститурную сцену рельефа Так-и
(194/195)
Бостана, где Хосров II изображён в короне, напоминающей корону Пероза (еще одна легитимистская деталь, помимо «филологической игры» Пероз — Парвиз; на монетах такая корона Хосрова II не изображалась [24]). Но зачем понадобилось подчёркивать это в дальнейшем, например, на специальной серии монет (последние монеты этой серии датируются концом царствования Хосрова II), зачем нужно было изображать эту богиню в инвеститурной сцене на капителях его дворца у Бехистуна, причём и в этом и в другом случае — в новом иконографическом варианте, в инсигниях царицы цариц (то же иконографическое отождествление: Анахита — царица цариц, имело место и в раннесасанидский период), зачем, наконец, нужно было строить или, во всяком случае, проводить генеральную реконструкцию её древнего храма в Кангаваре? Этот храм, как говорилось, был построен не только непохожим, но резко контрастирующим с обычной архитектурой зороастрийских храмов. Зачем, наконец, весь этот «западный стиль»?
Кувшин из Слудки. ^
Быть может, ещё с одним изображением богини Анахиты эпохи Хосрова II мы встречаемся на самом первом из найденных на территории нашей страны сасанидском серебряном кувшине. Его история такова: кувшин был найден случайно в 1750 г. у дер. Слудка Пермской обл. во время вспашки поля крестьянином, задевшим сосуд плугом (стенка при этом проломилась). Земли принадлежали барону Строганову, и, будучи в Париже, он показал сосуд президенту французской Академии надписей де Броссу, который издал его в 1755 г. [25] В собрании Строгановых сохранился рисунок сосуда (сейчас он находится в Отделе Востока Эрмитажа), выполненный художником Императорской Археологической комиссии И.Н. Медведевым не по подлиннику, а либо по гравюре Е. Хоссара, воспроизведённой в издании де Бросса, либо по какому-то иному, не сохранившемуся рисунку.
Кувшин, или присланный де Броссу в Париж для издания, или вывезенный в 80-х гг. XVIII в. сыном Строганова Павлом (тот жил в Париже со своим наставником, впоследствии известным якобинцем и членом Конвента Шарлем Жильбером Роммо), тогда же пропал, поскольку переиздававший его в 1803 г. X. Келер писал: «...кувшин этот давно исчез, есть только рисунок у де Бросса,
(195/196)
точно воспроизводящий сосуд». [26] Рисунок И.Н. Медведева воспроизвёл Я.И. Смирнов [1909, табл. XI, 79].
Судя по рисунку, на кувшине были два (?) овальных медальона, образованных аркой с колоннами. На арке — ряды птиц, ствол колонны орнаментирован виноградной лозой, капители — в виде обнажённых младенцев, стоящих на одном колене и поддерживающих руками арку.
В медальоне женская фигура в фас, в инсигниях царицы цариц с нимбом и царскими лентами. На ней узорчатое («звёздное») облегающее платье и плащ. Под обнажёнными ногами, на которых надеты браслеты, орнаментированное подножие, под которым — два павлина встречно. В одной руке женщины — птица (на рисунке похожая на попугая), другой она держит в руке обнажённого ребенка. Слева от центральной фигуры — ещё один обнажённый ребенок с овцой на плечах («мосхофор»), под базами колонн — обращённые вправо и влево фигурки обнажённых детей. Горло и высокая ножка орнаментированы гравировкой волнистыми линиями, фон сосуда позолочен.
Памятник этот принадлежит к обширной группе сосудов для вина или воды (не менее двух десятков) [27] — в основном бутылям с высоким горлом и небольшим круглым поддоном.
В этой группе только два кувшина с ручкой, прикреплённой к тулову, высоким горлом и длинным сливом, точно таких же, как и золотой неорнаментированный кувшин из Перещепинского клада и эрмитажный кувшин с Сенмурвом [Орбели — Тревер, 1935, табл. 14], — это строгановский кувшин и кувшин музея Метрополитен. [28]
На всех сосудах этой группы изображены женщины, обнажённые или в лёгких накидках, почти всегда (за исключением строгановского кувшина) группами от четырёх до шести, с различными атрибутами в обеих руках. Форма бутылей не специфична именно для этой группы: известны многочисленные серебряные сосуды той же формы, но с иными изображениями. К этой группе принадлежит и блюдо из Национальной библиотеки в Париже. [29]
Строгановский кувшин сближается с метрополитенским не только по форме, но и по некоторым деталям орнаментации, в особенности архитектурного орнамента, хотя на сосудах и разные капители колонн (на метрополитенском кувшине в виде двух листов аканфа с трилистником между ними, [30] на строгановском — обнажённые
(196/197)
младенцы, атланты или кариатиды); другие сходные ты будут указаны ниже.
Отличие строгановского кувшина от всех остальных сосудов этой серии в том, что (если судить по сохранившемуся рисунку, воспроизводящему этот сосуд только с одной стороны) на каждой стороне — лишь одно изображение женской фигуры в одежде. Необычны и атрибуты: у ног женщины — два павлина (из всей группы — только на этом сосуде), она держит в руке голого ребёнка — этот атрибут встречается редко, на эрмитажных сосудах — только один раз [31] (возможно, и эта черта сближает по дате все три памятника: строгановский и метрополитенский кувшины и эрмитажную бутыль). Уникальным является также и изображение мосхофора. Судя по рисунку, горло строгановского кувшина орнаментировано волнистым рифлением, что не характерно для сасанидской торевтики, но известно на западных образцах (об исключениях см. ниже).
Сосудам этой группы посвящена многочисленная литература. Уже давно никем не разделяется идея об их принадлежности Средней Азии. [32] Недавно подверглась резкой критике и идея о том, что на этих сосудах представлены или различные ипостаси богини Анахиты, или жрецы этой богини. [33] Следует отметить, что иконография строгановского кувшина, насколько мне известно, никогда не привлекалась участниками дискуссии. Бесспорным для всех учёных сейчас является «дионисийский фон» и главных персонажей сцен этих сосудов, и большинства их атрибутов. [34] Источник или прототипы иконографии выводятся в основном с Запада, более конкретно (не только основа, но и большинство специфических деталей, элементы которых, кроме как на этой группе, в большинстве неизвестны или несвойственны сасанидскому искусству) — из изображений Месяцев и Времён года на позднеримских саркофагах (например, на бадминтонском саркофаге III в. из музея Метрополитен), на мозаиках конца II в. из Антиохии, IV в. из Карфагена и т.д. [35]
Р. Эттингхаузен полагал, что такие изображения на сосудах для вина появились с иранскими религиозными культами дионисийского облика (например, культы, связанные с празднованием Михрагана [Луконин, 1977, с. 160-161]). П. Харпер, отказавшись от интерпретации сюжетов этих сосудов, всё же предполагает, что, поскольку базой для создания их иконографии были изображе-
(197/198)
ния Месяцев и Времён года, сходное значение могло сохраняться за этими изображениями и в сасанидском Иране. [36] Ж. Дюшен-Гиймен считает эти изображения фигурами нимф, тесно, впрочем, связанных с дионисийскими культами, а их появление на сасанидской почве — просто художественной репродукцией различных западных мотивов, хорошо известных сасанидским художникам, которые могли быть введены в иранское искусство, например, по каким-то политическим мотивам, [37] и, возможно, ассоциирующихся с придворной поэзией, но никак не имевших какой-либо зороастрийской интерпретации [Дюшен-Гиймен, 1974, с. 154].
Основными аргументами для такого решительного заявления для Ж. Дюшен-Гиймена [38] являются лишь два; многочисленность фигур на одном и том же сосуде (от четырёх до шести) и то, что фигуры изображены обнажёнными или полуобнажёнными, тогда как в Авесте (Абан-Яшт) помимо описания короны и украшений Анахиты описываются также платье, туфли, меховая накидка (в одежде Анахита изображена и на двух сасанидских рельефах — в Так-и Бостане и Накш-и Рустаме; правда, в обоих случаях мы имеем дело с официальной иконографией).
Что касается первого аргумента, то он снимается тем фактом, что в сасанидском искусстве хорошо известен и очень распространён принцип повторения одной и той же фигуры (в разных ситуациях) в одной и той же композиции [Луконин, 1977, с. 186-189], и размещение повторяющихся фигур на круглом сосуде могло, таким образом, быть всего лишь изображением одной фигуры, но с разными атрибутами в руках.
В своей первой статье, посвященной зороастрийской интерпретации некоторых памятников искусства Сасанидов, Ж. Дюшен-Гиймен настаивал на отсутствии в Иране того времени (на основании сохранившихся религиозных текстов) каких-то культов плодородия «более или менее эротического характера» [Дюшен-Гиймен, 1974]. Но вряд ли здесь можно высказать что-либо определённое, поскольку по многочисленным примерам известна разница между ортодоксальным культом и ортопраксией, с одной стороны, и древними ритуалами — с другой. То же касается и изображений на предметах, участвовавших в таких ритуалах, в частности серебряных сосудах для вина. [39] Эти изображения могли далеко отстоять от официального канона и, как в данном случае,
(198/199)
зависеть преимущественно от заимствованного для них прототипа (западных изображений нимф, или менад и вакханок, или, наконец, Времён года).
Мне представляется, что в настоящее время никакую из интерпретаций, предложенных для этих изображений, нельзя ни строго доказать, ни хотя бы строго опровергнуть, быть может, как раз потому, что подобные сосуды могли использоваться, положим, во время ритуалов всех шести гахамбаров — основных праздников зороастрийской религии, связанных с календарём, и именно потому не иметь стойкой иконографии. Сейчас с достоверностью можно лишь сказать о западном прототипе этих изображений.
Все сосуды этой группы учёные единодушно датируют V-VII вв., и пока, насколько известно, не существует возможности сузить эти даты.
Впрочем, метрополитенский кувшин, к которому близок строгановский, быть может, имеет несколько деталей, дающих основание для более поздней датировки (VI или VII в.). Сосуд в руках одной из фигур — реплика кувшина в руке богини Анахиты на рельефе Так-и Бостана, как и там, он, кстати, тоже имеет волнистое рифление. О поздней дате говорят и орнаментированное ведёрко в руке другой фигуры (ср. с аналогичным предметом на явно позднем блюде из Национальной библиотеки в Париже), и сравнительно поздний тип причёски. [40] Строгановский кувшин, конечно, невозможно определённо датировать, ведь сохранился только рисунок. Следует повторить, что, бесспорно входя в описанную группу, он, вместе с тем уникален по своей композиции. Фигура, изображённая на нём, вполне может быть Анахитой даже с ригористической точки зрения — она одна, она одета, её инсигнии — инсигнии царицы цариц или богини Анахиты, такие же, как на капителях из Бехистуна. Атрибуты на сосуде также, как говорилось выше, уникальны пли чрезвычайно редки — мосхофор, два павлина, обнажённый ребёнок, которого женщина держит за руку.
Особенно интересны заключения П. Харпер о прототипах изображений этой группы. В качестве наиболее близкого примера П. Харпер приводит бадминтонский саркофаг. На нём, в частности, мы видим и мосхофора — обнажённую фигуру юноши с козлёнком на плечах [Харпер, 1971, табл. IV, рис. 2]. Между этим изображением и строгановским кувшином помимо всего остального боль-
(199/200)
шой разрыв во времени — не менее двухсот лет, даже если датировать кувшин V в. Но к V в. н.э. юноша с козлом или овцой за плечами — это уже давно «Добрый пастырь» (в западном искусстве — только «Добрый пастырь»).
В это время уже и павлины стали христианским символом. Что касается изображения младенца, то, например, Дж. Лернер, подробно изучая сасанидские печати с христианскими сюжетами, настаивает на том, что сравнительно часто встречающиеся на этих печатях изображения женщин с младенцем следует интерпретировать как изображение Марии и Христа [Лернер, 1977]. Не слишком ли много христианских символов на одном сосуде? Здесь, конечно, одна гипотеза наслаивается на другую. Нельзя решительно настаивать, что строгановский кувшин относится к концу сасанидского периода, тем более ко времени Хосрова II. Нельзя настаивать, что изображенная на нём женщина — это богиня Анахита. Нельзя, наконец, настаивать, что все символы и атрибуты этого изображения — христианские, и, таким образом, перед нами, возможно, синкретический образ Анахиты — Девы Марии.
Однако в таком предположении нет и ничего невероятного. Нужно, видимо, представить себе, каковы были культовые символы и изображения, использовавшиеся в среде христиан в сасанидском Иране, ответить на вопрос, какими конкретными данными мы располагаем, чтобы утверждать, что стандартные сасанидские изображения реинтерпретировались как христианские или превращались в христианские. Процесс такого превращения хорошо изучен в сасанидской глиптике. Глиптика — материал, по своей массовости сравнимый с монетами, как раз намечает те рамки, в которых развивалась христианская иконография в Иране в позднесасанидскую эпоху. Как это будет показано ниже, иконография строгановского кувшина в эти рамки вполне укладывается.
А.Я. Борисов обратил внимание на некоторые из таких изображений: [41] кресты, сюжеты «Даниил во рву львином» и «Жертвоприношение Авраама». В ряде случаев печати с такими сюжетами снабжаются среднеперсидскими надписями, среди которых и зороастрийские теофорные имена, и даже зороастрийская религиозная формула ’pstn ‛L yzd’n («упование на язатов»). Такие печати известны во множестве, но все они (судя по изданным экземплярам) и по стилю (преимущественно —
(200/201)
«штриховая манера»), и по дукту надписей датируются позднесасанидским периодом.
К этим сюжетам Дж. Лернер [1977, с. 8, табл. 1] прибавила редкие экземпляры печатей со сценой въезда Христа в Иерусалим и интересную печать из собрания отдела средневековья Британского музея, на которой изображены два коленопреклонённых перед крестом ангела с венцом в руках. Отмечая необычность для византийского искусства изображений ангелов с венцом в руках перед крестом, Д. Лернер сравнивает печать с крылатыми Никами большой ниши Так-и Бостана. Крест на печати показан водружённым на платформу так, как он изображался на монетах императора Ираклия. [42] Д. Лернер полагает, что имеется в виду мемориальный крест, водруженный на Голгофе Феодосией II, но не исключено, что это — прославление «священного древа», и печать, таким образом, получает вполне точную дату. Среднеперсидская надпись на печати содержит имя ’prhm gbl’n «Враам, сын Габра (?)». [43] Д. Лернер, как говорилось выше, считает, что на ряде сасанидских печатей, на которых представлена женская фигура с ребёнком на коленях, тоже изображена Дева Мария с Христом. Кроме того, существует немало печатей с обычными сасанидскими сюжетами, но с добавлением креста. [44]
Рассмотрение всех этих печатей с очевидностью свидетельствует, что в сасанидской глиптике не существовало какого-то отдельного христианского направления, — одни и те же резчики печатей, используя одни и те же каноны, могли превратить зороастрийскую композицию в типично христианскую. Так, например, в сасанидской глиптике распространён сюжет жреца с барсомом в руках, стоящего перед алтарем огня [Борисов — Луконин, 1963, табл. VI, № 152; Бивар, 1969, табл. 5, 1, 3, 4; Жинью, 1978, табл. XXII, 6, 86]. На некоторых печатях в руке жреца вместо барсома изображается крест, на других — крест помещается на алтаре, заменяя языки пламени [Бивар, 1969, табл. 5, 1-3]. Несколько более сложная, но тоже типично зороастрийская композиция: жрец перед алтарём огня, а за ним — изображение барана (жертва храму) [Борисов — Луконин, 1963, табл. VII, № 156; Бивар, 1969, табл. 5, 16; табл. 8, CG 3]. Уже это изображение, снабжённое крестом, могло быть истолковано как «Жертвоприношение Авраама». В этой же сцене появляется схематическое изображение человеческой
(201/202)
фигуры на алтаре (вместо языков пламени), и в таком случае перед нами уже почти полная иллюстрация ветхозаветного сюжета: есть и овечка в кустах, и Исаак на алтаре, да и нож в руке Авраама — бывший барсом [Борисов — Луконин, 1963, табл. VII, № 154; Жинью, 1978, табл. XI, 4, 43]. Сасанидские печати с вариантами этого сюжета, выстроенные в один ряд, показывают, с какой лёгкостью, используя стандартные композиции и незначительные добавления, мастер трансформирует чисто зороастрийский сюжет в чисто христианский [Гёбль, 1978]. То же можно сказать и о печатях с сюжетом «Даниил во рву львином»: к стандартной для сасанидской глиптики, еще древневосточной композиции «царь или герой сражается со вздыбившимся львом» [Бивар, 1969, табл. 8, СД 1, 2] достаточно было прибавить второго льва ([Борисов — Луконин, 1963, табл. VII, № 188-189] — на последней в руках Даниила кресты). При этом, как уже говорилось, независимо от сюжета, резчик мог вырезать на печати привычную ему, уже вошедшую в глиптический канон зороастрийскую религиозную формулу. Другим, столь же ярким примером приспособления канонической иконографии зороастрийских божеств к божествам иной религии являются сасанидо-кушанские монеты. Наконец, следует напомнить, что та же Анахита изображалась у Сасанидов с инсигниями царицы цариц и лишь её место в композиции и контекст дают возможность судить, кто же — богиня или царица — имелась в виду. Хороший пример — серия монет шаханшаха Варахрана II, где на лицевой стороне представлены портреты самого Варахрана и его старшей жены, царицы цариц Шапурдухтак, а на обороте — инвеститурная сцена, где у алтаря огня Варахрана венчает на власть богиня Анахита, изображённая с теми же инсигниями, что и Шапурдухтак [Луконин, 1979, с. 39-58].
Реинтерпретация в христианском духе не только зороастрийских изображений, но даже и легенды об основании одной из главнейших зороастрийских святынь — храма Атур Гушнасп в Тахт-и Сулеймане, построенного при Хосрове I и особо почитаемого всеми последующими сасанидскими шаханшахами (по Фирдоуси, туда совершает паломничество и Хосров Парвиз), отражена в так называемом Втором рисале Абу Дулафа (середина Х в.) [Минорский, 1952, с. 172-175].
Посетив Шиз — место, где находился Атур Гушнасп, Абу Дулаф сообщает, что город этот основал некий Хур-
(202/203)
муз ибн Хосров-шир ибн Бахрам, и далее он рассказывает: когда царя Персии Хурмуза «достигло известие, что благословенное дитя родится в Иерусалиме, в деревне, называемой Вифлеем» и что дарами ему должны быть мирра, масло и ладан, он послал специального посланника с этими дарами, чтобы вручить их его матери и «испросить благословения этого родившегося дитя на свою страну и свой народ». Мария дала послу мешок с землёй и сказала, что на этой земле будет основан город. Посол Хурмуза дошёл лишь до местности Шиз, где умер, но перед смертью просыпал из мешка землю, которую дала ему Мария. Когда Хурмуз узнал об этом, он послал людей, чтобы на этом месте они выстроили храм огня. На вопрос о том, как они узнают это место, Хурмуз ответил: «Идите, от вас оно не скроется», и действительно, ночью посланец Хурмуза увидел яркий свет, исходящий из той земли, которую дала Мария. «И он подошел ближе, и очертил кругом тот огонь, и провёл там ночь. А на утро он приказал, чтобы на этом месте начали строить здание в этом круге, и это был храм огня Шиза» [45] (Атур Гушнасп).
В. Минорский, отмечая, что и сама история, и имя царя Персии — Хурмузд вполне соответствуют тому, что рассказывается в христианском сирийском памятнике «Пещера сокровищ» (VI — начало VII в.; там один из магов, пришедший в Вифлеем, назван «Хормиздад, царь Персии, который носил титул царя царей и чья резиденция находилась в Адхорвигане» — Атурпатакане), полагает, что Абу Дулаф излагает здесь стойкую традицию.
Нужно сказать, что для проникновения даже в догматику зороастризма христианских идей всё же имелась если и не приоткрытая дверь, то по крайней мере — узкая щель: Егише (II, 29), излагая содержание ответа армянских христиан на письмо Михр-Нарсе (вазург-фраматара при Бахраме Гуре, Ездигерде II и Перозе), приводит из него следующую цитату: «В прежние времена некто из могпетов, который был совершенен в вашей (зороастрийской) вере, и вы его почитали стоящим выше человеческой природы, уверовал в бога живого [Иисуса Христа]». Речь идёт, несомненно, о Мани и его учении. [46]
Учитывая всё это, разве не достаточно нескольких явно христианских изображений, чтобы превратить Анахиту в Деву Марию, во всяком случае, для заказчика (или заказчицы?) строгановского кувшина?
Итак, отношение Хосрова II к христианству, или, го-
(203/204)
воря более обобщённо, религиозная политика этого монарха, рассмотрено как бы с четырёх сторон. Арабо-персидская традиция не сохранила ясных свидетельств ни о каких существенных идеологических переменах, оставив лишь в качестве одной из отличительных черт царствования этого монарха его повышенный интерес к западным (византийским) культурным достижениям. Современные событиям христианские источники, наоборот, представляют этого монаоха не только толерантным к христианам в Иране, но и временами (в некоторых источниках) чуть ли не христианином по вере или, во всяком случае, царём, оказывавшим христианской церкви громадную поддержку даже в противовес зороастрийскому жречеству. У Фирдоуси обе эти черты сведены воедино, и Хосров предстаёт перед нами «пророком веры Заратуштра», однако с ярко выраженными симпатиями если не к христианству как к религии, то к отдельным христианам: он предстаёт перед нами владыкой, который может и ослабить узду в какой-то момент, но только по причине личных соображений или из-за стремления превзойти Рум в пышности двора, дворцов, храмов, уборов, богатства, используя для этого чужеземные идеи, чужеземных мастеров и чужеземные вещи.
Наконец, памятники культуры этого периода дают возможность, как мне кажется, приблизиться к пониманию подлинного хода событий. И здесь главными являются те памятники, которые изображают богиню Анахиту или посвящены ей.
Выдвижение этой богини на первый план при Хосрове II (и только при нём, после более чем трехсотлетнего «забвения») как будто не очень оправдывается ни внутренними династийными неурядицами (как, например, в конце III в.), ни явными изменениями в зороастрийском каноне. Однако именно эта богиня выставлена вперед на официальных прокламативных памятниках: на монетах, на рельефе, на капителях колонн дворца — вместе с официальными портретами самого шаханшаха.
Культ Анахиты подчёркивается и генеральной реконструкцией её храма — одного из самых древних и, вероятно, самого грандиозного.
Детали рельефов Так-и Бостана — внешнее оформление большого айвана с летящими крылатыми Никами, «венцом власти», лентами и чашами — имеют чёткие христианские параллели не только в византийских и иных христианских мозаиках, рельефах, но и на дипти-
(204/205)
хах и реликвариях; там композиция летящих ангелов с венцами и сосудами в руках уже давно стала стандартной. [47] Интересно в этом же плане использование в строительстве Хосрова II, в частности при строительстве храма Анахиты, элементов западного декора, прежде всего колонн, детали совершенно неожиданной для традиционной зороастрийской архитектуры.
Наконец, следует иметь в виду не только большую роль христианской религии в Иране того времени, но прежде всего — специфическое отношение к христианству самого Хосрова II. Из источников явствует, что при Хосрове II (и только при нём) в Иране особенно поощрялось христианство именно монофизитского толка. Как хорошо известно, в этом толке особо почиталась Богоматерь, в отличие от несторианства, от того самого догмата Нестория, который и вызвал прежде всего резкую критику в богословии: «Мария не рождала божество, но человека — Христа». Здесь нужно вспомнить, например, о строительстве Хосровом II для Мариам громадного храма, посвящённого Богородице [Пигулевская, 1946, с. 256; Китаб аль-Унван, т. 8, с. 447], освящённого патриархом Антиохии Анастасием.
Другими словами, нет ничего невероятного в том, что при Хосрове II имела место попытка своеобразного «наведения моста» между зороастризмом и христианством, проявившаяся, быть может, ярче всего в попытке очень осторожной реинтерпретации: Анахита — Дева Мария. Это вполне аналогично тому, что пытался осуществить шаханшах Шапур I, приняв при дворе Мани и разрешив пропаганду его учения. Учение это, как теперь с очевидностью доказано, было прежде всего одним из ответвлений иудео-христианских баптистских сект. [48]
Разумеется, не может идти даже речи о робком шаге в сторону официальной замены одной религии другой. Ведь поддержка Хосровом II христианства — это прежде всего политический расчёт, пусть с примесью личных симпатий. Анахита, конечно, оставалась зороастрийской, иранской богиней для всех иранцев и всего мира, хотя Хосров и изменил конструкцию её храма [49] и до некоторой степени — её культ. Но, быть может, пусть только в узком кругу, только в его царских покоях, её и сопоставляли с Богородицей?
Монолитное когда-то здание зороастризма к тому времени уже было расшатано, и в ортодоксии, и, в особенности, в ортопраксии уже появилось много трещин. В
(205/206)
трещины проникало христианство, что отразилось и на памятниках искусства.
И если для дальнейшей реконструкции нужно оценить те четыре взгляда на эпоху Хосрова, которые упоминались на этих страницах с целью представить себе — для избранного мною конкретного случая, — где же адекватнее всего проявилась специфика эпохи, то, не говоря уже о вещественных памятниках, предпочтительным окажется взгляд Фирдоуси.
Но подлинная цена исторической части «Шах-наме» для реконструкции истории сасанидского Ирана, конечно же, иная и много более обширная тема.
(/257)
[1] См., например, [Стариков, 1957, с. 518 и сл.].
[2] Например, многие детали войны с Римом Шапура I отнесены Фирдоуси к царствованию Шапура II.
[3] Мною использовано издание: Фирдоуси. Шах-наме. Критический текст. М., 1971, т. 9 (далее — Шах-наме, т. 9).
[4] О связи с эпосом см. [Орбели, 1934, с. 9-20].
[5] Характерен рассказ, сохранённый Динавари (с. 89). Привожу перевод А.И. Колесникова: «Потом он (шпион Хосрова II. — В.Л.) вернулся к Кисре и передал ему, что Бахрам (Бахрам Чубин. — В.Л.) во время похода имеет с правого фланга Мардан Синэ Рувайдашти, а с левого — Езд Джушнаса, сына Халбана, что никто из его войска не осмеливается отбирать у райатов зерно и что, кроме того, он, сделав остановку, потребовал книгу „Калила и Димна” и не прекращает склоняться над ней во время обеда.
Сказал Кисра своим дядям Биндаю и Бистаму: „Я никогда ещё не боялся Бахрама так, как боюсь сейчас, узнав о его увлечении чтением книги „Калила и Димна”, ибо эта книга открывает человеку мысли более достойные, чем его мысли, и благоразумие большее, чем его благоразумие, так как всё в ней — от адаба и мудрости”».
[6] Об этом см. [Орбели — Тревер, 1936].
[7] Одна из последних работ, посвящённых этому периоду — [Колесников, 1970], где приводятся, в частности, подробная характеристика письменных источников и обширная литература вопроса.
[8] См. перевод «Книги длинных известий» в указанной работе: [Колесников, 1970, с. 114-135]. См. также Табари [Нёльдеке, 1879, с. 364-366, Бал‛ами, с. 1162, 1175 и др.].
[9] См., например, [Пигулевская, 1946].
[10] [Шах-наме, т. 9, 2058 и сл.].
[11] Быть может, посылка Хосрову этой одежды — реальный факт. Кроме Фирдоуси эта история содержится также у Бал‛ами и в анонимном сочинении первой половины XI в. «Предел желаний в летописях персов и арабов» (Нихайат). См. [Елисеева, 1968, с. 12-13].
[12] Этот рассказ есть в калькуттском издании, но не введён в издание критического текста поэмы.
[13] [Шомон, 1964, с. 165-202].
[14] Статьи «Сасанидского судебника» (I, 13-15; 44, 6-8 и др.) запрещают продавать рабов незороастрийцам (и продавший и купивший будут подвергнуты клеймению); устанавливают обязательное назначение стура в том случае, если у зороастрийца жена — незороастрийка и только один несовершеннолетний сын, тоже незороастриец; устанавливают, что незороастрийцы не платят долгов умершего, но и не наследуют ему, не могут быть стурами. Однако, кроме того, «что по линии прямой родственной преемственности или [агнатического] родства» (т.е. семейного права), все стальные правовые статьи распространяются на них так же, как и на зороастрийцев (60, 16-61, I). См. [Периханян, 1973].
[15] Оба дворца, Седир и Хаварнаг, один — где-то на нижнем Евфрате, другой — у Куфы, согласно арабо-персидской традиции, были возведены для Бахрама Гура. Автор «Муджмал ат-таварих» отно-
(257/258)
сит их ко времени Хосрова II, полагая, что строить эти дворцы приказал военачальник Хосрова, Фархад.
[16] Последнее издание см. [Фукаи — Хориучи, 1972]. Комплекс Так-и Бостан сочетает в себе памятники прокламативного назначения (инвеститурный рельеф) с парадным охотничьим парадизом, таким, каким он и показан на рельефах в большой нише. Весь комплекс был окружён тремя кольцами стен и, бесспорно, использовался как охотничий загон для охоты шаха и его придворных, У Фирдоуси в описании строительства для Хосрова II «Айвана Хосрова» многие детали соответствуют архитектурному плану этого комплекса [Шах-наме, т. 9, 3685 и сл.].
[17] Последнее по времени исследование: [Хуфф, 1972, с. 517-540].
[18] Впервые развалины храма описали Э. Фланден и П. Кост [1854, т. 1, табл. 20-23, с. 403, 410]. Первые пробные археологические раскопки этого памятника вел Херцфельд [1935, с. 50; 1941, с. 281, 380-381]. В 1969 г. систематическое исследование памятника начала экспедиция Иранского Археологического центра (ICAP) под руководством С. Камбахшфарда. Раскопки и реставрационные работы продолжались до 1977 г. К сожалению, до сих пор издано лишь несколько кратких отчётов, все на персидском языке: [Камбахшфард, 1968; 1974; 1975, см. также: Луконин, 1977а, с. 105-111]. Я посетил Кангавар в первый раз осенью 1973 г. по приглашению С. Камбахшфарда и провёл там несколько дней, знакомясь с ещё неопубликованными материалами раскопок. С. Камбахшфард любезно разрешил мне опубликовать фотографии некоторых интересовавших меня позднесасанидских надписей и знаков на каменных блоках платформы (см. указанную статью). В 1975 г. я вновь посетил Кангавар и имел возможность проверить некоторые детали и обсудить на месте вопросы датировки памятника вместе с моими коллегами — академиком Р. Гиршманом и доктором Д. Стронахом.
[19] См., например, [Кошеленко, 1966, с. 54-55].
[20] [Луконин, 1977а, с. 108-109, рис. 4-8]. Моё чтение нескольких новых надписей см. [Камбахшфард, 1974, с. 85 и сл.].
[21] К эпохе Хосрова II относит Канвагар и «Муджмал ат-таварих»: «из строительства его (Хосрова II) — замок Кангавар, он построил и Каср-и Ширин на дороге в Багдад, и развалины обоих ещё видны» (с. 81-82).
[22] О них подробно см. [Херцфельд, 1920, с. 55-56]. Три из них, хорошо сохранившиеся, найдены в Бехистуне. Ещё две такие же капители происходят из Исфахана. Одна (сильно испорченная) хранится там в Чехел-Сутун, другая перевезена в Археологический музей Тегерана. Обе они, как полагают, перевезены из дворца Хосрова II близ Бехистуна ещё в древности [Лушей, 1968, с. 129-142, табл. 53].
[23] Кроме развалин дворца немецкие археологи обнаружили в этом районе относящиеся к тому же времени развалины громадного моста, дороги, ведущей по направлению к Тахт-и Ширин, и, наконец, грандиозную (в десятки раз превышающую все остальные сасанидские рельефы) нишу в скале рядом с Бехистуном («Терраса Фархада»), подготовленную скульпторами для того, чтобы высечь на этом месте рельефную композицию, но так и не начатую. Длина «Террасы Фархада» — 200 м, высота — 35 м. X. Лушей связывает этот участок, вырубленный в скале, с «Террасой Фархада», упоминаемой письменными источниками [Лушей, 1968, с. 142-143, план].
[24] См. [Херцфельд, 1938а]. Это могло бы датировать рельеф временем официального восшествия на престол Хосрова II или временем его борьбы с Вистахмом, т.е. 591-595 гг.
(258/259)
[25] Mémoires de l’Académie des inscriptions et belles lettres. Vol. 30. P., 1755.
[26] Göttinger Anzeiger, 1803, с. 541-548; высота кувшина указана де Броссом: ок. 44 см.
[27] Кроме строгановского кувшина, три кувшина — в Государственном Эрмитаже [Орбели — Тревер, 1935, табл. 44-46], один — в музее Метрополитен, два — в Кливлендском музее, один — в Вергинском музее, один — в Лувре, один — в Тегеранском музее и, насколько мне известно по фотографиям, — более десятка в различных частных коллекциях и музеях Европы и Японии. Несколько подобных сосудов, появившихся в последнее время на антикварных рынках и происходящих, судя по аукционным каталогам, из Ирана, вызывают серьёзные сомнения в их подлинности.
[28] Первая публикация: The Bulletin of the Metropolitan Museum of Arts. N.S., 1967, № 26; 1970, № 29; [Харнер, 1971, табл. II, рис. 1-2; Харнер, 1978, c. 60-61, № 18 (описание составлено М. Картер)]. Дата сосуда, приводимая в этом издании, — VI или VII в.; о форме кувшинов этого типа, её развитии, датах и имитации в ином материале см. [Маршак, 1961, с. 189-191].
[29] Издавалось неоднократно; см., например, [Харпер, 1971, табл. I].
[30] Так же изображены капители и на бутыли из Государственного Эрмитажа [Орбели — Тревер, 1936, табл. 46]. П. Харпер [1971, с. 513] отмечает особенности капителей этих двух сосудов, известных и на других памятниках прикладного искусства Запада, ближе всего — на диптихе Прибиана (ок. 400 г.); см. [Дельбрюк, 1929, табл. 65].
[31] Тот же атрибут и на бутылевидном сосуде Кливлендского музея [Шеперд, 1964, с. 66-95]. Однако подлинность этого сосуда вызывает сомнения; наверняка поддельным (в том числе и по металлу) является кувшин музея Цинцинатти с тем же атрибутом (см. Sasanian Silver. Late Antique and Early. Medieval Arts of Luxury from Iran. Michigan, 1967, № 19).
[32] Аргументацию за среднеазиатское происхождение см. [Пугаченкова — Ремпель, 1965, с. 150 и сл.].
[33] Краткое резюме различных интерпретаций сюжета см. [Эттингхаузен, 1968, с. 36 (там же — основная литература); Дюшен-Гиймен, 1971; 1974].
[34] В этом смысле вся группа сопоставляется с известным бадахшанским блюдом (сейчас в Британском музее [Дальтон, 1963]) и его более поздними репликами в Государственном Историческом музее в Москве и в Галерее Фриер (см. [Галль, 1971, с. 193-207, табл. 31-35; Дюшен-Гиймен, 1974, с. 151-152]).
[35] Подробнее см. [Харпер, 1971, с. 503-515].
[36] Возможно, и после падения династии Сасанидов, но с изменением иконографии. П. Харпер [1971, с. 513-515] упоминает в связи с этим блюдо Национальной библиотеки, которое она датирует серединой или концом VII в. Она отмечает, что на блюде в руках персонажей изображены переносные алтари огня или курильницы (подобные тем, которые известны на росписях Средней Азии), да и композиция этого блюда «показывает действительную трансформацию темы, с включением дополнительных фигур и бесспорно иранских (по её мнению, возможно — восточноиранских. — В.Л.) ритуальных объектов, что предполагает перерыв в культурных традициях, вызванных арабским завоеванием». М. Картер [1974, с. 198-202] рассматривает изображенных на сосудах женщин и их атрибуты как персонификации «сезонных» зороастрийских празднеств, напри-
(259/260)
мер, Ноуруза, Сада, Хуррамруза, Вахарджашна и т.д. (ссылки на «Хронологию древних народов» Бируни).
[37] Здесь Дюшен-Гиймен в качестве аналогии указывает на концепцию X. фон Галля [1971, с. 193], который считает, что триумфы Шапура I, изображённые на скалах Бишапура, были имитацией римских триумфов, точнее восточноэллинистических, подобных триумфу Птолемея II в честь Диониса, описанному Афинеем.
[38] Как и для некоторых участников дискуссии, развернувшейся после его доклада на конгрессе в Риме в 1970 г.
[39] См., например, празднование Ноуруза и обычаи, с ним связанные (в том числе — обычай подносить шаханшаху воду в железном или серебряном кувшине), по сообщению Кесрави: «Говорил царь: „похищено это у двух благословенных и двух благородных” (т.е. Хаурватат и Амеретат). И надевали на шейку кувшина ожерелье из зелёных яхонтов, нанизанных на золотую нитку, в которую были продеты бусы из зелёного хризолита. И похищали эту воду лишь девушки из-под мельниц и цистерн каналов». [Иностранцев, 1909, с. 82-109. См. также: Бируни, т. I, с. 229). Обычай подносить шаханшаху вино в новом серебряном сосуде в первый день празднования Ноуруза описан в «Ноуруз-наме» Омара Хайама.
[40] Если в качестве гипотезы принять сопоставление строгановского кувшина (по атрибуту — обнажённый ребёнок) и метрополитенского кувшина (по изображению архитектурной орнаментики) с эрмитажной бутылью [Орбели — Тревер, 1935, табл. 46], то о поздней дате может свидетельствовать и употребление черни.
[41] [Борисов, 1939, с. 235-242]. На эрмитажной печати с изображением креста [Борисов, 1939, табл. 1] надпись: ’whrmzd gwšnspy — «Хормизд Гушнасп» — типичное теофорное зороастрийское имя. См. также [Жинью, 1978, с. 64, табл. XXIII, 7.6] (в надписи — зороастрийское имя); 7.5 (надпись: [kws]ty Y hlb’n W bl’skn wčwlk k’tlykws — «великий католикос области Хулван и Баласакан»).
[42] [Рос, 1908, табл. 23, 2-12]. Крест между двумя пальмовыми ветвями изображён на реверсе серебряных монет Ираклия, которые, как полагают, были выпущены в честь победы над персами.
[43] [Лернер, 1977, с. 41-43]. Приводится чтение надписи Р. Фраем — ’pn’m gblwn.
[44] Например, [Жинью, 1978, с. 63-64, табл. XXIII, 7.2, 7.3, 7.7, 7.9, 7.10]. Надпись на 7.2 (мужской и женский бюст, крест с крыльями между ними, крест внизу): имена и формула ’pst’n ‛L yzdty. На 7.7 (мужская обнажённая фигура с крестом в руке) — ’pst’n [‛L yzd’n]’pzwny (последнее слово — также часть широко распространённой зороастрийской религиозной формулы); 7.8 (обычный погрудный портрет сасанидского официала, помещённый между двух распахнутых крыльев): ’ptwmydy ’pst’n ‛L yšwdy ZY MR‛HY — «[имя?], упование на Иисуса господа» (Ph. Gignoux: «La confiance en Jesus le Seigneur est la fin [c.-à-d. le but de tout chrétien]»).
[45] Немецкая археологическая экспедиция, открывшая храм Атур Гушнасп в Тахт-и Сулеймане, установила, что храм возведён при Хосрове I или несколько ранее (не ранее V в.); см. [Науман и др., 1966, с. 619-802; Науман, 1976, с. 19-23]. Тахт-и Сулейман — действительно круглый в плане, обнесённый мощной оборонительной стеной.
[46] Иное отношение к Мани и манихейству у современника Егише, Езника [Езник, с. 39-40].
[47] О распространении этой композиции, например, в Грузии, см. [Аладашвили, 1977, с. 21-27].
[48] Секреты элхазаитов.
(260/261)
[49] Храм в Кангаваре, хотя и резко отличался от обычных зороастрийских, не перестал от этого быть зороастрийским по духу. В V Яште Авесты так описывается храм Анахиты (перевод В.А. Лившица): «У стока каждого из озёр стоит здание, прекрасно сооружённое, с сотнями световых отверстий, светлое, с тысячью колонн, прекрасно выстроенное, с десятью тысячами fraškamba». Термин «fraškamba» не вполне ясен: «покрытие, опорные балки, подпорки, арки, портики» [Бартоломе, 1961, с. 1002].
|