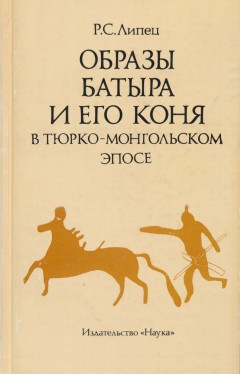 Р.С. Липец
Р.С. Липец
Образы батыра и его коня в тюрко-монгольском эпосе.
// М.: 1984. 264 с.
Часть I. Батыр.
Поединки и битвы.
Гиперболически показаны в эпосе всевозможные поединки. От яростных схваток противников потрясается природа: где были горы, там образуются равнины, и наоборот: противники превращают в пыль скалы, вытесняют из берегов воды кровавого моря, продавливают верх «трёх преисподних тёмных стран» (см.: Нюргун, 131-133). В этом же якутском эпосе при бое батыра с шаманкой не только рухнули горы, а деревья поломались в щепу, но и птицы не стали класть яйца и улетели, а звери перестали плодиться, забились в норы (Ястремский, 67); во время другого поединка — тридцатидневного — «накренилось и пролилось море», забушевала снежная буря (Там же, 53). Тело воина, брошенного на землю, пробивает её на семь сажён и т.п. (Там же). Не случайно в одном якутском тексте противники решают биться на особом, «смертных боёв крутом мысе» и горе: «Нас здешняя страна не сдержит» (Там же, 75).
А.П. Окладников обобщает гиперболические картины поединка в якутском эпосе: «Борьба великих богатырей равносильна мировой катастрофе», изумляет все «колена-рода» обитателей трёх миров; столкновение противников — «как громовой удар в грозу». Он сопоставляет якутские Олонхо с алтайскими былинами; там «от богатырской схватки дрожит и колеблется весь Алтай, расплёскиваются моря, гром поднимается до синего моря, наступает непроглядная ночь... Эрлик бий в подземелье оглох, в небе струсили три Курбустана». То же и в эпосе монголоязычных народов: ойратском и бурятском (Окладников, 292-293).
Сами сражающиеся батыры описаны в том же стиле: их сравнивают с грохочущими при столкновении горами (Нюргун, 259); от их дыхания поднимается «густой туман» (Ястремский, 90). От ярости «вспыхнули с треском, как загоревшаяся сера, волосы на висках Басымджи-богатыря. Свернуло в дугу рёбра его, как лук тугой. Свело жилы печени его, стянуло сухожилья хребта. Словно напившийся племенной бык, гневная дума (мысль? — Р.Л.) мыча взыграла» (Ястремский, 52).
(88/89)
Перед началом единоборства противники долго обмениваются насмешками, бранью и угрозами. Это, очевидно, имеет целью раздразнить противника, вывести его из душевного равновесия не в меньшей степени, чем устрашить. По словесному оформлению эта перебранка близка к айтысам — состязаниям в красноречии, обычно ироническим по форме, распространённым в тюркоязычной среде. К стремлению напугать «ртом» (словом) можно, по-видимому, отнести отчасти и требование дать «поединщика», вызов на единоборство.
Ясное определение психологического значения перебранки перед поединком дано в «Гесере»:
Так со ртов начиная,
Сцеплялись они,
С языков начиная,
Сражались они.
(Гесер, ч. I, 170)
Однако, хотя батыры и мастера в словесных поединках, не всегда это считается занятием, достойным их:
Много стреляя, мы с тобой
Меткими не станем,
Много болтая друг с другом,
Остроумными не станем.
(Маадай-Кара, 369)
При поношении противника стараются быть конкретными. Если противник — пожилой человек, его попрекают старостью; если юноша — молодостью, незрелостью; если дружинник — его зависимым положением, бедностью и т.п. А кроме того, подбирают всевозможные обидные сравнения и пр.
О старом батыре Кошое, приехавшем на состязания, иронически говорит его противник Джолой:
Прикидываться силачом
Зачем тебе, одряхлевший бурут,
От старости одуревший бурут?
Сила у тебя была,
Где, скажи, теперь она?
Борода твоя бела,
В суставах мощь утеряна!
...Смерть уже на пути к тебе, —
Стоишь над могильной ямой ты.
Моложе не нашлось борца, —
...Тебя прислали, храбреца!
В ответ Кошой напоминает о всех выигранных им у Джолоя поединках на луках, пиках, о словесных состязаниях,
(89/90)
о захвате того живым и пощаде и кончает угрозой: «В землю ведь я засуну тебя!» (Манас, 151-153). Побеждает он и в этой схватке.
В алтайском эпосе о старом батыре, которого увидели перед схваткой вместе с другими, говорят:
А, и Тенек-Бёкё с вами вместе!
А его зачем с собой таскать?
(Баскаков, 142-143)
Следует ответная ругань.
В башкирском эпосе старика-батыра также попрекают старостью:
Эй, старый Кужак, старый Кужак,
От тебя отворачивается твой конь, Кужак,
Подняв дыбом щетину в бороде,
За девушкой, что ли, явился?
Эй, старый Кужак, старый Кужак,
Поверни в сторону морду коня, Кужак,
С дрожащими мускулами на щеках и
С дрожащими мускулами на икрах,
На поединок, что ли, явился?
(Киреев, 193)
Попрёки старику-хану Аллаяру в каракалпакском эпосе наряду с обычной руганью построены частично в жанре патетического плача:
Был ты быстроногим конём,
...Где твои копыта, глупец?
...Легкокрылым кречетом был,
Что же с крыльями сделал ты?
...Грудь твоя разбита, глупец.
Затем следуют угрозы (Сорок девушек, 228-229).
В ойратском эпосе Бум-Ердени попрекают бедностью: у него якобы ничего нет, даже для того, чтобы подать милостыню (Владимирцов, 1923, 68). В том же ойратском эпосе к юноше Дайни-Кюрюлю враги обращаются так: «единственный щенок скупого скряги Далай-хана» (т.е. отца Дайни-Кюрюля) (Владимирцов, 1923, 120-123). А вот и слова малолетка, противоположные по настрою, с которыми он обращается к врагам отца:
Есть ли стрелы у вас пострелятъся,
Есть ли слово переброситься?
Прославленного Алтай-Буучыя
...Единственный сын я, которого он видел,
Вас преследуя, приехал.
(Суразаков, 1961, 106)
Особо стоит в эпосе вопрос о возможных мстителях Егиль-Мергена перед борьбой: «Сколько братьев у тебя, что
(90/91)
могут прийти к тебе? Сколько детей у тебя, что могут прийти мстить за тебя?» (Владимирцов, 1923, 213).
Поношение противника, издевательства над ним большей частью трафаретны. В этом плане любопытна изощрённая перебранка Алпамыша с батыром-чужеземцем Анкой. Анка, назвав Алпамыша для начала «бешеным конгратским кабаном», говорит затем, что не считает его даже за человека, свернёт ему голову и тому вовеки не вернуться в родную страну (Алпамыш, 261-263). Алпамыш, в свою очередь, посылает противника домой посмешить жену и детей; он не дракон, а червяк, трус и т.п.
В «Джангаре» посол Мангуса и Улан-Хонгор обмениваются «любезностями», причём первый из них говорит: «В лице твоём — огонь, в глазах твоих — жар. Куда и откуда бредёшь ты, негодный, бычья твоя порода, шальная свистун-стрела, бродяга сотни стран, изгнанник шести стран!». То же о бродяге-изгнаннике говорит в ответ послу Хонгор (Джангариада, 121).
В словесном поединке большое место отведено прямым угрозам. Зловеще звучат слова Хонгора о том, что кости убитых им поединщиков остаются в расселинах скал, а кровь — в потоках (Джангар, 59).
Одна из наиболее распространённых угроз — закинуть противника высоко и разбить о землю, или раздавить его, или и то и другое вместе. В тувинском эпосе воительница грозит противнику закинуть его под небо, а затем раздавить на земле, усесться на груди побеждённого. Алпамыш обещает зашвырнуть Кокальдаша в небо даже вместе с конём и всем снаряжением, а при другой встрече с ним бросает батыра так высоко, что тот кажется «игральным альчиком» (Алпамыш, 117, 151).
Наиболее разработана в эпосе, конечно, угроза лишить противника жизни, подвергнув его предварительно, кроме того, всевозможному мучительству, имевшему в архаической исторической действительности реальные соответствия. Герой предупреждает криком мангадхая, что, если тот не выйдет на бой, он накинет верёвку на его «толстую шею» (Гесер, ч. 1, 54).
Хурин-Алтай говорит мангусу:
...Здесь же на месте тебя разорву!
Ещё со мною ты хочешь
Побратимом стать?!
...Бычью твою шею
Выкручу и выброшу,
Будайский твой серебряный колчан
Разломаю и выброшу!
(Гесер, ч. II, 103)
(91/92)
Шара-Бодон, бросив на землю Ерким-Хара, во время поединка-состязания, говорит ему: «Тебя-то убить мне легко, удобно содрать с тебя кожу. Но в начале этого игрища не разлучу я тебя с жизнью!» (Владимирцов, 1923, 246). Есть и более жестокие угрозы батыров (Алпамыш, 81, 166; Ястремский, 140; Нюргун, 107, 129 и др.).
В якутском эпосе своеобразно иносказание — сделать врага «сытью пальмы, старого копья краской» (Ястремский, 140), пищей птиц (Алпамыш, 166).
Эпическое чудовище грозит убить и раздробить кости батыра зубами, высосать кровь и т.п. Сам батыр в олонхо, победив, рассекает грудь противника и стискивает его сердце (Худяков, 123) (так убивали скот).
По стилю очень близко к монологам и диалогам перед поединком своего рода надгробное слово в устах узбекского Алпамыша павшим в битве врагам. После жестокого побоища он обращается к ним с речью, и это те же привычные мотивы словесного унижения врага (когда-то и они хвалились), но с некоторым оттенком даже горечи:
Снилась вам добыча, глупцы!
Стать вам пищей птичьей, глупцы!
Миром не хотели уйти, —
Мертвечиной стали в пути.
Мой таков обычай, глупцы:
Кровью за бахвальство плати!
(Алпамыш, 166-167)
В не менее развитом каракалпакском эпосе Аллаяр с такой же горечью заявляет перед поединком хану-завоевателю, уже успевшему натворить жестоких дел в захваченном врасплох городе Саркопе, что не желает его считать ханом. Это «бродяга», который губит народ и грабит мирные города, привыкнув с детства, свежуя скот, к виду крови (упрёк земледельца скотоводам) (Сорок девушек, 223).
Последние два примера показывают, как с развитием и усложнением эпического жанра простая перебранка — запальчивые выкрики противников — превращается в настоящие обличительные и даже пацифистские речи. Нельзя забывать и того, что эти произведения сложены уже в значительной степени осевшими народами, которым приходилось играть страдательную роль, подвергаясь набегам кочевников.
По-видимому, к своего рода словесной пикировке можно отнести и обычную в эпосе реплику о ранах и ударах, нанесённых противником: удар его оружия — укус блохи, искра из костра. Эрзамыр говорит Кара-Бёкё:
(92/93)
Я думал, что это мухи-комары меня кусают,
А это, оказывается, ты ущипнул меня.
(Баскаков, 260)
В тувинском эпосе великан, спавший у костра, заметил об ударе стрелы: «Какие сухие дрова! Должно быть, искра в меня попала» (Гребнев, 1960а, 67).
Конечно, основное в этом мотиве — показать именно исполинскую мощь героя или чаще — его противника, но важно и другое: показать самообладание, сознательное пренебрежение к боли.
В экспрессивности ругани не отстают от батыров и «воинственные девы» тюркского эпоса. Прелестная Гулаим вызывает на бой хана Суртайшу, обещая изуродовать его (Сорок девушек, 333), утолить «жажду степей» его кровью (Там же, 319). Сам Суртайша обзывает девушку-посла Сарбиназ, добравшуюся до его дворца через лес копий и тучу стрел, «клещевитой овцой» (Там же, 313) и т.п.
В эпосе показан большей частью регламентированный бой, с соблюдением воинского этикета. Так, при поединке право первого удара предоставляется старшему по возрасту или женщине. Иногда этот «акт вежливости» превращается в свою противоположность, так как молодой герой при этом издевается над возрастом пожилого противника (в огузском, казахском, тувинском, бурятском эпосах).
Особый вид демонстрации мужества, а иногда и уверенности в своей неуязвимости — это представление себя живой мишенью, когда, усевшись перед противником и подсмеиваясь над ним, батыр или его чудовищный враг, открыв грудь, подставляет её под стрелы, а они её не пробивают.
Поединок батыров (если даже один из них и чудовище) проходит поэтапно, в определённой последовательности. Если проследить всё обилие описаний единоборства батыров в лучших и наиболее сохранных вариантах сражений, ясно выступает одна закономерность: противники постепенно сближаются, когда с перебранки на расстоянии переходят к действиям, сменяя оружие. Испробовав безуспешно все виды оружия и перепортив его, поединщики переходят к борьбе. Сначала стреляют из луков, потом скачут друг к другу издали, пытаясь вышибить один другого из седла копьями (или палицей), затем идут в ход мечи или сабли. Не достигнув перевеса, противники схватываются в борьбе на конях, безуспешно пытаясь стянуть друг друга с седла, и, наконец, спешиваются и, взявшись за пояса, стараются оторвать друг друга от земли и подбросить в воздух, перекинуть через себя и повалить, причём увязают в земле до колен и т.п. Завер-
(93/94)
шает поединок вынутый из ножен нож, если дело не кончается побратимством. Смена оружия объясняется в эпосе тем, что оно повреждается, или чаще тем, что ни один из поединщиков не может одолеть другого.
Конечно, в большинстве эпосов отдельные этапы единоборства уже смещены, как полузабыто и пользование древними видами оружия. Большую архаику сохранил якутский эпос. «...Наперёд из луков стреляли — что пущена стрела, ловили; тогда пальмами рубились, а пальма на пальму падает; тогда с быка в поводу молотами бились, молот на молот падал; тогда голыми руками схватились». (Пальма — широкий нож на длинном древке.) Победивший вынимает нож, но дело кончается пощадой (Ястремский, 106).
В каракалпакском эпосе поединок двух предводителей так и протекает: у Суртайши — «лук-сурыжай», у Аллаяра — «исфаганский лук-садык». На конях они начинают перестрелку с восемнадцати шагов, после чего Аллаяр поносит своих пи́ров, допустивших его неудачный выстрел и не захотевших «чуть-чуть на лету стрелу повернуть»; он решает, что у его противника
...п́иры, видать,
Больше смахивают на волков,
Чем на белорунных овец.
(Сорок девушек, 226-227)
Минуя остальные моменты, они переходят к пешей борьбе, причём Суртайша опоясался семирядной цепью; в схватке они даже кусаются, как «два лихих жеребца». И на пятый день борьбы Суртайша побеждает старика, выгнув его, «точно лук», и ломает ему хребет. Во время единоборства противники изощряются в перебранке (Сорок девушек, 224-234).
В огузском эпосе в конном поединке действуют палицами, мечами, копьями, но кончают тоже борьбой: грузинский тагавор бьётся с сыном Бекиля: «Он взял в руку свою палицу-шестопёр, направился на юношу; юноша подставил под палицу свой щит»; противник «сверху вниз нанёс тоже крепкий удар, сломал его щит, расколол его копьё... (но) не мог одолеть юноши... (Теперь) извлекли друг против друга чёрные булатные мечи, сразились друг с другом мечами на трудном ристалище; ... их мечи сломались, не могли они одолеть друг друга. Они сразились копьями из тростникового тальника, стали бодать друг друга на ристалище, как быки; их груди были исколоты, их копья сломались, (но) не могли они одолеть друг друга. С копей они прикоснулись друг к другу, схватились»; юноша было ослабел, но по молитве
(94/95)
получил «силу, как у сорока мужей», и победил противника (Коркут, 88).
Бой в эпосе, как уже упоминалось, регламентирован, и в отношениях с противником соблюдается щепетильный этикет: о нападении предупреждают, у побеждённого осведомляются о его последнем желании и т.д. Возможна и пощада достойного противника, даже побратимство с ним, в особенности если силы борющихся равны. В тувинском эпосе даже проскальзывает идея, что «воин должен быть милостивым к своему врагу» (Гребнев, 1960б, 87). Иногда затяжные поединки кончаются примирением, но чаще смертью одного из бойцов.
Однако батыры не считают для себя предосудительным в некоторых случаях и прибегнуть к обману. Герой, например, заставляет противника оглянуться, сообщив какое-то ложное известие, и срубает в этот момент ему голову. Сын Гесера Хурин-Алтай говорит жене старого мангуса, собирающейся вступить с ним в поединок и вооружённой скребком:
— Сватья, сватья, я говорю,
Вот за тобою, —
Так это было, —
Двадцать воинов,
Землю преисподнюю выкопав,
На хвост твоего коня
Наступают.
Это что за чудо такое?! —
Так он сказал.
— О, иссохни плод!
Кто же идёт! — воскликнув,
Тотчас назад оглянулась.
И именно в этот миг Хурин-Алтай срубил ей голову кнутом с ручкой из тамариска (Гесер, ч. II, 194).
Сам Гесер заманивает в ловушку своего коварного, но глупого дядю Цотона (Гесериада, 64, 65). Тот — неизменный объект насмешек, озорных выходок и издевательств Гесера, которому Цотон много навредил. Но (очевидно, по законам родства) Гесер не стремится его убить.
К военным хитростям следует отнести и ложное бегство, действительно применявшееся в конных войсках кочевников. Таков эпизод в ойратском эпосе, где Дайни-Кюрюль и Зан-Будинг удачно применили этот приём, якобы бросившись «бежать к себе в кочевья», и победили противников — 79 батыров.
Этот эпизод интересен и представлением о том, что идеальный бой — единоборство, а не общая схватка. Дайни-Кюрюль и Зан-Будинг, приняв приглашение к поединку от 79 батыров в традиционной формуле: «Солнце раннее, годы
(95/96)
наши молодые, — поиграем!» — спрашивают их презрительно: «Что же, вы будете биться, следуя один за другим, как настоящие богатыри, или будете биться, наскакивая кучей, как собаки?». Те отвечают: «Если умирать, все умрём мы вместе; если придётся нам жить, все вместе будем жить!». И кинулись на них все 79, но это им не помогло (Владимирцов, 1923, 166).
|