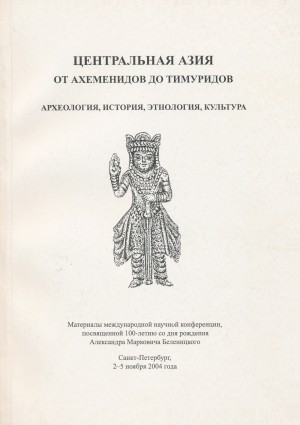 С.Г. Кляшторный
С.Г. Кляшторный
Древнетюркские рунические памятники
как исторический источник.
Одним из важнейших компонентов духовной культуры любого народа является его историческая память. Овладение письменной культурой, как правило, влечёт за собой письменную фиксацию различных проявлений исторической памяти. С известными оговорками, касающимися неполноты письменного выражения собственной истории в любом архаическом социуме, зафиксированная историческая память определяет временную глубину самой культурной традиции. Вместе с тем, именно в исторической памяти социума таятся в какой-то степени стёртые и мифологизированные стереотипы, определяющие пути поиска истоков культурного наследия.
Наиболее важными памятниками древнетюркской культуры являются тюркские рунические памятники Монголии, Южной Сибири и Восточного Туркестана, памятники, обладающие двумя существенными для историка неоспоримыми достоинствами — автохтонностью и аутентичностью. Однако, в какой мере рунические тексты являются носителями исторической памяти? Уже в конце XIX — начале XX вв. выдающиеся востоковеды своего времени — В.В. Бартольд и И. Маркварт — первыми исследовали с этой позиции тюркские памятники, выявили содержащуюся в них значительную долю историографической информации, сопоставили с иными группами источников и очень высоко оценили памятники как носители важных сведений, касающихся истории самих тюрок и созданных ими государств. Были чётко определены три основные группы эпиграфических текстов. Это, прежде всего, собственно тюркские памятники Северной Монголии (орхонские памятники), затем немногочисленные тогда, в начале XX в., памятники уйгурской эпохи, найденные там же, где и тюркские, и, наконец, историографически наименее информативные из-за трудностей датирования енисейские памятники древних кыргызов. Начавшиеся в 1960-1970-е гг. дискуссии о жанре памятников и их ценности как исторических источников так и не смогли поколебать уже сложившуюся высокую историографическую оценку рунических текстов. Более того, новые открытия древнетюркских памятников, связанные, в основном, с полевыми исследованиями Советско-Монгольской историко-культурной экспедиции (1969-1990), принесли неожиданные результаты, касающиеся письменной фиксации исторической памяти у тюркских народов древности. Немало было сделано и в изучении енисейской эпиграфики. Успехи изучения древнетюркской письменности к 1960-м гг. создали ощущение известной завершённости историографической обработки этой сравнительно небольшой группы текстов. Между тем, именно сенсационные результаты начального периода выявили такие труднейшие аспекты историко-культурной оценки памятников, решение которых оказалось надолго отложенным.
Остановимся лишь на некоторых из возникших загадок и тех открытиях, которые способствовали их разрешению. Тюркский каганат возник на территории Монголии в 551 г. и, распространившись от Хинганских гор до Керченского пролива, стал первой евразийской империей, просуществовавшей 8-10 [видимо, д.б.: восемьдесят] лет. Каганат был разрушен в 630 г., в период максимальной экспансии Танской империи, но через пятьдесят лет возродился и просуществовал ещё пятьдесят лет. Все обнаруженные до недавнего времени на территории каганата памятники относились ко второму периоду его существования, к 20-30-м гг. VIII в. Следовало ли, исходя из этого факта, сделать вывод, что Первый каганат не знал ни письменности, ни историографической традиции? Что обычай устанавливать в поминальных комплексах тюркской знати стелы с историко-биографическими текстами возник лишь в эпоху Второго каганата? Такой вывод делался. Приведём мнение выдающегося знатока тюркской археологии Л.Р. Кызласова, опубликованное им в 1965 г.: «Установка вертикальных стел с надписями (у курганов в рядах и одиночно) никогда не практиковалась алтайскими тюрками-тугю и другими племенами, входившими в Первый Тюркский каганат». И тогда никаких прямых доказательств альтернативы не было. А через три года была обнаружена стела с согдийским текстом, которую по месту находки я назвал Бугутской, стела, оказавшаяся частью погребального комплекса четвёртого тюркского кагана Таспара. По своему типу и содержанию, стела совершенно подобна появившимся через сто пятьдесят лет орхонским памятникам. Бугутская стела была установлена в 582 г. Среди событий, датированных по двенадцатилетнему циклу, там упомянуто и об учреждении в каганате буддийской сангхи. Теперь несомненно, что Первый каганат знал и обычай установки стел с надписями при княжеских погребениях, и календарь, и свою историографическую традицию, а идеологическая жизнь тюркского социума в VI в. отнюдь не была примитивной. Вместе с тем,
(109/110)
употребление здесь согдийского языка и письменности указывает, по крайней мере, на то, что культура и образованность Средней Азии была для тюрок явлением достаточно обычным и привычным.
Другая историко-культурная проблема связана с ареалом распространения тюркского рунического письма. Почти все найденные памятники концентрировались в центральных районах Северной Монголии и являлись составной частью княжеских поминальных комплексов. Исходя из этого, следовало бы признать, что письменная культура в Тюркском каганате была достоянием узкой аристократической группы, а территория её распространения была очень ограничена. Во время полевых работ в Монголии в 1970-1980-х гг. докладчик, имея в виду необходимость поиска бесспорных материалов для решения проблемы, осуществил целенаправленные рекогносцировки в Хангайской горной стране, Хэнтэе, Монгольском и Гобийском Алтае, в котловине Больших озёр и в Южной Гоби. В ходе рекогносцировок было установлено, что руническая письменность была распространена и активно использовалась во всей зоне обитания древнетюркских племён. А отсутствие профессионализма в исполнении мелких наскальных надписей указывает на значительное число людей, владевших письмом и использовавших его в обыденной жизни. В сравнении с раннесредневековой Европой, можно считать Тюркский каганат страной сплошной грамотности.
Обратимся теперь к другой группе памятников — памятникам Уйгурского каганата. До 1960-х гг. их было известно всего два — Карабалгасунская надпись и надпись из Могон Шине усу. В ходе работ СМИКЭ были открыты ещё три крупных памятника разной степени сохранности. Какова их историографическая составляющая? Две стелы, открытые в Хангайской горной стране, были названы мной по долинам рек, где были установлены — Терхинской и Тэсинской. Они были соружены в 753 и 762 гг. Историографические разделы обеих надписей, судя по сохранившейся части, достаточно близки по содержанию, и главная идея этих разделов, казалось бы, парадоксальна — уйгурские каганы VIII в., правившие в Монголии и Туве, считали себя наследниками и преемниками древних вождей, которые возглавляли огуро-огузские племена евразийских степей за сотни лет до них. И оба уйгурских государя, Элетмиш Бильге и Бегю, которым посвящено повествование, сочли нужным напомнить об этом своим соплеменникам и своим подданным в высеченных на камнях декларациях. Они возвеличили тех, кто возглавлял племена и создавал Эль — кочевую империю, и они осудили тех, кто разрушал Эль в междуусобных и межплеменных войнах. Память уйгурских историографов охватила несколько эпох созидания и разрушения Элей, включая события более чем двухсотлетней давности. В начальных строках их повествования история слилась с мифом о сотворении и легендами о каганах-основоположниках. Время повествования определяется упоминанием общего кагана тюрок и огузов — Бумына, т.е. серединой VI в., а пространство событий — вся евразийская степь.
Ключевое слово в Тэсинской надписи — термин бузук. Сохраненное позднейшей огузской традицией (легендами об Огуз-хане, предке-эпониме огузских племён) и зафиксированное мусульманской историографией (Захир ад-дин Нишапури, Ибн ал-Асир, Рашид ад-дин) устойчивое деление огузов на два крыла, два объединения племён — бузуков и учуков, как теперь ясно, восходит к глубокой древности. Бузуки, правое крыло, соотносимое с восточной ориентацией, в квази-имперских и имперских структурах огузов имели преимущества старшинства. Только из их среды выдвигался великий хан (каган), номинальный глава всех огузов, а иерархическое положение аристократии бузуков, их племенных вождей, было более высоким, чем статус племенных вождей учуков. Ко времени, о котором говорится в надписях, времени Бумын-кагана и его первых наследников, в двусоставной тюрко-огузской структуре Тюркского Эля, место бузуков занимали десять тюркских племён, одно из которых, Ашина, было каганским племенем. После распада каганата на восточную и западную части, деление на бузуков и учуков в Восточнотюркском, а позднее и Уйгурском каганатах сменилось делением на тёлисов и тардушей, восточное и западное крылья, которые вместе с каганским центром-ставкой (орду) формировали военно-административную структуру Эля. В Западнотюркском каганате, в «народе десяти стрел» (как они сами себя называли), сложилась или проявилась иная древняя структура — деление на дулу и нушиби, восточное и западное объединения племён, соперничество между которыми часто приводило к междуусобным войнам. В повествовании автора Тэсинской надписи вся вина за раскол и распрю возлагается на бузуков — вождей собственно тюркских племён, что совпадает с реальной событийной канвой, известной по другим источникам. Более всего в этой распре пострадали западные огузы-огуры, и авторы обеих надписей сочли нужным отметить гибель двоих, назвав их имена и их племена — вождя берсилов Беди и вождя хазар (касар) Кадыра. Оба упоминания позволяют оценить, прежде всего, место обоих племенных союзов в исторической памяти огузов, в той политической картине ушедшего мира, с которой было связано и имперское величие, и крушение тюрко-огузского дуумвирата в евразийской сте-
(110/111)
пи. Другое, не менее интересное наблюдение: и хазары, и берсилы косвенно причислены к учукам, т.е. к западному крылу огуро-огузских племён. Обстоятельство тем более важное, что в позднейшей огузской традиции конца I — первой половины II тыс. берсилы и хазары уже не фигурируют. Так же как сиры (сеяньто китайских хроник), они выпали из огузских объединений и создали собственные имперские структуры примерно в одно и то же время (сиры — в 630-647 гг.).
Основная трудность, с которой сталкивается историк, интерпретирующий енисейские надписи — проблемы абсолютной датировки и выявление связей с историческим контекстом описываемых в надписях событий. Прорыв обозначился лишь после того, как мне удалось достаточно достоверно датировать две надписи с Алтын-кёля, доказав, что мемориант одной из них — кыргызский каган Барс-бег, погибший зимой 710-711 гг. Так же датируется вторая надпись Алтын-кёля. Примерно тем же временем датируется надпись именитого военачальника Чабыш Тон-таркана, которого Барс-бег, незадолго до своей гибели, отправил за поддержкой к Кара-хану, т.е. к тюргешскому кагану (надпись Уйбат I). О тех же событиях повествует ещё одна енисейская эпитафия (Кызыл Чираа I). Гибель её героя, имя которого не сохранилось, случилась в сражении с войском Бег-чора. Но Бег-чор — это «мужское (воинское) имя» (er aty) Капаган-катана. Китайские династийные хроники так и называют этого кагана — Мочжо, т.е. Бег-чор. А в последней строке надписи мемориант оплакивает не свою кончину, а гибель своего старшего брата, хана кыргызов, т.е. Барс-бега. Назван даже возраст Барс-бега — сорок два года. Напомним, что в эпитафии самого Барс-бега (Алтын-кёль I) рассказывается о четырёх «высокородных братьях», которых «разлучил Эрклиг», бог подземного мира. Другие особо значимые надписи относятся к совсем иной эпохе, к эпохе мощного взлёта кыргызской государственности и доминирующей роли кыргызов в Центральной Азии. Прошло сто тридцать лет с момента гибели Барс-бега и сто лет со времени краха Тюркского каганата, когда окрепшее Кыргызское государство сокрушило в 840 г. прежнего гегемона степей — Уйгурский каганат. Созданная кыргызами империя простиралась тогда от Ангары и Байкала до Алтая и Семиречья, от сибирской тайги до Великой Китайской стены. Овладев Северной и Северо-Западной Монголией, основной территорией уйгуров, кыргызы не остановились. Их власть распространилась на Алтай — в одной из надписей (Уюк-Оорзак III) упомянут кыргызский правитель нового юрта — ябгу Алтая. Но самое интересное сообщение содержит надпись с реки Бегре, правого притока Бий-хема. Её герой, именуемый не собственным именем, а титулом — ичреки, т.е. «доверенное лицо» Тер-апа, рассказывает в своём посмертном повествовании: «в мои пятнадцать лет я ходил на китайского хана. Благодаря моей доблести мужа-воина, своим геройством я захватил золото и серебро, верблюдов и жён!» Умирая в возрасте 67 лет, мемориант скорбит о разлуке со своей супругой, которую взял в свои 15 лет, т.е. во время китайского похода. Это повествование осталось бы изолированным и непонятым, если бы не другие, на первый взгляд, не связанные с китайским походом сообщения.
До недавнего времени единственным памятником «кыргызского великодержавия» в Центральной Азии (840-918) считалась Суджинская надпись. Она написана неким «сыном кыргыза» Бойла Кутлуг-ярганом, участником победы над уйгурами. В первой строке надписи упомянут Яглакар-хан, которого первоначально посчитали за хана кыргызов и прообраз Манаса. Однако же, как было установлено, Яглакары — это уйгурская ханская династия, и в Суджинской надписи рассказано об её изгнании и гибели. Между тем, в 1975 г. мною была открыта и прочтена в Северо-Западной Монголии, на р. Тэс, наскальная надпись, принадлежащая кыргызскому военачальнику Тепек Алп Солу. Удалось установить, что Алп Сол несколько раз упоминается в синхронных китайских документах, содержащих отчёт о событиях в Центральной Азии в 842 г. Именно Алп Сол руководил кыргызскими отрядами, вторгшимися в китайскую провинцию Ганьсу и в государства-оазисы Восточного Притяньшанья, вёл переговоры с китайским министром в пограничной крепости Тяньдэ, а в 843 г. возглавил кыргызское посольство к императорскому двору, в столицу Китая и возвратился с богатыми дарами. Теперь можно утверждать, что единственный за всю историю кыргызов «Великий поход» в Китай состоялся в 842-843 гг., на заре «кыргызского великодержавия», и возглавлял его кыргызский военачальник Алп Сол, чьи земельные владения были на Алтае и в Туве. Прошло много столетий, но тот поход не забылся — он наложился на многие другие события, его герой получил у алтайских кыргызов иное имя — Алп Манаш, и когда в XVI в. они переселились с Алтая на Тянь Шань, сказание о Великом походе и его главном герое Манасе превратилось на новой родине в грандиозный народный эпос, вобравший в себя память о многих веках нелёгкой истории кыргызского племени.
|