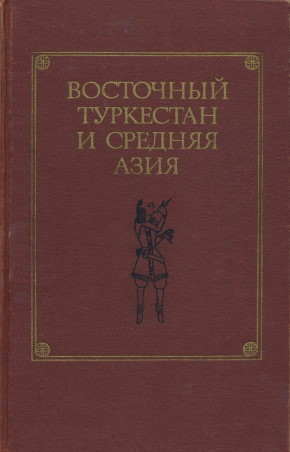 Н.В. Дьяконова
Н.В. Дьяконова
Осада Кушинагары.
Иллюстрации.
События земной жизни Будды Шакьямуни изображались уже на самых древних из дошедших до нас памятников буддийского искусства. «Житийные сцены» размещали на стенах вихар и оградах ступ Бхархута или Амаравати [23, табл. XXV-XXVII] в хронологической последовательности легендарных событий. Уже здесь был сделан отбор важнейших, узловых моментов этого повествования и разработана в основных чертах их композиция, ставшая впоследствии канонической [29, с. 5-6; 24, с. 180-190].
Такая же схема убранства храма получила отражение и дальнейшее развитие и в изобразительном искусстве Восточного Туркестана, в частности на северо-западе региона в кучарском и карашарском оазисах, где ещё в V-VI вв. господствовало учение хинаяны [25, с. 215].
Повествовательно-дидактический характер «житийного цикла» как нельзя лучше соответствовал догматике этого учения. Основной целью его было наставление на «путь», следуя по которому всякое существо собственными усилиями, без помощи со стороны могло «спастись» и подобно Будде достичь нирваны [18, с. 39, 272; 31, с. 45].
Росписи стен или скульптурные композиции служили как бы наглядным пособием верующему (обычно неграмотному), знакомившим его с деяниями и подвигами Будды.
Основная тематика и даже композиционное построение отдельных сцен сохранялись, но специфическая социальная и этническая среда Восточного Туркестана предопределила особенности стиля складывавшегося здесь искусства [41, с. 28-29].
В отличие от более ранних индийских и гандхарских памятников в убранстве кучарских и карашарских храмов особое место уделялось «Великим проповедям» [29, с. 6], довольно однообразным композициям, где немногочисленные предстоящие более или менее симметричными группами окружают восседающего на престоле Будду.
Такие сцены заполняли боковые стены целлы [28, табл. XX-XXVI; 29, с. 6]; в более ранних храмах они иногда выделялись прямоугольными кадрами, в более поздних сливались, переходя одна в другую.
Иконография действующих лиц — самого Будды, его учеников монахов, героев и богов индуистского пантеона — остаётся формально той же, что была выработана на родине буддизма. Но меняется индивидуальный почерк художника, он восходит к другой, местной («иранской», «юэджийской», «тохарской» и т.д.) традиции. Меняется и этнический тип изображаемых персонажей, приближаясь к тому, который живописец или скульптор видел ежедневно вокруг себя [41, с. 29; 33, с. 8, рис. 181-200; 35, с. 135].
Эпизоды «жития Шакьямуни» нередко трактовались как жанровые сцены и отражали черты действительной повседневной жизни, обряды и бытовые реалии. Действующие лица изображаемых событий, миряне и даже небожители, принимали облик знатных тохар, портреты которых в качестве донаторов помещаются на передней стене целлы. Эти своеобразные элементы реализма дают подчас важную информацию о жизни людей и страны в давно прошедшие времена [34, табл. 21].
(97/98)
Особое место в убранстве храма отводилось рассказу о кончине Будды и событиях, с ней связанных.
Справа от паломника, совершающего ритуальный обход святыни, на стене галереи (прадакшинапада) помещалось изображение Махапаринирваны — «Великой Кончины», а на противоположной стене — осада города Кушинагары. Фигура лежащего на смертном одре Будды, часто гигантская (8-12 м в длину), занимала бóльшую часть левой стены галереи. Кругом располагались оплакивающие его люди и боги. Особенно интересна эта сцена в известной Пещере Майи кызыльского мин-уя [1] в Кучаре, где рядом с традиционно написанными буддийскими монахами — бритоголовыми в оранжевых плащах, индийскими принцами и небожителями — полуобнажёнными, украшенными драгоценностями, цветами и лентами, скорбят тохарские князья и знатные дамы. Они одеты в такое же платье, что и изображённые в этом же храме жертвователи, несущие свои дары к престолу божества. Здесь они в отчаянии ломают руки, рвут на себе одежду, поражают себя ножами в голову и грудь. Они отправляют печальный обряд по своим древним обычаям, сложившимся, быть может, задолго до того, как в этой стране был принят буддизм. Такие обряды описывают исторические хроники и эпические сказания, они отражены изобразительным искусством Центральной и Средней Азии [1, с. 81; 11, с. 176-177; 8, с. 12].
Не менее важное место в канонической для V-VII вв. декоративной схеме кучарских и карашарских храмов занимала картина событий, последовавших за нирваной. Легенда говорит, что тело Будды было перенесено с царскими почестями в расположенный поблизости город Кушинагару, которым правил род Малла, и по индийскому обычаю предано огню.
Когда весть о смерти и кремации Шакьямуни дошла до князей, владевших теми городами Индии, в которых он проповедовал своё учение и которые прославил своими чудесами, они, собрав войска, окружили и осадили Кушинагару, требуя выдать им священный шариль — пепел Будды. [2] Во главе осаждавших встали рыцари правившего в Капилавасту царского рода Шакья, из которого происходил и сам Будда. Готова была вспыхнуть братоубийственная война. Но верный ученик Будды — брахман Дрона напомнил о принесённом ими обете миролюбия и непричинения вреда ни одной живой твари. Он разделил шариль поровну между претендентами, которые вернулись в свои владения и поместили священные реликвии в специально воздвигнутые там ступы [24, с. 584 и сл., рис. 291-294; 31, с. 45].
Изображение осады Кушинагары, традиционное в восточнотуркестанском искусстве V-VI вв., интересно как своеобразное композиционное решение темы более общей, чем единичный эпизод буддийской легенды, как сюжет осады города или крепости вообще [8, с. 11]. [3]
Центральное место в этой композиции обычно занимает окружённый зубчатыми стенами город с двустворчатыми воротами посредине [29, рис. 45-47, 90, 91 и др.]. По обе стороны от ворот более или менее симметричными группами располагаются конные воины. Действующие лица, находящиеся в городе, ученики Будды, монахи и дэвы, данные обычно более крупно, чем осаждающие город рыцари, размещаются в верхней части композиции за зубцами городской стены или в идущей поверху галерее.
(98/99)
Посредине над воротами — груда пепла и Дрона, который собирается его поделить. Справа и слева от него — дэвы с реликвариями или урнами.
В отличие от других эпизодов «житийного цикла» Будды или легенд о его предшествовавших перерождениях, происходивших в глубокой древности в стране далёкой и не известной ни художнику, писавшему картину, ни тем людям, для которых он её создавал, такое событие, как битва или осада крепости, представлялось реальным, как осада современной им крепости реальными воинами, одетыми и вооружёнными так, как это определялось военным искусством, современным созданию памятника.
О том, насколько распространённым был в V-VII вв. сюжет осады Кушинагары и раздачи шариля и какое важное место в буддийском изобразительном искусстве Кучарского и Карашарского княжеств он занимал, можно судить по количеству изображений и тщательной разработке иконографии «рыцарей Шакья», являвшихся обязательными участниками этих событий. В числе матриц для изготовления скульптур, неоднократно находимых в руинах монастырских мастерских Восточного Туркестана, постоянно попадаются предназначенные для формовки фигурок конных и пеших «рыцарей Шакья».
Эти фигурки всегда привлекали к себе внимание исследователей прошлого Центральной Азии как чрезвычайно ценный источник по истории её материальной культуры, прежде всего по истории вооружения и ратного дела [32, с. 11-22; 30, с. 198, табл. F, рис. 1-17; 38, с. 129].
Академик С.Ф. Ольденбург в краткой предварительной публикации материалов «первой Русской Туркестанской экспедиции» 1909-1910 гг., проводившейся под его руководством, упоминает о найденных им при осмотре развалин храмов F4 и L6 в шикшинском мин-уе статуэток (рис. 9), которым предполагал посвятить специальную статью [4] [16, с. 7]. Попутно он указывает и на аналогичные фигурки, приобретенные в Куче М.М. Березовским, считая их более поздними, так как «...пластическая передача деталей одежды и вооружения, весьма близкая натуре на шикшинских вещах, заменяется в кучарской скульптуре росписью, более обобщённой, стилизованной и условной» [5] (рис. 8). Действительно, замена пластической передачи деталей скульптуры раскраской, а также обилие разнообразных украшений, часто непонятных и функционально неоправданных в доспехах кучарских воинов — как на скульптурных, так и на живописных изображениях — характерны как будто бы для более позднего времени, особенно же для тех памятников, на которых заметно сказалось влияние Китая. Но быть может, как сразу же оговаривает высказанное предположение сам С.Ф. Ольденбург, это различие стилистическое [16, с. 78].
Если рассматривать сцены «Осады Кушинагары» и прежде всего изображеённых на них «рыцарей Шакьев» как источник по истории вооружения воина Центральной Азии эпохи раннего средневековья, то все кучарские фигурки их, как скульптурные, так и живописные, можно считать восходящими к значительно более раннему времени, чем карашарские, отражающими, быть может, действительно «сасанидскую» или «согдийскую» культурную традицию [33, с. 11-12; 32, с. 277]. Их панцири с высокими защитны-
(99/100)
ми воротниками, сложно орнаментированные кирасы, зооморфные наплечники и наколенники претерпевают в иконографии буддизма длительную эволюцию, превращаясь в фантастическую броню многочисленных божеств и мифологических персонажей [2, рис. 11, 15; 37, с. 62-63, рис. 25] «богатырского» класса, особенно пышную в искусстве позднейшего (танского) китайского буддизма [7, с. 178, табл. 1, 7; 19, табл. XXX, 2; 33, рис. 50-62; 30, табл. F, рис. 1-17].
Существенным доводом в пользу более поздней датировки шикшинских рыцарей является наличие стремян, всегда чётко изображённых и в скульптуре и в живописи Шикшина (рис. 12). Отсутствие же стремян у всадников, осаждающих город на росписях Кучара, даёт как будто основание датировать их временем значительно более ранним, чем карашарские, т.е. IV-V вв. [40, с. 29; 30, с. 199, табл. Е, рис. 25]. Впрочем, вполне вероятно, что здесь мы встречаемся с сознательной архаизацией изображения рыцаря. Возможно, что канонический в кучарском искусстве образ представителя господствующего класса — военной аристократии, образ идеального рыцаря [9, с. 59; 10, с. 27; 13, с. 55, 62], подобного «рыцарям Шакья», сложился как изображение конника, всадника на коне ещё в то время, когда стременами не пользовались. Одним из характерных признаков таких изображений стало естественное при посадке без стремян положение ступни с оттянутым вниз носком. Включение этого признака в изобразительный канон, быть может, объясняет такое же положение ступней у кучарских рыцарей и в тех случаях, когда они представлены не всадниками, а пешими, стоящими вместе со своими домочадцами перед алтарём, в качестве донатора [26, табл. XXXII; 33, рис. 11]. Изображённые рядом с ними представители других социальных групп или иконографических типов — монахи, слуги, даже индийские божества — стоят в естественной позе, опираясь на всю ступню [33, рис. 20].
«Великая Кончина» и «Осада Кушинагары» — сюжеты традиционные для кучарского искусства V-VII вв., в Карашарском оазисе засвидетельствованы самыми старыми из сохранившихся наземных и пещерных храмов (С4, F4, L6, пещ. 7, 9, 11), датируемых VII-VIII вв. Более поздние (IX-XI вв.) памятники Восточного Туркестана, представляющие искусство махаяны, обращаются к «житийным» сюжетам реже. Они исчезают или отодвигаются на второй план, уступая место молебственным и репрезентативным типа пранидхи — принесение обета и изображение божества «во славе» со всеми символами его могущества.
Большое панно, занимающее весь простенок в заднем отсеке обходного коридора пещеры 11 шикшинского монастыря с изображением осады Кушинагары, является, быть может, самым поздним памятником такого рода.
Этот храм в пещерном комплексе Шикшина заслуживает особого внимания по ряду причин. Его сооружение относится скорее всего ко времени не ранее конца VI — начала VII в. В пользу такой датировки говорит, в частности, и общий план пещеры, особенно форма обходного коридора, образующего небольшую дугу, что характерно для архитектуры VII-VIII вв. [29, с. 5]. При посещении этой пещеры немецкой экспедицией проф. Грюнведеля в 1907 г. на полу целлы среди обломков гигантской статуи, повидимому главной «алтарной», были найдены многочисленные листы и обрывки рукописей, написанных письмом брахми, как выяснилось потом, «на тохарском языке β». Эти рукописи несомненно были вложены в статую при её освящении, что могло произойти не позднее начала VIII в. [29, с. 202; 12, с. 43]. Но изображённые по традиции на передней стене донаторы-уйгуры выполнены совсем в той же манере, что и подобные портреты в настенных росписях, на вотивных флажках и иконах-свитках, найденных в Идикут-шари, Безеклике, Муртуке и других местах турфанского оазиса времени наивысшего расцвета сложившегося там уйгурского государства, т.е. X-XI вв.
Пещера 11 просуществовала долго. Росписи, украшавшие её стены, несомненно, подновлялись и переписывались, причём изменялся не только
(100/101)
стиль письма, но и сюжеты. Существование на стенах этой пещеры нескольких слоёв разновременной живописи отметил уже С.Ф. Ольденбург, снявший несколько кусков её с правой от входа стены целлы [16, с. 20]. При реставрации этих фрагментов в Эрмитаже удалось отделить небольшие образчики живописи нижнего слоя, позволившие составить некоторое представление о её стиле и даже возможном содержании.
Роспись верхнего, последнего за время жизни пещеры слоя оказалась не совсем обычной для такого обычного типа храма с обходной галереей, как пещера 11, а во многом и загадочной.
Проф. А. Грюнведель, посетивший, как было сказано, Шикшин двумя годами раньше Первой Русской Туркестанской экспедиции и заставший этот храм в несколько более сохранном виде, отметил «удивительную неодинаковость росписей правой и левой стен целлы» [29, с. 206]. Левая стена была занята одной большой многофигурной сценой какой-то, по-видимому бенаресской, проповеди. Роспись правой состояла из «трёх полей» — на среднем ещё с трудом угадывалась большая фигура сидящего на лотосе Будды, окружённого, как обычно, предстоящими небожителями, мирянами и монахами. На левом сохранились остатки изображения, как предполагал Грюнведель, также стоящего или сидящего Будды. Оба эти «поля» были настолько повреждены, что дать более точную интерпретацию изображённым на них сюжетам было невозможно. Лучше сохранилась на правой части стены «фигура стоящего божества» [6] [29, с. 209; 34, табл. 7]. Первым правильно определил это изображение как особую ипостась Будды акад. С.Ф. Ольденбург [16, с. 20].
В дальнейшем было обосновано его истолкование как дхармакая, т.е. истинносущего — космического тела Будды, заключающего в себе всё мироздание [5, т. 2, с. 396-399; 42, с. 109; 43, с. 1; 27, с. 131-134; 26, с. 27-40].
Учение о «трёх телах Будды»: нирманакая — «явленном теле», в котором Будда приходит в мир как учитель, самбхогакая — «теле блаженства», в котором он пребывает среди небожителей, и дхармакая, в котором он вмещает все элементы бытия и является истинносущим, абсолютом,— было важнейшим положением онтологии махаяны. Возможно, что три загадочные фигуры на правой от входа стене целлы 11-й пещеры не что иное, как выражение этого догмата в изобразительном искусстве [18, с. 254].
О торжестве махаяны свидетельствуют также росписи обходной галереи, где обычные для хинаянской схемы убранства храма изображения проповедей заменены сценами пранидхи — принесением обета Будде — заступнику и спасителю, с помощью которого может быть достигнута нирвана без особых усилий со стороны молящегося [18, с. 272; 31, с. 123, 126].
В заднем отсеке обходной галереи этого храма, на левой стене сохранились следы живописного изображения «Великой Кончины». Фигура лежащего на смертном одре Будды занимала более четырёх метров, а на противоположной стене, справа от совершающего ритуальный обход, помещалась сцена «осады крепости» и раздачи реликвий.
Большое, во весь простенок, панно (рис. 11) существенно отличается и по композиции и по стилю письма от многочисленных изображений этого события в кучарских храмах. Здесь нет даже попытки передать пространство при помощи обратной перспективы, что обычно для кучарских росписей [29, рис. 45-47, 90, 91, 117 и др.]. Вся поверхность стены разделена по горизонтали на две почти равные части. Нижняя, немного бóльшая по высоте,
(101/102)
окрашена в охряно-жёлтый цвет и разграфлена тонкими чёрными линиями на прямоугольники, передающие кирпичную кладку городской стены, увенчанной ступенчатыми зубцами.
Верхняя половина панно изображает галерею с навесом, опирающимся на лёгкие красные столбики-колонки с капителями-подбалками, характерные для центральноазиатского деревянного зодчества. Между колонками сидят, обратясь в три четверти к середине композиции, дэвы, держащие в руках урны с ещё пламенеющим пеплом. Дэвы сидят «по-европейски», скрестив в лодыжках спущенные ноги. Их позы и положение держащих урны рук сходны, но не повторяются полностью, что опровергает предположение об использовании живописцем трафарета [29, с. 15]. Карнация этих фигур, белая или тёмно-розовая, чередуется так же, как и цвет их одежды. У дэвов округлые юношеские лица с тонкими чертами, большие глаза, вьющиеся волосы, собранные в высокую причёску, украшенную драгоценностями и лентами. Моделировка объёма дана тонкой и ровной «проволочной линией», которую китайцы считали характерным приёмом хотанских мастеров [41, с. 34]. В целом эти изображения — прекрасный образец позднейшего этапа в развитии «местной» школы, ещё не подвергшейся сколько-нибудь значительному влиянию танской иконографии.
На фоне городской стены, занимающей всю нижнюю половину панно, асимметричными группами разбросаны фигуры «рыцарей Шакьев» (рис. 12), как обычно, значительно меньшего размера, чем обитатели города. Четверо из них сидят на слонах. Головы их нимбированы. По-видимому, это князья, а конники — дружина, хотя в остальном воины ничем друг от друга не отличаются; у всех лица, одежда, вооружение одинаковы. Слоны смехотворны: уши переданы в виде фестончатой драпировки, хобот напоминает набитый ватой чулок. Они взнузданы, как кони, но вместо седла на их спине укреплён — непонятно каким образом — совершенно плоский помост. Художник, безусловно, никогда не видел живого слона и плохо представлял себе, как на нём ездят.
Зато кони написаны мастерски, смелыми и лёгкими, каллиграфически точными росчерками кисти. Кони невысокие, на тонких, но крепких ногах с тучным корпусом, несколько вислым крупом и маленькой сухой головой на короткой плотной шее. Грива не густая, не подстриженная, свисает по обе стороны шеи; хвост завязан узлом.
Лошади холёные, раскормленные. Художник постарался как можно более точно показать великолепные стати той знаменитой породы центральноазиатских коней, которые так ценились в Китае и изображения которых мы знаем уже по рельефам из Улянцы (II в.) и многочисленным позднейшим памятникам скульптуры и живописи.
Сбруя шикшинских коней встречает аналогии в многочисленных памятниках изобразительного искусства и археологических находках, сделанных в Центральной Азии и за ее пределами [40, с. 639-644, табл. 47-49; 6, табл. XLII, XLIII; 35, с. 138]. [7]
На первый взгляд, конные воины, заполняющие всю нижнюю половину росписи и как бы разбросанные в пространстве перед служащей фоном крепостной стеной, создают впечатление беспорядочного движения множества разнообразных фигур. Однако, приглядевшись к ним внимательно, убеждаешься, что вся конница составлена всего-навсего из двух, многократно
(102/103)
повторяющихся изображений всадника — одного на правой, другого на левой половине картины. Кони справа стоят неподвижно, иноходцы на левой стороне стремительно скачут вперёд. Всадники почти ничем не отличаются друг от друга. В три четверти обращённые к зрителю, они крепко и спокойно сидят, опираясь на длинные стремена (рис. 12). И здесь предположение об использовании трафарета или припороха не подтвердилось. По-видимому, как это постоянно наблюдается в средневековой живописи Востока, даже хороший профессионал заучивал круг детально разработанных образцов для изображения персонажей и предметов, которые повторяются в довольно однообразном репертуаре его творчества. Только большие мастера в исключительных ситуациях вносили новшества в этот репертуар и предлагали другие решения.
Несмотря на фрагментарность нашего панно, на нём все же сохранилось вполне достаточно совершенно одинаковых всадников (или хотя бы каких-то их частей), чтобы рассмотреть и изучить во всех подробностях их одежду, вооружение, сбрую, коней (рис. 13).
При общем сходстве всех изображённых здесь реалий с теми, что мы видели на статуэтках из шикшинских храмов F4 и L6, «рыцари Шакьи» из пещеры 11 относятся к более позднему времени и носят, по-видимому, действительно бытовавшие здесь в то время, а не традиционные или канонические в иконографии воинов, доспехи [3, с. 255; 6, с. 142-148; 37, табл. 48-49]. На них — длинный, доходящий до щиколоток панцирь из связанных при помощи ремешков в горизонтальные ряды металлических пластин. В отличие от кучарских воинов и рыцарей из храмов F4 и L6, их доспехи лишены защитного воротника, горловина плотно охватывает шею. По всей длине спереди идет застёжка. Не пытаясь решать вопроса о происхождении именно такой формы пластинчатой брони, всё же отметим, что именно для неё находится наибольшее количество аналогий и в памятниках изобразительного искусства и в археологическом материале Центральной и Средней Азии и Сибири [6, с. 142-148, табл. XXXII-XLIII; 14, с. 125; 38, с. 129; 21, с. 216]. В совершенно неизмененном виде этот доспех, так же как склёпанные из четырёх секторов полусферической формы шлемы, бытовал в Тибете ещё в начале нашего века [22, с. 210-213; 29, рис. 210; 34, табл. 21]. На макушке шлемы украшались вставленными в невысокую трубку перьями или кистью из волоса или шерсти. Мечи — прямые, длинные, с крестовиной, рукоять слегка изогнута вперёд и с левого края ребристая, по-видимому, мечи были однолезвийными [6, табл. XXXII]. Носили меч всегда слева, подвешенным на двойной портупее к поясу. Ножны мечей были украшены несложным орнаментом из продольных бороздок (деревянные, обложенные тиснёной кожей?), с оконечием и двумя обоймицами с ушками (металлическими?), за которые они подвешивались (рис. 14, 15). На левом же боку воина помещалось налучие с вложенным в него луком. Много изображений налучий сохранилось на росписях в кучарских пещерах и на фрагментах статуэток «рыцарей» из шикшинских храмов F4 и L6. Оно представляло, собой футляр из кожи, украшенный тиснением и металлическими накладками (иногда они делались из барсовой или тигровой шкуры [28, табл. XXX; 33, с. 21, рис. 32]. Лук со спущенной тетивой, обёрнутый куском ткани, входил в этот футляр глубже, чем до половины. На росписи из пещеры 11, кроме описанного выше, тщательно завёрнутого (запасного?) лука, рядом с ним, также у левого бедра всадника, помещается второе налучие с луком совершенно иной формы. Оно хорошо знакомо нам по многочисленным изображениям в миниатюре XIV в. и более позднего времени, а также по подлинным предметам самого разнообразного происхождения, от Маньчжурии до Кавказа и Малой Азии, имеющимся в коллекциях многих музеев и частных собраний оружия. Такие налучия предназначались для готовых к бою напряжённых луков рефлектирующего типа [33, с. 19-20, рис. 70].
А. Грюнведель, сделавший во время своей работы в Шикшине прорисовку одного из всадников, изображённых на правой стороне панно [29, рис. 209], ошибочно принял это налучие за колчан [29, рис. 469а].
(103/104)
Колчаны всех без исключения рассматриваемых здесь изображений воинов имеют ту характерную форму высокого усечённого конуса с воронкообразным верхом, снабжённым открывающимся вниз клапаном, которая была распространена среди кочевого и осёдлого населения Центральной Азии VI-XII вв. Колчан носили справа. Стрелы с плоским ромбовидным черешковым наконечником вкладывались в колчан остриями вверх. На скульптурных изображениях таких колчанов из храмов F4 и L6 хорошо видно, как уложены стрелы, какова форма их наконечников, видны также и шарики-свистки, помещавшиеся под наконечниками.
«История Северных дворов» [3, с. 255] сообщает о быте карашарцев: «...вооружение состоит из лука, сабли, [8] лат и копья». Длинные, выше человеческого роста копья с ромбовидным или ланцетовидным втульчатым остриём, украшенные небольшим флажком, были также у «рыцарей» из храмов F4 и L6 в Шикшине. Такие копья с флажком изображались на персидских, индийских и среднеазиатских миниатюрах ещё в XVI-XVIII вв. На росписи из пещеры 11 их нет. Только два всадника, возглавляющих левую группу, держат древки больших, своеобразной формы знамён, похожих на вымпел. В правой руке большинства всадников — клевец или боевой чекан. Левой рукой они держат поводья. За спиной — круглые щиты.
Пещерный храм 11 был в плачевном состоянии уже в 1907 г., когда его посетил А. Грюнведель, который ограничился только калькированием нескольких наиболее сохранных и различимых фигур. Но именно «плачевное состояние» памятника заставило С.Ф. Ольденбурга попытаться спасти от полного уничтожения хотя бы часть этих уникальных во многих отношениях росписей, в настоящее время хранящихся в Эрмитаже.
Панно с изображением осады крепости, как и вся живопись пещеры, было сильно разъедено солями, красочный слой осыпался, а во многих местах был умышленно сбит иконоборцами-мусульманами или просто из озорства случайно заходившими в пещеру людьми.
От восседавших на крытой галерее крепости дэвов сохранились только части трёх фигур справа и нижняя половина одной слева. Три из четырёх ехавших на слонах «князей» почти полностью уничтожены. Уничтожена и вся средняя часть вверху композиции — то место, где должен был находиться раздающий шариль Дрона. Зато в середине нижней половины росписи сохранились остатки сцены, совершенно необычной и не встречавшейся ни на одном из известных нам изображений «Осады Кушинагары». Это группа человеческих фигур, окруживших стоящую на первом плане статую. Статуя написана жёлтой охрой с чёрным контуром. На стенных росписях Центральной (и Средней) Азии так передают обычно золото или бронзу. Статуя помещается на невысоком квадратном постаменте, украшенном по сторонам довольно сложным растительным и геометрическим орнаментом. Она изображает коленопреклонённого юношу в традиционном убранстве дэва или бодхисаттвы. Руки изваяния сложены перед грудью в молитвенном жесте (анжали). Голова окружена нимбом (рис. 16, 17).
Несколько позади и левее статуи сохранилась нижняя (до талии) половина фигуры стоящего монаха или будды, — если судить по одежде — малиновому плащу и виднеющемуся из-под него подолу исподней монашеской юбки (утарасангхики). Справа от статуи на таком же расстоянии различима стоящая фигура с обнажённым торсом и скрытыми складками богатой одежды бёдрами и ногами. Две такие же фигуры видны несколько левее. Все персонажи обращены в сторону золотой статуи, руки их сложены в молитвенном жесте.
Говоря о загадочности такой интерполяции в традиционную каноническую композицию, С.Ф. Ольденбург делает только краткое замечание: «по-видимому, здесь изображено освящение статуи» [16, с. 12]; такое же предположение высказал и А. Грюнведель [19, с. 211].
(104/105)
Если согласиться с этим, то возникает вопрос, каким образом связывается подобная сцена с основным сюжетом панно — «разделом пепла Будды» и почему она оказалась включённой в данную роспись. Не является ли эта статуя также реликварием? Нам известно о существовании в Средней и Центральной Азии антропоморфных реликвариев и костехранилищ ещё в глубокой древности. Использование статуй для вложения различных священных предметов засвидетельствовано находками подобного рода в Восточном Туркестане и других странах Центральной Азии.
В религиозной практике ламаизма иконы-статуэтки, бурханы, становятся культовыми предметами только после того, как облечённый соответствующими правами священнослужитель вложит в полое нутро фигурки дарующие ей магическую силу предметы: написанные на бумаге, шёлке, берёсте молитвы и священные формулы, благовония, семена растений, монеты и, наконец, и это особенно важно, реликвии — шариль, частицы тела святых— зубы, волосы, обрезанные ногти и даже высушенные испражнения «святых людей» [17, с. 274].
А.М. Позднеев, сообщая по личным наблюдениям о способах сохранения останков почитаемого лица (не обязательно духовного звания, но также общественных или политических деятелей, признанных церковью «хубилганами», т.е. воплощением святых) говорит: «все части набальзамированного и высушенного (в сидячем положении) тела, свободные от одежды, особенно лицо, покрывают позолотой... поверх позолоты разрисовывают брови, усы и губы... (т.е. делают подобие позолоченной статуи.— Н.Д.). Такой труп хубилгана называют „шарилем”. Его садят в серебряный субурган и с торжественным богослужением ставят в кумирню, после чего ему воздают божеские почести» [17, с. 275].
В тех случаях, когда применялась не мумификация, а сожжение тела умершего, «...из пепла с примесью к нему лучшей и нарочно для этого приготовленной глины с клейким веществом делают небольшие статуэтки бурханов, которые ставят в кумирнях или в нарочно устраиваемых для того часовнях на месте погребения хубилгана» [17, с. 222].
О почитании останков святых, а равно и высокопоставленных мирян сообщает уже Рашид ад-Дин. В главе о событиях 687/1288 г. он пишет: «Седьмого сафара (т.е. 13 марта) сего же года преставилась Кутлуг-хатун, дочь Тенгу Тургеша из племени Айрат, мать царевича Хатай-огула. Седьмого рабия-ал-авваля (т.е. 14 апреля) из улуса Нокия к берегу Джуи-нау прибыли гонцы и привезли шариль. А у буддистов так полагают, что когда сожгли Будду Шакьямуни (Шакьямуни-бурхан), то перед его сердцем — косточка, прозрачная, как гемма — не сгорела дотла, её называют „шариль”. Они (буддисты) считают, что если кого-либо, достигшего высоких степеней вроде Будды Шакьямуни, сожгут, то шариль его не сгорит. Итак, когда его принесли, Аргун-хан его почтил и осыпал золотом и веселились и несколько дней предавались играм и развлечениям» [44, с. 207].
О погребальных обрядах карашарцев-буддистов середины I тысячелетия н.э. «История Северных дворов» сообщает: «Янки или Харашар... умерших сжигают и потом хоронят. По прошествии семи дней снимают траурное одеяние... Письмо у них одинаковое с индийским. Поклоняются духу неба и купно следуют закону Шагя-мониевому, особенно чтут восьмое число (число 8 — сакральное у буддистов.— Н.Д.) второй луны и восьмое число четвертой луны» [9, с. 255].
Пепел Будды был разделён на восемь частей по числу индийских княжеств, пожелавших быть его наследниками, и по числу мест, где произошли самые важные события в земной жизни «Учителя».
В сценах осады Кушинагары и раздела шариля всегда есть изображение восьми небожителей, держащих урны или реликварии, готовых принять от Дроны положенную долю священного пепла.
Несмотря на чрезвычайную фрагментарность росписи из пещеры 11, её композиция может быть восстановлена достаточно точно и нет сомнения относительно того, сколько дэвов с урнами вмещала идущая над крепост-
(105/106)
ными стенами галерея. Их было восемь, не больше и не меньше. Поэтому трудно предположить, что золотая статуя могла стать девятым вместилищем пепла Шакьямуни. Невероятно это в данном случае ещё и потому, что изображенная на нашей росписи статуя представляет не будду, а бодхисаттву или дэва, т.е. персонаж более низкого ранга, чем будда. Его коленопреклонённая поза и руки, сложенные в молитвенном жесте — анжали (в буддийской иконографии символизирующем почтительное преклонение, молитву, прошение), заставляют считать золотую статую изображением адоранта — просителя, ожидающего благодеяния и милости, а не божеством, которому молятся или помощи которого ждут. Окружающие статую фигуры, насколько их можно разглядеть, стоят вокруг статуи также в почтительных, приветственных позах с молитвенно сложенными руками.
Можно предположить, что в каноническую композицию осады города Кушинагары и раздела шариля Будды Шакьямуни, сохранившуюся на стене обходного коридора пещеры 11 в Шикшине, включена сюжетно не связанная непосредственно с этим событием сцена освящения золотой статуи-реликвария, заключающей в себе пепел какого-то местного святого или знатного человека, по всей вероятности причастного к сооружению или украшению данного храма. В таком случае статуя, изображающая коленопреклонённого, с молитвенно сложенными руками бодхисаттву, должна здесь представлять покойного донатора, чей пепел она заключает, молящегося о перерождении в «чистой земле» (раю) в ранге бодхисаттвы. Если согласиться с этим предположением, то загадочная интерполяция в сцене «осады Кушинагары» из пещеры 11, явится интересным свидетельством использования в Восточном Туркестане VIII-IX вв. статуй как мощехранилищ или реликвариев.
[1] Мин-уй (букв, «тысяча домов») — термин, принятый в топонимике Туркестана для обозначения руин буддийских монастырей.
[2] Шариль — от санскр. šārīra — тело живого существа, а также мёртвое, труп, останки, мощи, реликвия. В Центральной Азии этот термин, по-видимому, произносился шариль [44, с. 207] или шарилъ [17, с. 275].
[3] Композиционная схема, разработанная в буддийской иконографии Центральной Азии как иллюстрация к легенде об осаде Кушинагары, использовалась для изображения осады городов или крепостей вообще в миниатюрах к эпическим или историческим произведениям и на предметах прикладного искусства Переднего Востока и Центральной Азии [8, с. 11-12; 11, с. 176-177, рис. 1; 15, с. 61-62; 20, № 2; 21, с. 192-194; 36, с. 533, примеч. 5].
[4] К сожалению, эта работа С.Ф. Ольденбургом не была осуществлена.
[5] Интересно в данном случае сравнить лица скульптурных изображений Шакьев из шикшинских храмов F4 и L6 и фигурок, приобретённых в Кучаре М.М. Березовским. По сравнению с шикшинскими, которые С.Ф. Ольденбург характеризует как «великолепные», представляющие «гандхарскую школу» [16, с. 7], кучарские статуэтки выполнены весьма небрежно, на невысоком профессиональном уровне. Для изготовления их лиц была использована матрица, подходившая для изображения любого «милостивого» (śanta) персонажа — небожителя, принца, юноши или женщины. Но так как шакьи должны были представлять не просто положительного, а «мужественного» (vira) героя, изготовлявший их мастер нанёс красной краской на лоб и щеки чёрточки-морщины, весьма условно передающие мимику гнева и мужественную суровость.
Лица же статуэток из шикшинских храмов, выполненные хорошими мастерами, действительно в пластике передают мимику гнева, напряжённости мужественного воина: брови насуплены, на лбу морщины, глаза выкатываются из орбит, губы сурово сжаты [30, с. 153; 4, с. 92; 13, с. 26].
[6] Окружающая «фигуру стоящего божества» мандорла с радужной каймой заполнена стилизованными волнами, среди которых растут цветы лотоса и другие водяные растения, плавают утки и змеиные божества «наги», символизирующие водную стихию. Эти последние дали А. Грюнведелю основание толковать загадочное божество как «Нагараджу» — царя нагов. Голова и ступни «фигуры стоящего божества» были уже тогда полностью утрачены, обнажённое тело сплошь покрыто разнообразными изображениями: посредине торса — горы Сумеру с райским чертогом на вершине, на плечах и бедрах — окружённых нимбами «Стражей Четырёх сторон Света», на коленях — солнца и луны [29, с. 210, рис. 468].
[7] Уздечка состоит из щёчных и подбородочного ремней, нахрапника, начельника. Иногда (например, на скульптуре из L6) украшена широким налобником из разнообразных бляшек.
Интересны S-образные псалии, к нижнему концу которых прикреплялись поводья. Такая же форма удил засвидетельствована на росписях Кучара, в Пенджикенте, на Варахше, на конных изображениях Турфанского оазиса. Седло с довольно высокими передней и задней лукой и выступающими полицами, обтянуто кожей (?) и положено на закруглённый чепрак. Паперсь и пахва украшены бляшками, крупными кистями и бубенчиками. Стремена на ремнях (путлищах) с пряжкой, позволяющей регулировать их длину, прикреплены к ленчику довольно далеко от передней луки. Само стремя развитой формы (ушко отделено от дужки), подножие широкое, слегка скруглённое, с прорезями (рис. 13).
[8] В данном случае правильнее назвать это оружие «мечом», так как сабля — оружие с кривым клинком — появляется позднее, в IX-X вв.
1. Беленицкий А.М. Вопросы идеологии и культов Согда по материалам пянджикентских храмов. — Живопись древнего Пянджикента. М., 1954.
4. Герасимова К.М. Памятники эстетической мысли Востока. Тибетский канон пропорций. Улан-Удэ, 1971.
5. Гpек Т.В., Дьяконова Н.В. Концепция дхармакая в изобразительном искусстве Центральной Азии. — Труды международной конференции по истории, археологии и культуре Центральной Азии в кушанскую эпоху. 27/IX — 6/Х 1968. Т. 2. М. 1975.
7. Дьяконова Н.В. К истории одежды в Восточном Туркестане II-VII вв. — Страны и народы Востока. Вып. 22. Кн. 2. М., 1980.
8. Дьяконова Н.В. Композиция и сюжет в изобразительном искусстве Центральной Азии. — Тезисы докладов на сессии, посвящённой истории живописи стран Азии 15-20/XI 1965 г. Л., 1965.
9. Дьяконова Н.В. Образ человека в искусстве средневековой Сериндии. — Тезисы докладов на юбилейной сессии Государственного Эрмитажа. 1964 г. Л., 1964.
10. Дьяконова Н.В. Положительный герой в искусстве Центральной Азии. — Тезисы докладов на научной сессии Государственного Эрмитажа 1968 г. Л., 1969.
11. Дьяконова Н.В., Смирнова О.И. К вопросу об истолковании пенджикентских росписей. — Исследования по истории культуры народов Востока. Сборник в честь академика И.А. Орбели. М.-Л., 1960.
12. Кpаузе В. Тохарский язык. — Тохарские языки. М., 1959.
13. Лихачёв Д.С. Человек в литературе древней Руси. М., 1970.
14. Литвинский Б.А. Древние кочевники «Крыши мира». М., 1972.
16. Ольденбуpг С.Ф. Русская Туркестанская экспедиция 1909-1910 годов. Краткий предварительный отчёт. СПб., 1914.
17. Позднеев A.M. Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в Монголии в связи с отношением сего последнего к народу. СПб., 1887.
18. Pозенбеpг О.О. Проблемы буддийской философии. Пг., 1918.
20. Теpеножкин А.И. К истории искусства Хорезма. — «Искусство». М., 1939, № 2.
(106/107)
22. Цыбиков Г. Ц. Буддист-паломник у святынь Тибета. Пг., 1919.
23. Сunningham A. The Stupa of Bharhut. L., 1879.
24. Fouсher A. L’Art Gréco-bouddhique du Gandhara. Vol. 1. P., 1905.
25. Franke O. Die Ausbreitung des Buddhismus von Indien nach Turkistan und China. — Archiv für Religionswissenschaft. Bd. 12. Lpz., 1909.
26. Gaulier S., Jera-Bezard M., Maillard M. Bouddhism in Afghanistan and Central-Asia. P. 1. Leiden, 1974.
27. Gropp G. Archäologische Funde aus Khotan. Bremen, 1974.
28. Grünwedel A. Alt-Kutscha. B., 1920.
29. Grünwedel A. Altbuddhistische Kultstätten in Chinesisch Turkestan. В., 1912.
30. Hallad М. Sculptures, peintures et objets divers. MPP. Vol.2. Toumchouq. P., 1964.
31. Kern H. Manual of Indian Buddhism. Strassburg, 1896.
32. Laufer B. Chinese Clay Figurines. P. 1. Chicago, 1914.
33. Le Соq A. Bilderatlas zur Kunst und Kulturgeschichte Mittel-Asiens. B., 1925.
34. Le Coq A. Buddhistische Spätantike in Mittelasien. Bd VI/II. B., 1928.
35. Maenchen-Helfen O. Crenelated Mane and Scabard Slide. — Centr. As. Journal. Vol. 3, № 2. The Hague, 1960.
36. Orbeli J. Sasanian and Early Islamic Metallwork. — SPA. Vol. 1. Leningrad — New York, 1938.
37. Rowland B. Zentral-Asien. Baden-Baden, 1970.
38. Russell R. Oriental Armour. L., 1967.
39. Stein A. Serindia. Ox., 1921.
40. Uray-Kohalmi K. Die Bedeutung der Kulturgeschichte des Karpatenbeckens für Erforschung der Kultur der zentralasiatischen Reiternomaden. B., 1964 (Schriften zur Geschichte und Kultur des alten Orients).
41. Waldsсhmidt E. Über die Darstellungen und Stil der Wandgemälde aus Qyzil bei Kutscha. — BSM. VI/II. B., 1928.
42. Wiliams J. The Iconography of Khotanes Paintings. — EW. New Ser. № 25. 1973.
43. Yasimura Rei. A Study on «Jen Chung» Images of Vairocana Dharma-Kaya. — The Bijutsu Kenkyu. № 203. March 1959.
44. Рашид ад-дин Фазлаллāх. Джāми’ ат-тавāрих. Т. 3. Баку, 1957 (на перс. яз.).
|