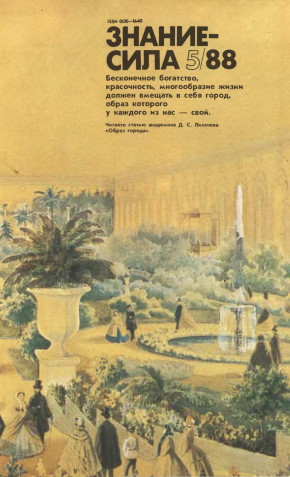 И.М. Дьяконов
И.М. Дьяконов
История эмоций?
// «Знание-сила». 1988. №5 (май). С. 36-42.
В отличие от представителей других наук историк не ставит себе целью предсказание тех явлений, которые могут наступить. Поскольку мы имеем дело с уже совершившимися событиями, историк, основываясь на материалистической теории, может лишь объяснять причинную связь происходивших общественных перемен и других важных событий. Объяснять в масштабе тысячелетних эпох и огромных континентов или в масштабе сравнительно небольших участков пространства и времени. Предсказание тем не менее возможно и для историка: иной раз, исходя из имеющихся данных, мы можем экстраполировать ещё не известный факт, который потом подтверждается при появлении новых источников или при рассмотрении старых под новым углом зрения.
Такие моменты в нашей повседневной работе доставляют нам удовлетворение. Это проверка правильности наших научных построений, она побуждает к дальнейшим трудам. При этом мы всегда исходили и исходим, во-первых, из всеобщности закономерности исторического, как и всякого другого материального процесса, и, во-вторых, из диалектической связи производительных сил и производственных отношений: производительные силы имеют тенденцию развиваться до предела, допускаемого производственными отношениями, а когда этот предел достигнут,
(36/37)
он резко преодолевается созданием новых производственных отношений, включая образование новых классов и разрушение и исчезновение старых.
При рассмотрении процесса истории моему поколению были свойственны известные систематические ошибки. Например, несмотря на неоднократные предупреждения авторитетных мыслителей, что развитие происходит не прямолинейно, а по значительно более сложным динамическим законам, мы в прошлом поддавались позитивистской иллюзии, будто движение исторического процесса есть постоянное, пусть не равномерное, а скачкообразное, но всё-таки постоянное совершенствование общества. На самом же деле, — как мы видим, на протяжении многих древних веков — развитие идёт не от худшего к лучшему, а лишь от менее сложного к более сложному, причём, разумеется, это более сложное может проявляться в виде новой, ранее «неслыханной простоты». Исторический процесс внутренне противоречив. Его никак нельзя соотносить с категориями этическими, например, утверждать, что каждая новая общественная формация непременно приносит больше блага большему числу людей в обществе. Так, вопреки очевидности, но в угоду упрощённому пониманию прогресса, мы в лекциях и учебниках изображали европейское средневековье не просто как изменение и усложнение социального механизма, но как прямой прогресс, имея в виду улучшение материальных и моральных жизненных условий для большего, чем ранее, процента людей. Так и в отношении древнего общества: прогресс в первобытности заключался, конечно, отнюдь не в улучшении жизненных условий
(37/38)
для большинства, а, напротив, в улучшении жизни меньшинства, но зато и в совершенствовании механизмов, способствующих дальнейшему развитию производительных сил. Кроме того, мы недостаточно держали в памяти то обстоятельство, что всякое прогрессирующее развитие предполагает потери, которым мы не уделяли того внимания, какого они заслуживают. Всё это заставляет оглянуться назад и посмотреть, что нами достигнуто в изучении древней истории, скажем за последние полстолетия, и, кроме этого, постараться наметить некоторые из тех новых направлений, по которым наша наука может двигаться дальше — не в ущерб уже сложившимся направлениям.
Пятидесятилетний опыт изучения древнего мира, обобщённый в трехтомнике «История древнего мира» *, [сноска: * Трёхтомник, о котором говорит Игорь Михайлович, был создан им с группой учёных десять лет назад. Свет он увидел в 1984 году [в 1982 и 1983], сейчас готовится переиздание [1989].] показывает, что нам, действительно, удаётся теперь на материале древней истории установить некоторые весьма общие, типичные для всей этой многотысячелетней эпохи закономерности.
Процесс социально-экономического развития, как уже ясно, не вполне однороден, и в нём прослеживаются очень разные специфические пути. В древности они в значительной мере определялись условиями экологии, хотя этим не ограничивается разнообразие исторического процесса. Эту пестроту не следует абсолютизировать и видеть в истории обществ, как часто делают на Западе, ничем не объяснимое, незакономерное мелькание событий, как в калейдоскопе. За особенным ясно прослеживается общее, диалектика производительных сил и производственных отношений; и именно это общее определяет течение исторического процесса в целом. Но мы не исполнили бы долга работников науки, если бы не уделили внимания особенностям развития отдельных обществ, и не могли бы их объяснять и — в дальнейшем — также предсказывать. Между тем имеется ряд явлений, достаточно важных для понимания истории в целом, которые мы до сих пор объяснить не умеем. И чем более общество усложняется, тем больше таких явлений.
Нередко, например, отдельные события, связываемые нами с переходом общества к другой формации, либо запаздывают, либо, напротив, опережают полное развитие критической ситуации, предопределяющее такой переход в сфере области производительных сил и производственных отношений. Так, в Англии надо считать критическим моментом промышленный переворот, сделавший необходимым переход к новым производственным отношениям. Он падает на конец XVIII — начало XIX века, между тем буржуазная революция, принявшая религиозную форму, произошла в Англии более чем на столетие раньше. С другой стороны, власть окончательно, и вполне практически, перешла к буржуазии только с середины XIX века.
Примеры такого рода можно во множестве найти в древности. Очень трудно установить, где пролегает водораздел между ранней и поздней древностью, может быть, ещё труднее определить грань между древностью и средневековьем и ещё труднее — синхронизировать критические явления в областях социально-экономической и идейно-эмоциональной.
Так, недостаточно объяснён нами неожиданный скачок в развитии культуры Греции в VIII-V веках до новой эры. Неуспех одних религиозных течений, например религиозной реформы Эхнатона в Египте, и успех других. Чем это вызвано? А между тем принятая религия меняла не только облик отдельных обществ, но и сам ход исторического процесса. Так было на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Средней Азии в раннем средневековье с приходом ислама; так было с буддизмом первых индийских империй и зороастризмом — иранских. Возникновение феодальных социально-экономических отношений в поздней Римской империи связано с появлением христианства. Особенно много подобных вопросов ставит перед историком поздняя древность.
В эту эпоху для обслуживания усложняющихся социумов традиционных идеологий уже повсюду не хватает. Недостаточно хотя бы для того, чтобы идеологически обосновать самоуправление отдельных городов внутри империй, поэтому неизбежна трансформация традиционной идеологии. Но и за пределами городов наблюдается идеологический кризис, повсюду возникают этико-догматические учения, вначале не отвергающие религиозную традицию, а лишь накладывающиеся на неё (так было с Сократом, с Иисусом, с Буддой). Но постепенно эти учения не только складываются в догматические религии, но и начинают письменно фиксировать общеобязательный для верующих закон — зороастризм, буддизм, джайнизм, различные и все обновляющиеся формы брахманизма-индуизма; учения, растущие из иудаизма, и в первую очередь христианство, значительно позже — и ислам; конфуцианство;
(38/39)
даосизм; манихейство и т.д., и т.п. Историку становится всё труднее выводить изменение структуры общества прямо и непосредственно из изменения производительных сил, а вследствие этого — из изменения производственных отношений. Типологически общества как будто стоят примерно на одном производственном уровне и не должны бы так сильно отличаться в идеологическом отношении, а тем не менее отличаются, и часто — очень сильно. Очевидно, реальная картина развития сложнее, чем нередко представляется нам.
Между тем кризисом, к которому приводит развитие производительных сил, и его результатом в виде изменения общественной структуры должен произойти другой кризис — в социальной психологии, в массовой психологической мотивации поступков: то, что было невозможным, должно стать возможным и желательным, а то, что было возможным, должно быть обществом осуждено. Ценности должны стать антиценностями, а антиценности — ценностями. Только тогда начинают приходить в действие людские массы и происходят общественные изменения. Значение социальной психологии для исторической науки сейчас уже замечено многими историками, например во Франции.
Идея становится материальной силой, когда она овладевает сознанием масс [парафраз цитаты из статьи К. Маркса «К критике гегелевской философии права», 1844]. Однако сознание масс никогда не пустует. Наполненное же традиционными представлениями, оно не понуждает массы к таким социальным действиям, которые были бы направлены на общественные изменения. Чтобы массы начали действовать и действие было направлено на изменение условий существования, нужно, чтобы в обществе возобладала психологическая тенденция к развитию. Должна быть также сначала преодолена мощная тенденция человека к подражанию («как все, так и я»), и новая предлагаемая модель поведения должна в свою очередь вызвать массовое подражание.
Психология показывает, что потребность в подражании начинает доминировать в основном в двух случаях. Во-первых, в процессе обучения. Психологи говорят — в процессе вооружения социальными навыками: в виде ли прямого подражания поступкам взрослых, в виде ли детской игры, развивающей прежде всего эмоциональную и даже художественную сферу. И, во-вторых, в кризисной ситуации, с осмыслением которой данная личность не справляется («не знаешь — действуй как все»). Однако потребность в подражании, способная преодолеть потребность в освоении нового, может проявляться и в других случаях. Она как фон присутствует постоянно среди мотиваций действий человека; важно уловить те ситуации, в которых этот фон «забивается» и подавляется более побудительными потребностями.
Насколько сильна в человеческом обществе потребность в подражании, видно из известного социально-психологического опыта с ромбом и треугольником. Группе испытуемых, из которых тридцать человек знает секрет эксперимента, а десять не знает, последовательно показывают на экране различные геометрические фигуры, которые каждый присутствующий должен быстро назвать. Всё проходит единогласно, пока экспериментатор не покажет на экране ромб, а предупреждённые испытуемые выкрикивают: «Треугольник!». Непредупреждённые говорят: «Ромб». Опыт продолжается, по истечении времени на экране — снова ромб, и снова все кричат «треугольник». Постепенно число тех, которые утверждают, что видят ромб, уменьшается; лишь меньшинство непредупреждённых продолжает настаивать на ромбе, если эксперимент продолжается достаточно долго. Таким образом, для большинства потребность в подражании оказывается сильнее потребности в узнавании нового. Это и естественно, потому что экспериментатор (как в данном опыте) или проповедник новых идей (как происходит в реальной истории) действует не на рассудок, который в таком опыте вовсе не включается, а на эмоциональную сферу. Поэтому рациональные новые идеи с таким трудом прокладывают себе путь. И если традиционные идеи продолжают владеть эмоциональной сферой, новая идеология — даже если она соответствует изменившимся условиям производительных сил — не сможет пробить себе дорогу. Когда же она дорогу себе всё-таки пробивает, то лишь потому, что превращается в источник эмоционального возбуждения (латинское — agitatio). Вот почему Робеспьер был руссоистом, а не вольтерьянцем, — ибо Вольтер и весь «энциклопедии скептический причёт» апеллировал к рассудку, а Руссо — к эмоциям.
Но то, что верно в отношении Робеспьера, ещё во много раз более верно относительно деятелей, приводивших в движение социумы времён первобытности и ранней древности. Традиционные идеологии ранней древности были мифологиями, и тут историку приходится иметь дело с так называемым мифологическим мышлением. Вследствие этого, говоря о человеке первобытности и ранней древности, следует иметь в виду не концепции, а лишь
(39/40)
метонимические цепочки и пучки образов.
До эпохи поздней древности человеческое мышление не имело сформулированных логических обобщающих понятий: их нет в текстах, нет и в самом языке. Но и когда они были созданы, то Аристотель и другие великие умы трудились для немногих, и не их идеям суждено было двигать души масс. За последние сто лет учёные разных стран много и усердно работали над историей идей, но для того, чтобы понимать механизмы исторических событий нужна история социальных эмоций.
Всякая новая идея должна пробивать себе дорогу в общество путём пропаганды. Этот термин, введённый впервые католической церковью в эпоху контрреформации (в 1622 году папой Григорием XV была учреждена римская конгрегация пропаганды), мы будем употреблять в широком смысле — как распространение оспариваемых идей: ясно, что там, где никто не спорит, не может быть и пропаганды. Она возможна только в борьбе — либо с традицией, либо с другой пропагандой. Уже в древности была возможна не только религиозная пропаганда, но и, например, идеи царственности, династии, империи или военная. Но успех пропаганды (в ту или иную историческую эпоху древности) целиком зависит от способности воспринять её.
Что пропаганда по преимуществу действует именно в эмоциональной сфере, видно уже из того, что главный её козырь — справедливость. Одно из самых важных утверждений древневосточного царя, с которым он выступает в пропагандировании своей царственности, — это утверждение, что он следует справедливости, kittum, misarum. Конечно, под образ справедливости исторически подводятся самые различные вещи — например, в Месопотамии периодический мораторий на долги, сохранность семейного земельного владения и т.п., — но во всяком случае агитация за справедливость в данном и всех подобных случаях есть воздействие на эмоциональную сферу: потребность в справедливости, как известно современным психофизиологам, заложена в физиологии эмоций человека и даже высших животных.
Можно было бы привести различные примеры того, как социальная психология позволяет историку разъяснить те или иные социально-исторические обстоятельства; например, можно объяснить, почему ученики Сократа и Иисуса состояли в основном из неженатых мужчин * [сноска: * Дело в том, что быть носителем новых идей — это социально-психологическая роль мужчин; но женатый мужчина выполняет другую роль — хранителя очага, при нормальном состоянии общества более важную.]; но примеры заняли бы слишком много места, статья же посвящена не конкретным исследованиям, а возможным новым направлениям исторического изучения.
Итак, перед современным историком древности стоит проблема социально-психологическая. Из всего сказанного следует, что для объяснения общественных событий и перемен в древности необходимо, помимо изучения проблем истории материальной культуры и истории социальных структур и механизмов, привлекать и историческую социальную психологию.
Это, конечно, давно ясно. Но тут мы сталкиваемся с серьёзной трудностью, которая заключается в том, что социальная психология была до сих пор наукой экспериментальной, и её методы для историка неприменимы.
Думаю, я мог бы предложить некоторые пути преодоления этой трудности. Мне кажется, что возможный путь в том, чтобы ориентироваться на психологические универсалии, на те особенности психологии, прежде всего те эмоциональные потребности, которые неизбежно присутствуют у человека как вида — в той или иной степени, в той или иной форме, но существуют независимо от социальной среды; а социальная среда придаёт им собственно конкретную форму. При этом необходимо будет при исследовании идеологии отделять психологически универсальное (но гипертрофированное или, наоборот, подавленное) от своеобычного, обусловленного, например, факторами экологическими или тем, что место, время ограничивают социальные факторы. Например, выделение факторов, обусловленных местом и временем, вероятно, будет особенно важно для изучения египетской религии: здесь надо уловить то, что не универсально для человечества, и, не ограничиваясь констатацией своеобычности, постараться её объяснить, постараться найти то, что было или не было дополнительным воздействующим фактором, И.П. Павлов сказал бы «раздражителем».
Вообще говоря, придётся рассматривать факторы культуры и идеологии не сами по себе, а исходя из тех психологических и прежде всего эмоциональных потребностей, которым эти факторы удовлетворяют или, напротив, которые они подавляют. При этом прежде всего воздействие пропаганды надо рассматривать не само по себе, а как ответ на воздействие традиционной идеологии и как нечто действующее в борьбе с нею. Придётся отмечать
(40/41)
те исторические моменты, когда взамен борьбы пропаганды с традицией мы уже наблюдаем внутреннюю борьбу довольно частных интересов. Кроме всего прочего, изучая явление пропаганды, нельзя ни на мгновение упускать из виду явление feed-back: обратного воздействия пропаганды на пропагандирующих.
Тут вступает в действие ещё один весьма мощный социально-психологический фактор, а именно потребность быть ведомым (и при том любимым, почитаемым), гораздо более мощная и распространённая, чем потребность быть лидером.
В настоящее время история культуры обычно подаётся как собрание сведений о науке, литературе, искусстве, иногда религии, очень редко — о повседневном быте. Между тем культура — это всё то, что, будучи творимо обществом, на общество воздействует и побуждает людей к общественно значимым действиям. И мне кажется, следовало бы подходить к истории культуры как к истории факторов, воздействующих на социальную психологию. Психологию же надо для этого рассматривать не как некоторое целое, а учитывая различные психологические, даже психофизиологические механизмы, на которые оказываются различные воздействия. Сюда в меньшей степени будут входить биологические потребности, такие, как потребности удовлетворения голода и воспроизводства вида, в большей — потребности социальные, такие, как потребность занять стабильное место в социуме. Далее — потребность избавиться от дискомфорта, психологически воспринимаемого как несправедливость; потребность быть ведомым, уверенным, защищённым. И лишь затем уже потребность вести. Помимо того, важна потребность познания окружающей среды, включая познание нового, как в окружающем предметном мире (что развивается в науку), так и в мире эмоций по поводу окружающего мира и социума (что развивается в искусство).
Мне представляется важным, что придётся ориентироваться не на психологию как нечто целое (как целым является психика индивида), а на определённые потребности и характерные группы реакций. Как индивид находит тысячу разнообразных реакций на воздействие внешней среды, так и социум. Но в пределах социума психолог сможет нам показать статистически, какие потребности и в каких условиях более развиты, какие имеют меньшее распространение и какие способны меняться в зависимости от характера среды, в данном случае — социальной среды. Знания же о том, как воздействуют на психику факторы культуры и идеологии, позволят предсказывать, предполагать, на какие её стороны воздействие будет наибольшим.
Зная характер человека, можно более точно предсказать и его реакцию на какое-либо наше действие. Так же и с обществом,— сопоставив исторически известную реакцию его с исторически известными воздействующими факторами, можно будет понять механизмы мотивации социального поведения.
Однако сложные проблемы психофизиологии лежат вне компетенции гуманитариев. Нам придётся брать готовыми те сведения, в том числе и статистического характера, какие даёт наука психология, и в особенности экспериментальная психология, — следовательно надо брать в своё распоряжение достаточно подробные данные о взаимодействии различных психологических потребностей и об относительной способности одних потребностей в определённых условиях стимулировать или подавлять другие. Но сами социальные стимулы и сами социальные реакции, бесспорно, лежат в пределах ведения историка и историка культуры.
Если мы будем рассматривать именно с этой точки зрения различные идеологические и особенно религиозные течения (а религия всегда эмоциональна, тем она и действенна), мы, вероятно, сможем объяснить, почему одни учения нашли большой отклик в историческом развитии общества, содействовали существенным историческим переменам, а другие — быстро ушли в небытие. Приведу один, — конечно, чрезвычайно грубый — пример, но он, по крайней мере, показывает направление мысли, которое я имею в виду. Почему монотеизм в чистом виде долго не мог получить широкого распространения и большей частью проявлялся в своем массовом варианте — как квазимонотеизм? Ведь и христианство никейского символа веры можно считать монотеизмом лишь с большими оговорками. Почему монотеизм или квазимонотеизм Эхнатона были обречены на скорое вымирание, а квазимонотеизм Заратустры или апостола Павла получил широчайшее и длительнейшее распространение? Отвечать, что общество при Эхнатоне ещё не созрело для монотеизма, — значит не сказать ничего: в чём сказывается зрелость общества для восприятия монотеизма? Учение Эхнатона было нежизнеспособно потому, что Эхнатон ни у кого не будил положительных эмоций — ему нечего было обещать людям.
Мы уже сейчас довольно много знаем об эмоциональной стороне работы человеческого мозга.
(41/42)
Поэтому, помимо социально-психологических проблем, мы уже умеем ставить и проблемы механизма становления определённой эмоциональной личности, выработки в ней определённых соотношений, скажем, между потребностью познания и потребностью занятия стабильного места в социуме, потребностей сохранения навыков — и вооружения новыми навыками, потребностью самозащиты — и агрессии. Если — когда-нибудь в будущем — мы сумеем правильно оценивать исторически слагающиеся социально-психологические ситуации, то мы, вероятно, сумеем ответить на вопрос, почему этой эпохе и этому народу понадобился или мог у них возобладать — у одних — именно Чингисхан, а у других — Пётр Пустынник или Людовик XIV, или Эхнатон, или Хаммурапи.
Пока же, мне кажется, нужно переориентировать наши историко-культурные исследования древности на познание социально-психологических причин и социально-психологических следствий различных культурных явлений, прежде всего — следствий эмоциональных. Мы должны нацеливать историко-культурные работы на изучение соотношения линии традиции и линий различных пропаганд в культурной истории; наконец, на ясное познание связи культурных явлений с социально-производственным субстратом — субстратом, движущимся и всегда как-то осмысляемым и повторяемым в психике людей. Другими словами, на ясное познание связи с диалектикой производительных сил и производственных отношений.
|