|
|
|
Могила после завершения расчистки. Вид с юго-востока. Аржан 2, могила 5.(Открыть в новом окне) |
Захоронение мужчины с гривной и нашитыми украшениями из золота. Деталь могилы. Аржан 2, могила 5.(Открыть в новом окне) |
а правая покоилась в тазовой области. Головы откатились несколько назад и в сторону; очевидно, первоначально они покоились на подушках из органического материала.
На шею мужчины была надета гривна весом около 1,5 кг, украшенная спиралевидным рельефным изображением пантер, горных козлов, верблюдов и других животных. На её четырёхгранную переднюю часть были напаены [напаяны] многочисленные маленькие фигурки пантер. Рядом с черепом лежали пять пластинок в форме животных: четыре лошади с подогнутыми ногами и фигурка оленя, закреплённая на крыловидной подставке. Все они были вырезаны из толстого листового золота и украшены каплевидными эмалевыми вставками. Несомненно, эти предметы закреплялись на головном уборе покойного. Четыре из них — на боковых сторонах (на двух пластинах лошади смотрели налево, на двух других — направо), а олень, судя по всему — на верхней части. Верхняя одежда, вероятно накидка, ниспадавшая до бёдер, была украшена фигурками пантер, отлитыми из золота — их более 2500; на их обратной стороне имелось по три крошечных ушка для крепления. Все они однотипны и производят впечатление отлитых в одной форме. Тем не менее их можно разделить на две подгруппы: одни обращены влево, другие — вправо. Фигурки пантер лежали слоями в верхней части тела; их точное положение было тщательно задокументировано. Реконструкция одеяния ещё не завершена. Очевидно, что распределение пантер на одеянии
было не случайным, а следовало определённому образцу: их распределение на накидке имитировало оперение.
От мужских брюк органических остатков не сохранилось. Это могли быть брюки из войлока или кожи с нашитыми тысячами миниатюрных золотых бисерин (около 1 мм в диаметре), которые заправлялись в сапоги с золотыми отворотами, также сделанные из войлока или кожи и доходившие до колен. Справа на поясе у мужчины висел железный кинжал в деревянных ножнах. Кинжал подвергся сильной коррозии. Во время реставрационных работ в Эрмитаже обнаружилось, что в ножны, помимо кинжала, были вложены ещё два ножа с кольцевидной рукояткой. Рукоятки всех трёх предметов инкрустированы золотом, а у кинжала — ещё и клинок; на инкрустации снова встречаются фигурки пантер, спиралевидные и крыловидные мотивы. Кинжал крепился к поясу при помощи ремня, на существование которого также указывают элементы его золотых украшений.
Прочие предметы вооружения лежали поодаль от мужчины в северном углу погребальной камеры: горит (футляр для стрел и лука), нагайка и боевой топорик. Изначально все эти предметы крепились на северо-восточной стене погребальной камеры. В колчане находилось множество стрел, деревянные древки которых сохранились и даже несут следы попеременно нанесённых красных и чёрных полос. Сильно повреждённые коррозией трёхгранные наконечники стрел выполнены из железа. На них можно различить следы золотой и серебряной инкрустации, передающие изображения животных и спиралевидные мотивы. Одна из сторон колчана выполнена из толстого листового золота в виде рыбьей чешуи, книзу лист изгибался вправо, заострялся, покрывая дно колчана. Контур задней стороны горита, изготовленного предположительно из дерева, был украшен золотыми фигурками кабана; кабаньи фигурки также украшали колчан и в других местах. Под колчаном были обнаружены остатки лука, который в собственном футляре крепился к гориту. Исключительно богатым было массивное литое украшение ремней колчана в виде спиралевидных мотивов. Лямки перекидывались перекрёстно через туловище вокруг бёдер. При этом лицевая сторона выделялась благодаря многочисленным украшениям. В качестве застёжки служила массивная золотая бляшка, увенчанная головами двух хищных птиц. Между горитом и северовосточной стеной лежал боевой чекан, который изначально также был подвешен на стене. Сохранилась его деревянная рукоятка. Сам чекан изготовлен из железа, хотя и сильно корродированного, но всё же сохранившего следы позолоты. Между колчаном и чеканом была обнаружена нагайка, от которой осталась лишь ручка длиной около 40 см, украшенная золотой листовой отделкой.
Одеяние погребённой в камере женщины имеет некоторое сходство с нарядом мужчины. Так же рядом с головой женщи-
Западный угол погребальной камеры; растительные остатки рядом с деревянной чашей с золотой ручкой и золотым гребнем с деревянными зубцами. Аржан 2, могила 5.
(Открыть в новом окне)
ны были обнаружены четыре золотые пластинки от головного убора: две лошадиные фигурки с поджатыми ножками, одна ажурная крыловидная накладка и маленькая фигурка пантеры. К этому нужно добавить пару золотых шпилек, 35 и 30 см длиной, украшенных вырезанными фигурками животных, увенчанных в одном случае тщательно проработанной фигуркой оленя, в другом — крыловидным орнаментом. Над черепом были обнаружены остатки золотых полос. Очевидно, эти предметы составляли высоко поднятый стволообразный головной убор, известный по женским погребениям «замёрзших» курганов Алтая. [9] На женщине была надета накидка, украшенная большим количеством фигурок пантеры, причём в данном случае речь идёт об отчеканенных из листового золота предметах. Все они смотрели влево. И в данном случае их расположение не было случайным: оно строго следовало определённому криволинейному образцу, передававшему мотивы пламени или оперения. Хотя окончательная реконструкция одеяния ещё не завершена, положение некоторых фигурок в области шеи указывает
на существование стоячего воротничка. В области груди были обнаружены многочисленные бусины различных форм (биконические, кольце- и бочкообразные) из граната, малахита, золота, бирюзы, сердолика и стекла. К этому набору нужно добавить две золотые покрытые зернью серьги с каплевидными эмалевыми вставками.
Брюки на женщине не сохранились. Выше колена было, однако, обнаружено скопление многочисленных мелких бусин; возможно, они украшали в виде широкой ленты нижнюю кайму юбки, доходившей до колен. В районе ступни — сотни золотых бисерин размером 1 мм, а также две украшенные зернью золотые полоски с каплевидными эмалевыми вставками, которые были нашиты, вероятно, на кожаную или войлочную обувь. Судя по аналогичным находкам с Алтая, на женщине могли быть надеты войлочные сапожки до колен с полоской украшений, [10] в данном случае из золота. На правом бедре женщины висел кинжал с литой золотой ручкой, с тщательно проработанным узором. К поясу женщины был также прикреплён миниатюрный котелок из золота, украшенный несколькими изображениями животных, переходящими одно в другое.
Справа от женщины, ближе к западному углу камеры, были обнаружены крупные бусы из янтаря, тщательно обработанная деревянная чашка с золотой ручкой в форме копыта, золотой гребень с деревянными зубцами, две каменные чаши для воскурений, маленький бронзовый сосуд и золотая пектораль, украшенная в «зверином стиле», которая, несомненно, принадлежала женщине, даже если и не была на неё надета. Все эти предметы были обнаружены в скоплении растительных остатков, обработка которых ещё не завершена, хотя об идентификации дикой вишни (Cerasus fructicosa Pall.), дикой моркови (Daucus carota L.) и земляного миндаля (Cyperus esculentus L.) можно говорить с большой вероятностью. Нельзя не отметить, что все эти виды не произрастают в Туве и соседних регионах, а происходят, скорее всего, из северной части Центральной Азии. [11] Плоды хранились в нескольких частично сохранившихся кожаных мешках, закупоренных деревянными пробками. Мешки изначально висели на стене в западном углу погребальной камеры.
При демонтаже погребальной камеры в заполнении между внешней её стеной и стенкой могильной ямы были обнаружены ещё два бронзовых котелка. Полный обзор богатейших находок этого «царского» погребения должен быть сделан после окончательного завершения реставрационных работ. Всего в могиле 5 было обнаружено около 9300 предметов (без бусин), из которых более 5700 изготовлены из золота. Могила 5, таким образом, является не только самым богатым находками погребением скифского времени в Сибири, но представляет собой уникальный комплекс, открытие которого — большая удача для евразийской археологии.
Работы 2002 г. были нацелены на то, чтобы исследовать оставшуюся нераскопанной часть кургана. Крупная воронка, за-
полненная обвалившейся землёй и каменными плитами, указывала на попытку грабительских раскопок к западу от центра кургана. Предполагалось, что на этом месте находилось разграбленное центральное погребение. При раскопках были выявлены две большие пустые ямы, которых достигли и грабители (размером 5,50×5,0 м (восточная) и 4,0×4,0 м (западная)). В них не было обнаружено ни малейших следов каких-либо предметов: ни находок, ни костей, ни частей погребальных конструкций, из чего можно заключить, что обе ямы никогда не содержали погребений. Они были выкопаны, а затем засыпаны той же землёй. О назначении этих ям в настоящий момент можно лишь гадать. Прежде всего, приходит мысль о том, что это имитация погребений, которые должны были обмануть грабителей, всегда начинавших свои поиски с центра курганов, т.е. для защиты находившейся северо-западней могилы 5; так, во всяком случае, и произошло. Однако возможны и иные предположения. Вероятно, ямы были связаны с культовыми действиями, которые совершались здесь до возведения каменной платформы.
В ходе работ было найдено 26 погребений. Большая их часть датируется скифским временем. Значительно позднее, в начале средневекового периода в каменную платформу было впущено ещё 9 погребений. Другие погребения скифского времени, сооружённые вместе с «царским» погребением 5, представляют собой каменные ящики с одним покойным. Только в могилах 14 и 20 были погребены по двое взрослых мужчин, в могиле 13 — 3 женщины. Судя по положению скелетов, все они были погребены в скорченном положении с подогнутыми в различной степени ногами, головы при этом были обращены на северо-запад. Сооружение погребения 5 явилось определяющим для прочих погребений кургана. Расположение погребений скифского времени не было случайным. Они располагались или ниже каменного вала, охватывающего курган, или приблизительно на оси, идущей в направлении юго-запад — северо-восток через центр кургана. Согласно антропологическим данным, в погребениях 7, 12, 13А, 13В и 22 были захоронены женщины в возрасте 16-18 и 45-50 лет, а в погребениях 8, 14, 20, 24, 25 и 26 — взрослые мужчины от 20-25 до 45-50 лет. [12] При взгляде на план кургана обращает на себя внимание, что женские погребения сосредоточены в его юго-западной части; на юго-западе лежала также женщина из парного «царского» погребения 5. В противоположность этому, как показало уже погребение 5, северо-восток кургана был предназначен для захоронения мужчин. Исключение составляют лишь мужские погребения 24 и 26 на юге кургана.
В юго-восточной части кургана было обнаружено конское погребение 16. Его размеры составляли 8 м в длину и 3 м в ширину; оно содержало 14 лошадей, которые были уложены на животе рядом друг с другом, головами на запад. Бронзовые упряжь и наременные украшения всех 14 лошадей идентичны. При каж-
Конская могила после расчистки. Аржан 2, могила 16.
(Открыть в новом окне)
дой из них имелось по две пластины из листового золота, из которых одна украшала гриву, другая — хвост животного. В отличие от всех погребений кургана скифского времени, совершённых до его возведения, 14 лошадей из могилы 16 были погребены позже. Каменная платформа была в этом месте вскрыта для того, чтобы поместить 14 лошадей, и закрыта впоследствии таким образом, что его нельзя было обнаружить, и само оно ко времени раскопок было незаметно. Реконструкция кургана показывает, что между погребением лошадей и остальными погребениями кургана существовала внутренняя взаимосвязь, природу которой ещё предстоит определить.
На восточном краю кургана были помещены рядом друг с другом 15 каменных плит. На каждой из них были нанесены фигурные изображения, ориентированные на восток или юго-восток. Эти петроглифы представляют, с одной стороны, тех животных, которые встречаются на предметах, украшенных в «зверином стиле» (олени, кабаны, верблюды, лошади), с другой — человеческие фигуры, двухколёсная колесница с колесом со спицами или изображения щита. [13] Связь этих изображений с развитым раннескифским искусством очевидна. Концентрация петроглифов на восточном краю кургана должна быть связана с топографией кургана и его округи.
Входя с востока по единственному удобному естественному пути на равнину Аржана и преодолев последние возвышенности, попадаешь на курган Аржан 2 и именно с той стороны, на которой выставлена эта галерея петроглифов. Погребения скифского времени кургана Аржан 2 должны рассматриваться как одновременные. В пользу этой точки зрения говорят как многочисленные типологические взаимосвязи, так и тот факт, что, за исключением конского погребения 16, сначала были совершены погребения, а затем над ними была устроена каменная платформа. Сравнение курганов Аржан 1 и Аржан 2 не оставляет сомнений в том, что курган Аржан 2
Каменная плита с изображением оленя с восточного края кургана. Аржан 2.
(Открыть в новом окне)
значительно моложе и ни в коем случае не может связываться с раннескифской культурой Тувы IX-VIII вв. до н.э.
«Звериный стиль» предметов из кургана Аржан 2 имеет ясные параллели в стадии Алды-Бель — следующей стадии раннескифской культуры Тувы. [14] Типичным является отсутствие грифонов и других фантастических существ: изображались только реально существовавшие животные (пантера, олень, лошадь, верблюд, горный козёл и т.д.). Женская пектораль из «царского» погребения 5 имеет параллель, также изготовленную из толстого листового золота, из большеречинской культуры (Быстрянское) на Верхней Оби. [15] Схожие пекторали часто встречаются в Туве в погребениях алды-бельской ступени. [16] То же самое можно сказать о поясах с украшениями из погребения 5, а также из инвентаря погребений 20 и 26 кургана Аржан 2. [17] Подобные пояса, густо усеянные бронзовыми украшениями, характерны для ранней Тасмолинской культуры в Центральном Казахстане, хотя на отдельных предметах встречаются и другие мотивы. [18] На Центральную Азию указывают и некоторые другие элементы, например каменная курильница из западного угла погребения 5, имеющая параллели в районе Аральского моря и в Северном
Казахстане. [19] Оружие из железа с накладками из листового золота известно там с раннескифского времени, что показывает аналогичный предмет из кургана 53 Южного Тагискена, [20] в то время как данные из Тувы достигают лишь эпохи Саглы Бажи. [21]
Даже эти общие соображения о датировке Аржана 2 показывают, что этот курган относится к тому более позднему этапу раннескифского периода, который представлен в Туве этапом Алды Бель (VII-VI вв. до н.э.). Дендрохронология позволяет точнее датировать погребение 5: использованные для сооружения гробницы лиственичные брёвна были срублены между 619 и 608 гг. до н.э., что даёт возможность отнести памятник к концу VII в. до н.э.
Эти предварительные выводы оставляют ещё многие вопросы открытыми. Ответ на них может быть дан лишь после детального исследования всего комплекса находок. И всё же некоторые наблюдения, сделанные во время раскопок, уже сейчас представляются примечательными. К ним, во-первых, относится конское погребение 16, совершённое в более позднее время, во-вторых, пустые ямы 9 и 10 в центре кургана, и в-третьих, ось, идущая через курган через могилу 5 в направлении юго-запад — северо-восток, с концентрацией женских погребений на юго-западе, а мужских — на северо-востоке. Приведённые результаты определённо указывают на то, что этот курган представляет собой не просто место для захоронений. Здесь в связи с погребениями княжеской пары в могиле 5 должно было быть разыграно культовое действие по строго определённому сценарию. Таким образом, границы между культовой площадкой и местом для захоронения исчезают, и их нельзя однозначно отделить друг от друга.
[1] О кургане Аржан 1 см.: Grjaznov M.P. Der Großkurgan von Aržan in Tuva, Südsibirien // Materialen zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie (München). 1984. Bd. 23.
О датировке раннескифских комплексов Аржана 1 и его соотношении с памятниками Новочеркасского типа см.: Kossack G. Neufunde aus dem Novočerkassker Formerkreis und ihre Bedeutung für die Geschichte steppenbezogener Reitervölker der späten Bronzezeit // II Mar Nero. 1994. Vol. 1. S. 19 ff.
[2] Grjaznov M.P. Op.cit. S. 17 ff. Abb. 10-11.
[3] Ibid. S. 33 ff. Abb. 12.
[4] Ibid. S. 70 ff, 74 f.
[5] Kossac G. Op.cit. S. 19 ff.
[6] Grjaznov M.P. Op. cit. S. 60 ff. Abb. 1a; 5b.
[7] Работы 1998, 2000 и 2001 гг. были профинансированы Евразийским отделом Германского Археологического института (Берлин). См. следующие опубликованные к настоящему времени отчеты: Čugunov K.V., Parzinger H., Nagler A. Der Fürst von Aržan. Ausgrabungen im skythischen Fürstengrabhügel Aržan 2 in der südsibirischen Republik Tuva // Antike Welt. 2001. Bd. 32, №6. S. 607 ff.; Čugunov K.V., Parzinger H., Nagler A. The Golden Grave from Arzhan // Minerva.
(29/30)
2002. Vol. 13, №1. P. 39 ff.; Čugunov K.V., Parzinger H., Nagler A. An Elite Burial of the Period of the Early Nomads in Tuva. A Preliminary Report of the 2001 Russian-German Archaeological Expedition // Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia. 2002. Vol. 10. №2. P. 115 ff.
[8] Polos’mak N.V., Seifert M. Menschen aus dem Eis Sibiriens. Neuentdeckte Hügelgräber (Kurgane) im Permafrost des Altai // Antike Welt. 1996. Bd. 27, №2. S. 87 ff. Abb. 29.
[9] Полосьмак H.B. Всадники Укока. Новосибирск, 2001. С. 143 сл. ил. 96-98- 102; 103; 167.
[10] Там же. С. 123 сл., ил. 90, 91.
[11] Любезно сообщено Р. Неефом (Германский Археологический институт, Берлин).
[12] Антропологические определения были выполнены Т. Чикешевой (Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской Академии наук, Новосибирск).
[13] Grjaznov M.P. Op.cit. Abb. 29, 4.
[14] Грач А.Д. Древние кочевники в центре Азии. М., 1980. С. 78 сл.
[15] Грязнов М.П. Алтай и приалтайская степь // Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. Сер. Археология СССР. М., 1992. С. 161 сл., табл. 70, 24.
[16] Čugunov K.V. Der skythenzeitliche Kulturwandel in Tuva // Eurasia Antiqua. 1998. Bd. 4. S. 273 ff. Abb. 4, 8; 7, 1.
[17] Семёнов В.А. Сыпучий Яр — могильник алды-бельской культуры в Туве // Евразия сквозь века. СПб., 2001. С. 167 сл., ил. 2-13.
[18] Вишневская O.A. Центральный Казахстан // Степная полоса Азиатской части СССР... С. 130 сл., табл. 53, 2, 14, 15.
[19] Вишневская O.A. Культура сакских племён низовьев Сырдарьи в VII-V вв. до н.э. М., 1973. С. 87, табл. 24, 4.5; Яблонский Л.Т. Саки Южного Приаралья. М., 1996. С. 34, ил. 21, 1; Итина М.А., Яблонский Л.Т. Саки Нижней Сырдарьи по материалам могильника Южный Тагискен. М., 1997. С. 42, ил. 22, 6; 55, 10; 65, 7; Хабдулина М.К. Степное Приишимье в эпоху раннего железа. Алматы, 1994. С. 60, табл. 58, 3.
[20] [Вишневская О.А.,] Итина М.А. Ранние саки Приаралья // Проблемы скифской археологии. М., 1971. С. 31 сл., табл. 5, 9. [неверная ссылка]
[21] Семёнов В.А. Указ.соч. С. 185 сл.
Вклейка между с. 512-512: ^
Иллюстрации (лист II) к статье К.В. Чугунова, Х. Парцингера, А. Наглера «“Большие курганы” в сибирской степи: скифское княжеское погребение Аржан в Туве».
Аржан 2. Погребение 5. Золотые пластинки с головного убора мужчины, а также прочие золотые пластинки (справа); две иглы и золотые ленты с женского парика (слева).(Открыть в новом окне) |
Аржан 2. Погребение 2. Золотые рыбы с украшений лошадей.(Открыть в новом окне) |
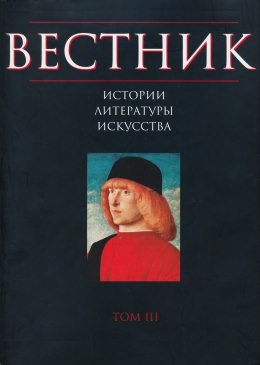 К.В. Чугунов, Х. Парцингер, А. Наглер
К.В. Чугунов, Х. Парцингер, А. Наглер





