|
Пегтымель. Наскальные изображения (композиция 1 на камне II).(Открыть рис. в новом окне) |
Пегтымель. Петроглифы (композиции 5 и 6 на камне II).(Открыть рис. в новом окне) |
сторону реки. На его фронтальной скальной плоскости — большая композиция с оленями и антропоморфными духами, на левой плоскости, образованной скалой, — многофигурная сцена охоты на оленей и морских животных; на правой — магическая сцена поколки оленей на плаву.
Почти все петроглифы Пегтымельского обрыва выполнены техникой неглубокой выбивки и протирания и представляют собой светлые по сравнению с фоном нетронутой поверхности камня силуэтные фигуры. Лишь несколько изображений сделаны глубокой точечной выбивкой.
Каждый рисунок был тщательно прорисован простым карандашом и эстампирован в натуральную величину. Затем рисунки фотографировались на чёрно-белую и цветную пленку и снимались на кинопленку.
Обследованные петроглифы — самые северные из известных ныне археологии. Они освещают период истории народов Чукотки, когда у них ещё не было домашнего оленеводства, но уже был развит морской зверобойный промысел, и дают конкретное представление о жизни как прибрежных морских охотников, так и внутриконтинентальных охотников на северного дикого оленя. Они представляют собой ценный источник для изучения истории искусства, в частности малоизвестного искусства северных народов.
С.Н. Астахов
Поиски памятников каменного века в Туве. ^
// АО 1967 года. М.: 1968. С. 159-161.
Палеолитический отряд Саяно-Тувинской экспедиции продолжал разведку памятников каменного века. Было завершено обследование низовьев р. Хемчик, левого притока Енисея, осмотрены правобережье Улуг-Хема (Енисея) у речек Ортаа-Хем и Куйлуг-Хем и ущелье последнего, а также широкая долина р. Шагонар. Осмотр её первоначально производился с вертолёта, откуда хорошо видны края и участки обнажения террас и все особенности рельефа, которые не всегда различимы с земли, особенно если они заросли кустарником или лесом. Наконец, осмотрены пункты, где палеолит был найден раньше. Это оз. Чедер и с. Ийме.
В результате работ этого года найдено 28 пунктов, которые можно датировать каменным веком: 16 — по р. Хемчик, 1 — у речки Ортаа-Хем и 11 — у речки Куйлуг-Хем.
В долине р. Хемчик каменные изделия залегали на поверхности небольших участков террас разных уровней (от 8 до 40 м), на современной поверхности или в самом верху (2-5 см) рыхлых отложений. На правобережье Улуг-Хема (Ортаа-Хем, Куйлуг-Хем) стоянки первобытного человека располагались на обширных конусах выноса речек. Они при-
урочены к своеобразным длинным и нешироким галечно-валунным гривам, где сохранилась небольшая толща жёлто-коричневой супеси, на размытой поверхности которой и лежали кремнёвые отщепы, нуклеусы и орудия. Датировка обнаруженных комплексов из-за малочисленности орудий, отсутствия фауны и геологических данных очень трудна.
Тува. Древнекаменные стоянки. Кремнёвые орудия:
1-5 — Порог 1; 6, 7 — Улуг-Бюк 5; 8 — Улуг-Бюк 7; 8-11 — Биче-Бюк.
Предварительно можно лишь указать, что пункты Порог I, Улуг-Бюк 7, Тыттыг-Чарык-Аксы 2, Ортаа-Хем, Куйлуг-Хем 1-3, Улуг-Хая 1-3 древнее остальных. Лишь Улуг-Бюк 7 и, видимо, некоторые из правобережных (улуг-хемских) местонахождений можно отнести к верхнему палеолиту.
Остальная группа стоянок разделяется на более древнюю (Улуг-Бюк 6, Тыттыг-Чарык-Аксы 3, Биче-Бюк, Усть-Хемчик 1-3, Кожув) и более молодую группы явно неолитического облика. Это деление сугубо
предварительное, так как проблема датировки каменного века в Туве, как и его генезиса, остаётся очень трудной. В связи с этим встает задача детального геолого-геоморфологического изучения Центральной Тувы, а также установления закономерностей в расположении стоянок относительно древнего рельефа.
З.А. Абрамова
Исследования палеолита Енисея. ^
// АО 1967 года. М.: 1968. С. 161-162.
Работа палеонтологического отряда Красноярской экспедиции сосредоточилась на стоянках, расположенных на берегах речки Таштык, близ её устья, в 2 км вверх от с. Батени. На поселении Таштык I были заложены три раскопа. В раскопе I вскрыто два культурных слоя (глубина 4,80 м и 5,10 м от поверхности), разделенных стерильной прослойкой светло-серого песка. Верхний культурный слой представлен размытыми очажными пятнами, количество находок очень невелико. Толщина нижнего слоя достигает 40 см. В нём помимо расколотых костей животных и отбросов производства каменных изделий обнаружено много микроскребков, скрёбел, долотовидных орудий. Наряду с грубыми галечными орудиями типа чопперов здесь найдены микронуклеусы и микропластинки правильных очертаний с ретушью по продольным краям. Из костяных орудий можно отметить обломок иглы с круглым ушком.
В раскопе II культурные слои очень бедны находками, но благодаря положению раскопа в самом крае террасы здесь сохранилась ненарушенной стратиграфическая картина.
На раскопе III, заложенном на северном участке дороги, в 15 м от бровки террасы, вскрыты три культурных слоя, залегающих в трёх последовательных геологических напластованиях: первый — на глубине 4,30-4,40 м от поверхности в нижней части красновато-палевой супеси; второй — непосредственно под первым, в светло-сером песке, и третий — в верхней части буровато-палевого суглинка, подстилающего серый песок. В восточной части раскопа геологические образования, заключающие первый и второй культурные слои, подверглись сильному размыву и перемешиванию. На остальной площади раскопа три культурных слоя различаются очень чётко как по залеганию, так и по обширным углистым линзам. Углистые линзы густо насыщены обломками костей животных и расщепленным камнем. Для всех трёх слоёв характерен высокий процент орудий: скребков, часто микролитических, скрёбел и различных скребловидных орудий: pièces écaillées. Встречаются также ножи, проколки, чопперы. В третьем слое собрана довольно большая коллекция костяных орудий: игл, шильев, наконечников. Из украшений любопытна плоская подвеска из твёрдого зелёного камня типа нефрита с зашлифованными поверхностями. Фаунистические остатки, по пред-
варительному определению Н.М. Ермоловой, принадлежали северному оленю, лошади, благородному оленю, зубру, аргали, сайге, кулану, песцу, зайцу, волку, крупному хищнику, пищухе, мышевидным грызунам и птицам. По предварительным данным можно утверждать преемственность в культурном развитии всех трёх слоёв, несомненно связанных с афонтовской культурой.
Видимо, и стоянка Таштык II, расположенная на противоположном берегу р. Таштык, относится к той же культуре. Культурный слой залегает в красновато-палевой супеси и соответствует первому культурному слою стоянки Таштык I. В северной части раскопа обнаружено обширное скопление костей животных и расщеплённого кремня. Кроме галечного нуклеуса в начальной степени скалывания и гальки, расколотой пополам, здесь найдено 27 осколков, 114 отщепов различных размеров и 1152 чешуйки, что свидетельствует об использовании этой рабочей площадки для изготовления орудий, в частности скрёбел. Среди отбросов производства лежали законченное скребло, скребловидное орудие и заготовка скребла. Скрёбла, а также скребки, в том числе миниатюрные, долотовидные орудия и отщепы с ретушью, имевшие функции ножей, — основные категории орудий, те же, что и на стоянке Таштык I. Из костяных орудий следует отметить обломок крупной иглы с остатками ушка. Из двух плоских галек на одной — целой — в центре намечены штрихи, другая уже разрезана с двух сторон косыми срезами и по краю её нанесены короткие насечки — типичный орнаментальный узор на этих стоянках. Здесь найдены обломки костей северного оленя, лошади, быка или зубра, аргали и птиц.
На стоянке Большая Ирджа собран обильный подъёмный материал. На развеянных песках обнаружены ограниченные скопления расщепленного кремня. В то время как на террасах левого берега Енисея происходило мощное накопление делювиальных отложений, террасы правого берега интенсивно размывались и развеивались и культурные остатки выходили на поверхность, как это наблюдалось на стоянках Улазы, Анаш, Бузуново, Потрошилово.
Г.И. Медведев
Новые данные о палеолите и мезолите Верхнего Приангарья. ^
// АО 1967 года. М.: 1968. С. 162-164.
Ангарский археологический отряд Иркутского университета проводил полевые работы в долинах рек Ангара и Белая, исследуя многослойные стоянки Уляха, Усть-Белая и Сосновый Бор. Наиболее интересные материалы получены при раскопках Усть-Белой и Соснового Бора.
В Усть-Белой вскрыты самый древний на стоянке XVI мезолитиче-
ский культурный горизонт и «хозяйственная яма» времени образования культурных горизонтов XIII-VI. В горизонте XVI в районе двух кострищ найдены асимметричные остроконечные ножи из кремня и кварцита с двусторонней обработкой, боковые резцы верхоленского типа, высокие клиновидные нуклеусы и обломок наконечника из рога с двумя пазами для вставных кремневых лезвий. В зольниках кострищ обнаружено большое количество костей осетра и других пород рыб. Комплекс горизонта XVI занимает особое положение, так как найденные в нём асимметричные остроконечные ножи, наконечник стрелы с двусторонней обработкой и высокие клиновидные нуклеусы не находят прямых аналогий в более поздних мезолитических горизонтах стоянки.
В «хозяйственной яме» вскрыто погребение собаки. Скелет в полном анатомическом порядке лежал на самом дне ямы, в восточной части. Собака была погребена в вытянутом положении, головой к югу. Сильно завёрнутая назад голова покоилась на подогнутых передних лапах. На шее собаки оказалось ожерелье из восьми крупных клыков благородного оленя. С западной стороны труп животного был обложен костями быка, благородного оленя и рогами очень крупной косули. Весь этот комплекс был слегка присыпан песком. В дальнейшем погребение перекрыли различные отбросы: битая трубчатая кость, большое количество костей осетра, угольки, копролиты собак, костяные иглы, обломки изделий из кости, обломленные вкладыши из призматических пластин с односторонней ретушью, плоские бусы из кости, их заготовки, кусочки перламутра и т.д. Стратиграфия захоронения и всего нижнего заполнения ямы, залегающих под горизонтами III-IV (8960±60 лет — ГИН — 96), свидетельствует о том, что это древнейшее в Северной Азии погребение собаки. Явно выраженный культовый характер захоронения показывает, что первоначальные этапы приручения были уже пройдены, а почёт, с которым была похоронена собака, говорит об исключительном значении её в быту мезолитических рыболовов-охотников Приангарья.
Нижний комплекс ямы перекрыт несколькими тонкими прослойками супеси и песка аллювиального происхождения, выше которых прослежена линза погребенного гумуса почти без находок, синхронного, по-видимому, погребённым почвам мезолитических горизонтов V-II. Над гумусом в желтовато-бурой супеси чётко выделяется комплекс мезолитического горизонта I. Среди отщепов, пластинок и нескольких нуклеусов этого комплекса найден обломок узкого, видимо иволистого, наконечника стрелы из кремня с двусторонней обработкой. Эта пятая по счету стратифицированная находка наконечника с двусторонней обработкой свидетельствует о том, что в мезолите Усть-Белой лук был хорошо известен, видимо в формах, очень близких к неолитическим.
Стоянка Сосновый Бор расположена на древней дюне, отложения которой перекрывает аллювий 16-18-метровой террасы правого берега р. Белой.
Вскрыты пять культурных горизонтов: I — залегает под дёрном и бе-
ден находками, содержит в смешанном состоянии элементы неолита и бронзового века; II — на глубине 30 см от поверхности, заключен в слабо выраженной погребённой почве, содержит материал позднемезолитического облика (конические, призматические и клиновидные нуклеусы, срединный и угловые резцы из пластинок); III — также в погребённой почве, на глубине 1,10-1,30 м (ранний голоцен), материал, характеризуемый большим количеством отщепов, пластинок и нуклеусов и малым — орудий (скребки, обломок ножа из пластины, боковой резец), можно считать раннемезолитическим; IV — также в погребенной почве на глубине 1,40-1,50 м, вскрыт на ограниченной площади (древняя почва горизонта IV разбита морозобойными трещинами, заложенными из слоя стерильных песков, разделяющих почвы горизонтов III и IV; трещины относятся, но всей вероятности, к последнему обострению криогенных процессов Сартанского оледенения; это позволяет видеть
Стоянка Сосновый Бор.Чоппер из культурного горизонта V. |
Стоянка Сосновый Бор.Дисковидный нуклеус из культурного горизонта V. |
в почве горизонта IV аналог почв интерстадиала, или горизонта II, Сартанского оледенения), содержит немного обработанного кремня; V — заключён в кровле отложений пойменного аллювия террасы, на глубине 2,50-2,60 м от поверхности, содержит незначительный материал (чоппер, дисковидный нуклеус, пластина, отщепы), не позволяющий представить характер древнейшего культурного комплекса.
Так как горизонт V Соснового Бора залегает в аллювии террасы III, мы можем датировать его более ранним временем, чем палеолитические стоянки Мальта и Буреть, культурные комплексы которых заключены в делювиальных отложениях III (Мальта) и II (Буреть) террас Ангары и Белой.
М.Ф. Косарев
Работы Нарымского отряда. ^
// АО 1967 года. М.: 1968. С. 165.
Нарымский отряд Западно-Сибирской экспедиции вёл раскопки памятников неолита и бронзового века на р. Чижапка (правый приток Васюгана) и на р. Шайтанка (правый приток Кети). В Нарымском крае до последнего времени не было известно ни одного неолитического памятника. О характере местного неолита можно было судить лишь только по одному признаку: нарымская керамика эпохи металла имеет в орнаменте ряд архаических элементов, связанных генетически с орнаментальными узорами на неолитической посуде Свердловско-Тагильского района и лесного Притоболья. Поэтому предполагалось, что нарымский неолит должен быть родствен и во многом сходен с неолитом Восточного Зауралья и Притоболья.
В этой связи несомненно интересны наши раскопки на Лавровской стоянке (дер. Лавровка на р. Чижапка). Стоянка расположена на 4-метровой боровой террасе, приблизительно в 100 м от реки. Культурный горизонт отделен от гумусного покрова толщей глины мощностью около 150-160 см. Между тем на всех известных стоянках раннебронзового века в этой части Приобья культурный слой начинается почти сразу под дёрном.
В лавровской керамике преобладают сосуды закрытой формы с округлым или приострённым дном. Орнамент и техника его нанесения весьма разнообразны: «отступающая палочка», горизонтальные ряды наклонных насечек, заполнение орнаментального поля неглубокими ямочными вдавлениями, сплошные взаимопроникающие треугольные зоны, различные вариации волнистых узоров и т.д.
Значительная глубина культурного слоя, характер сосудов, распространение в орнаменте «отступающей палочки» и ряд других признаков дают возможность считать Лавровскую стоянку более древней, чем энеолитические памятники из окрестных районов Приобья. Вместе с тем керамика Лавровской стоянки и по форме и по орнаменту очень близка неолитической посуде из Свердловской и Тюменской областей, что даёт нам основание отнести рассматриваемый памятник к неолитическому периоду.
Результаты раскопок в Лавровке позволяют предположить, что в неолитическое время Нарымский край входил как часть в единый зауральско-западносибирский этнокультурный массив. Восточная граница этой огромной этнокультурной общности, видимо, проходила по Енисею. Во всяком случае, большие неолитические материалы с правобережных притоков таежного Енисея глубоко отличны от одновременных нарымских, томско-чулымских и верхнеобских комплексов и имеют ближайшие аналогии не в Западной Сибири, а в Якутии и отчасти в Ангаро-Байкальском районе.
А.С. Чагаева
Раскопки в лесном Прииртышье. ^
// АО 1967 года. М.: 1968. С. 166-167.
Экспедиция Омского педагогического института частично исследовала Мурлинское городище, расположенное на берегу речки Мурлинка (правый приток Иртыша) у дер. Айткулово Тарского р-на. С трех сторон городище защищено обрывистыми берегами Мурлинки и безымянного ручья, с напольной стороны его опоясывают три вала и рвы. Раскопки дали обширный материал, характеризующий культуру населения лесного Прииртышья в I тысячелетии н.э.
Городище было обитаемо в течение длительного времени, о чём свидетельствует значительная мощность культурного слоя (до 60 см) и большая насыщенность его находками. Наиболее массовый материал — керамика. Удалось реставрировать частично или полностью около 15 сосудов. Сферические, горшковидные и чашеобразные сосуды круглодонные, с вертикально или слегка наклонно поставленной шейкой, плавно переходящей в тулово. Наряду со средними сосудами (12-15 см в высоту и в диаметре по венчику) встречаются огромные — диаметром до 35 см — и небольшие — диаметром 4,5-5 см. Орнаментирована в основном верхняя часть, но иногда орнаментальное поле доходит до середины общей высоты сосуда. Чаще всего встречаются гребенчатый орнамент и композиции из отпечатков фигурных штампов (преобладают уголковый «рамчатый» и ромбический). Особенно характерны орнамент из отпечатков фигурных штампов, нанесённый широким поясом, и треугольные композиции, выполненные оттисками мелких штампов.
Часто попадаются костяные и железные наконечники стрел, железные ножи и топорики, костяные проколки, тесловидные орудия из рога, аналогичные потчевашским.
Культурный слой городища изобилует остатками костей домашних и диких животных и рыб. Обитатели городища, вероятно, вели комплексное хозяйство, основными отраслями которого были охота, рыболовство и скотоводство.
Несомненно, что многочисленные железные и редкие бронзовые вещи изготовлены на месте. В культурном слое городища в изобилии встречаются шлаки. Собрана коллекция глиняных льячек. По форме их можно разделить на три группы. Самую большую группу составляют льячки, напоминающие небольшие кружечки с округлым дном и ручкой в виде выступа. Вторая группа включает неглубокие чашеобразные льячки (диаметр 4-5 см, высота около 3 см) с ручкой в виде выступа. На стенках таких льячек сохранились капли застывшей бронзы или меди. В третью группу входят льячки овальной и округлой в плане формы с продолговатым «носиком» для удобства разливки металла. Некоторые
из них имеют ручку в виде полой трубки, куда вставлялся, вероятно, деревянный стержень. При разливке металла пользовались специальными щипцами, от которых на ручках льячек остались овальные или прямоугольные вмятины.
Льячки использовались, вероятно, для отливки из железа и бронзы мелких предметов — наконечников стрел, псалиев, панцирных пластинок, ножей, украшений.
А.И. Мартынов
Раскопки Тисульского могильника ^
// АО 1967 года. М.: 1968. С. 167-168.
Лаборатория археологических исследований Кемеровского педагогического института закончила исследования Тисульского могильника в Ачинско-Мариинском лесостепном районе. Раскопано 14 тагарских курганов VI-IV вв. до н.э., из которых извлечён великолепный материал.
Проведенные нами раскопки дают яркое представление об Ачинско-Мариинском районе тагарской культуры с его своеобразными ярко выраженными земляными курганами, покрытыми сверху деревом, с погребальными камерами и другими особенностями.
Из найденных предметов необходимо упомянуть 157 бронзовых бляшек в виде оленя — серьёзное пополнение к ранее известным образцам из Минусинской котловины. Значительная часть их не имеет аналогий, а некоторые известны лишь по единичным находкам. К их числу принадлежат замечательные фигурки оленей с рогами в виде полукруга; с прямыми рогами и отходящими вверх отростками, напоминающими языки пламени, и, наконец, фигура оленя, огромный рог которого обвит золотой фольгой.
В некоторых тагарских могилах, относящихся в основном к IV в. до н.э., встречены узкогорлые высокие сосуды и инкрустированные белой пастой сердоликовые бусы. Такие предметы среди тагарского инвентаря не были известны и, очевидно, совсем не характерны для Хакасско-Минусинского района культуры. Несомненно, что они свидетельствуют о влиянии западных культур, в частности населения Горного Алтая и сарматов.
Весьма важен материал, позволяющий судить о социальной структуре тагарского общества. Выявлена сравнительно небольшая группа погребённых, положенных обычно на перекрытие погребальной камеры без вещей. Можно предположить, что так хоронили иноплеменников — пленных или рабов, не пользовавшихся правом на коллективную собственность. Однако в целом родовые отношения у племён тагарской
Тисульский могильник. Бронзовые бляшки в виде оленей.
(Открыть рис. в новом окне)
культуры оставались ещё незыблемыми, и раскопанные погребальные склепы лишь подчёркивают равенство людей внутри рода. Мы не можем выделить погребений родовых вождей, которые отличались бы от остальных особым инвентарём.
Г.С. Мартынова
Таштыкское поселение в Кемеровской области. ^
// АО 1967 года. М.: 1968. С. 168-169.
Отряд Кузбасской археологической экспедиции проводил раскопки таштыкского поселения, расположенного на левом берегу р. Кия в Чебулинском р-не Кемеровской обл. недалеко от с. Михайловка. Поселение занимает огромную площадь надпойменной террасы реки.
При зачистке на границе почвы и лежащего под ней слоя материковой глины обнаружены тёмно-серые круглые и овальные в плане пят-
на — остатки от столбов наземных жилых построек. Открыты 23 жилища, которые представляли собой юртообразные наземные шестиугольные и семиугольные сооружения. По углам стояли вертикальные столбы, с помощью которых крепились стенки жилого помещения: два столба служили внутренней опорой стенки, а третий — подпирал её с внешней стороны. Каждое жилище имело вход в виде узкого коридора длиной до 1 м. Стенки коридора отстояли друг от друга на 0,7-0,9 м и крепились с помощью четырёх столбов, два из которых служили одновременно и опорой для стенок. В плане все жилища асимметричны. Слева от входа располагалось небольшое внутреннее помещение. Почти всюду прямо против входа находился очаг. Рядом с очагом стоял центральный столб, который, очевидно, поддерживал коническую крышу жилища. Справа от входа располагалась основная обширная часть жилого помещения. Внутри этого пространства сохранились ямки от нескольких столбов, вероятно подпиравших какое-то сооружение внутри самого жилища.
Установлено, что очаги в жилищах таштыкской культуры были двух типов. В некоторых помещениях очаги устроены в земле в виде двух соединённых вместе неглубоких овальных ямок. Одна из ямок обычно больше, а другая — меньше и глубже. Однако в значительной части помещений очаги устроены из камней и глины, прямо на поверхности земляного пола.
Почти все жилища Михайловского поселения равны по площади (диаметр в среднем 7-8 м) и удивительно похожи на распространенные в недавнем прошлом жилища тюркских народов Южной Сибири. Очевидно, этот тип жилища сибирских народов сложился во время таштыкской культуры, в самом начале нашей эры.
В центре поселения обнаружены остатки большого помещения диаметром 12 м. Внутри не было очага. Возможно, это помещение использовалось в общественных или хозяйственных целях.
Михайловское поселение — единственный пока памятник, позволяющий проследить устройство жилищ таштыкской культуры.
А.М. Мандельштам
Новые данные о могильниках Бай-даг II и III. ^
// АО 1967 года. М.: 1968. С. 169-170.
Могильники Бай-даг II и III были основными объектами исследования в пределах восточной части зоны работ Саяно-Тувинской экспедиции. Дополнительное обследование показало, что могильник Бай-даг II представляет собой весьма сложный памятник, насчитывающий более 80 курганов разных типов, относящихся, по всей видимости, к разным
историческим периодам. Раскопки здесь производились на четырёх объектах. Одним из них (курган 2) является сложное погребальное сооружение, аналогичное исследованному в прошлом году. Оно также трапециевидное, с выступом у юго-восточного конца; яма достигает глубины 4,6 м; в ней обнаружен сруб, в котором помещался дощатый гроб, некогда богато украшенный полосками золотой фольги. Погребение подверглось ограблению. Из сохранившихся предметов инвентаря наиболее интересен фрагментированный глиняный сосуд — воспроизведение «скифских» котлов.
Другое сооружение также имело трапециевидные очертания и выступ у юго-восточного конца, однако размеры его значительно меньше. Под основной частью сооружения обнаружены три расположенных рядом друг с другом погребения в дощатых гробах (одно из них — женщины с ребёнком). В сопроводительном инвентаре имеются железные ножи, костяной гребень и обломок бронзового зеркала ханьского времени с надписью.
В могильнике Бай-даг III раскопаны семь курганов, которые принадлежат к так называемому монгун-тайгинскому типу. Детальное изучение развалов позволяет считать, что это были ограды кольцевидной (6) или квадратной (1) формы, внутри которых располагалась неглубокая могильная яма, перекрытая плитами или крупными камнями, уложенными в определенном порядке; над перекрытием имелось сооружение, первоначальная форма которого не поддается реконструкции.
В одном из таких сооружений в расположенных вблизи друг от друга ямах погребены мужчина и женщина. В обоих погребениях обнаружен сопроводительный инвентарь: кремнёвые наконечники стрел, кремнёвый наконечник копья (?) и фрагмент изделия из бронзы. Эти находки существенно дополняют скудные вещественные материалы, позволяющие датировать определенные группы памятников монгун-тайгинского типа.
А.Д. Грач
Исследования на Куйлуг-Хеме и Алды-Беле. ^
// АО 1967 года. М.: 1968. С. 170-173.
Продолжены раскопки археологических памятников на правобережных участках зоны водохранилища Саянской ГЭС в Центральной Туве. Главной задачей отряда Саяно-Тувинской экспедиции было исследование памятников монгун-тайгинского типа и скифского времени.
В могильнике Куйлуг-Хем IV раскопан крупный курган монгун-тайгинского типа, принадлежащий к варианту курганов на «платформах» —
округлых в плане центральных наземных сооружениях, окружённых кольцевой вымосткой из валунов и обломков горных пород. Общий диаметр вымостки 21 м, диаметр центрального сооружения 12,5 м. В центральной части наземного сооружения находится погребальная камера из валунов и уплощённых обломков горных пород, перекрытая непотревоженными каменными плитами. Камера вытянута с запада на восток. Скелета в камере не было, внутри найдены обломки керамического сосуда с налепным орнаментом.
В могильнике Куйлуг-Хем I раскопаны два кургана скифского времени. Наземные сооружения, округлые в плане, сложены из валунов и обломков горных пород. Могильные ямы четырёхугольные, погребения нарушены. Инвентарь составляют бронзовые и костяные наконечники стрел, бронзовые ножи, нефритовые бусины, золотая накладка, художественная бронзовая бляха в виде головы горного барана, керамика, каменный оселок.
Куйлуг-Хем I и Алды-Бель. Инвентарь из курганов скифского времени.
(Открыть рис. в новом окне)
Особое внимание было уделено исследованию двух очередных курганов монгун-тайгинского типа и курганов скифского времени (Куйлуг-Хем I). Монгун-тайгинский курган 21 расположен вплотную возле кур-
Куйлуг-Хем I.
Общий вид раскопок курганов скифского времени.
(Открыть рис. в новом окне)
гана 22, относящегося к скифскому времени. Курган 24, относящийся к скифскому времени, перекрывает два более древних кургана монгун-тайгинского типа (23 и 25). Здесь была выяснена конструкция наземных сооружений. Для установления относительной хронологии важно, что крепида кургана 24 лежит на крепиде монгун-тайгинского кургана 25. Курганы скифского времени содержат погребения в четырёхугольных грунтовых ямах, курганы монгун-тайгинского типа — погребения вблизи уровня горизонта в грунтовых ямах, обрамлённых плитовыми обкладками. Покойники лежат на боку, с подогнутыми ногами, головой на запад.
Были продолжены раскопки могильника на плато Алды-Бель. Здесь исследован один из двух примыкающих друг к другу наиболее крупных курганов (21). Раскопки привели к открытию первого в Центральной Азии бесспорного комплекса погребений майэмирского времени — VII-VI вв. до н.э. Обнаружены три погребения: центральное в грунтовой яме, погребение в отлично сохранившемся срубе и детский каменный ящик. Центральное погребение было нарушено более поздним захоронением гунно-сарматского времени, однако инвентарь из него не был похищен — его вновь захоронили под наземным сооружением кургана, на уровне древней поверхности почвы. Состав инвентаря характерен для VII-VI вв. до н.э. Это бронзовые удила со стремечковидными оконча-
ниями и фигурными псалиями, наборы бронзовых уздечных обойм, художественная нащёчная бляха и др. В могильной яме обнаружена бронзовая уздечная обойма и золотое листовидное украшение. Почти все предметы аналогичны находкам из курганов тасмолинской культуры в Казахстане.
При исследовании курганов скифского времени в могильниках Куйлуг-Хем I и Алды-Бель в заполнении могильных ям были открыты погребения гунно-сарматского времени. Скелеты вытянуты на спине, головой на запад. Инвентарь обычен для рядовых погребений того периода: поясные пряжки, поясной набор с железными бляхами, железные трехлопастные наконечники стрел, бронзовое зеркало в кожаном футляре.
И.У. Самбу
Исследование могильников Ортаа-Хем I и II. ^
// АО 1967 года. М.: 1968. С. 173.
В долине р. Ортаа-Хем на правобережье Улуг-Хема (Енисея) отрядом Саяно-Тувинской экспедиции исследованы два кургана скифского времени (V-III вв. до н.э.), один поминальный и три погребальных кургана гунно-сарматского времени (первые века до нашей эры — первые века нашей эры).
На курганах скифского времени открыты округлые в плане, задернованные наземные сооружения из обломков горных пород и валунов, с западинами по центру. Коллективные захоронения (в одном случае — три, в другом — четыре человека) совершены в срубах из лиственничных стволов. Покойники скорчены на левом боку, головой на запад. У некоторых погребённых под головами камни-подушки. Обнаружен значительный сопроводительный инвентарь: бронзовые кинжалы-акинаки, чеканы, ножи, шилья, зеркала с бортиком, украшения и др.
Погребения гунно-сарматского времени находились под наземными сооружениями овальной в плане формы из обломков горных пород и валунов. Погребённые вытянуты на спине (в одном случае — скорчены на левом боку), головой на запад. Инвентарь состоит из керамики, бронзовых, железных и деревянных вещей.
Древнекыргызский курган с трупосожжением содержал наборы предметов конской сбруи и оружие — саблю местной работы, трёхпёрые и плоские наконечники стрел, ножи и др.
Почти во всех наземных сооружениях были встречены поздние вещи — рукоятка мотыги, железные серпы, кольца от косы, жернова и т.д. Вопрос об этих поздних дополнениях как детали погребального обряда заслуживает специального изучения.
Ю.И. Трифонов
Hoвыe памятники у подножия хребта Аргалыкты. ^
// АО 1967 года. М.: 1968. С. 174-176.
Работы отряда Саяно-Тувинской экспедиции на левобережье Енисея в районе городов Шагонар и Чаа-Холь сосредоточились на нескольких могильниках, один из которых (Аргалыкты IX) раскопан целиком. Всего же полностью исследованы 10 объектов: сооружения монгун-тайгинского типа, курганы скифского и гунно-сарматского времени, памятники древнетюркской эпохи.
Подтвердилось, что по крайней мере для некоторых памятников монгун-тайгинского типа (Аргалыкты IX) обязательны чёткие внешние кольцевые обкладки из крупных камней, часто совсем невидимые до расчистки. Внутри таких колец находятся погребения либо в валунно-плитовых камерах, либо в грунтовых могилах. В одном из сооружений находились три примыкающие одна к другой камеры с нарушенными погребениями. По сохранившимся частям скелетов можно судить о положении погребённых (на правом боку, с подогнутыми ногами) и ориентировке (головой на запад), типичных для большинства аналогичных памятников Тувы. В другом сооружении, камера которого наполовину разрушена и скелет не сохранился, среди камней встречены остатки орнаментированного сосуда. Это сооружение перекрыто более поздним курганом древнетюркского времени.
Раскопки курганов скифского времени (могильник Аргалыкты VIII) позволили впервые в истории изучения подобных памятников в Туве получить более полное представление об их первоначальном облике и установить конструктивные особенности окружавших их оград. Погребальный обряд раскопанных курганов связан с тувинским вариантом пазырыкского круга памятников: погребения совершены в глубоких ямах, в камерах-срубах, ориентированных сторонами на северо-запад, северо-восток, юго-восток и юго-запад. Срубы сложены в три-четыре венца. Число погребённых достигает шести — восьми. По некоторым частично сохранившимся in situ скелетам видно, что они обращены головой на северо-запад. О социальном положении погребённых из-за ограблений камер в древности судить невозможно. Инвентарь обычен: серия сосудов, наборы бронзовых и костяных изделий (предметы вооружения, украшения и пр.). Встречены фрагменты железиых предметов.
Гунно-сарматский период представлен одним курганом (Аргалыкты XII), характерным для аналогичных погребальных памятников Тувы. Основой первоначального сооружения служила конструкция из плотно прилегающих обломков, прямоугольная (со скруглёнными углами) в плане, вытянутая по оси юго-восток — северо-запад. В центре её помещён ящик из вертикально стоящих плит, в нем — сосуд; здесь же нахо-
Аргалыкты IX. Курганы древнетюркского времени (на переднем плане) и монгун-тайгинского типа.
(Открыть рис. в новом окне)
дилась неглубокая узкая погребальная яма, ориентированная по той же оси, что и сооружение. Погребение одиночное, скелет вытянут на спине, головой на северо-запад. В инвентаре только железные изделия: наконечники стрел, нож и др.
В могильниках Аргалыкты IX и Кара-Тал IV исследованы три объекта древнетюркского времени. Курган могильника Аргалыкты IX близок рядовым погребальным памятникам древних тюрок Тувы (сравнительно высокие сооружения из обломков горных пород), но превосходит их массивностью и размерами. Кара-тальские курганы, наоборот, представляли собой сильно задернованные, мелкие, плохо видимые на поверхности выкладки в один сплошной слой камней. Во всех трёх случаях выявлены основы сооружений. В кургане могильника Аргалыкты IX — это прямоугольная в плане, несколько вытянутая по оси север — юг, цилиндрической формы постройка из массивных обработанных камней-блоков, образующих внешний контур сооружения, и таких же крупных и более мелких камней, образующих заполнение внутри этой стены. Для кара-тальских объектов характерны конструкции на поверхности земли в виде чётких кругов из довольно крупных камней, внутри которых заполнение из обломков, значительно меньших по размеру.
Несмотря на различие в типе наземных сооружений, погребальный обряд сходен и близок обычному ритуалу древних тюрок. Могильные ямы либо почти квадратные (Аргалыкты IX), либо прямоугольные со скругленными углами, вытянутые (иногда с небольшим отклонением) по оси восток — запад, неглубокие. В северной половине — погребение
Аргалыкты I. Курган 6. Бронзовый кинжал.
человека, в южной — коня (в кургане могильника Аргалыкты IX — две лошади), между ними разделительная стенка из вертикально поставленных плит (Аргалыкты IX). Погребённые вытянуты на спине, головой на восток (в кара-тальских курганах — с небольшим отклонением к северо-востоку). Лошадь положена на возвышение, головой в противоположном направлении. Кроме удил, стремян, некоторых мелких вещей, встреченных во всех трёх курганах, в Аргалыкты IX найдены хорошо сохранившиеся деревянные сёдла, всевозможные роговые изделия, кожаная узда с нашивными бляшками, принадлежности конского убора, а также колчан со стрелами, костяные накладки на лук и остатки самого лука (длина 1,25 м) и др.
Раскопано несколько курганов, представляющих собой новые, до сих пор не известные в Туве типы памятников. Один из них (могильник Аргалыкты I, курган 6) — с невысоким, уплощённым и небольшим наземным сооружением — поминальный. В северной половине кургана под сооружением расположены рядом две выкладки из камней. На одной из них — остатки кострища, на другой — мелкие кости животных. В центре кургана на уровне древней поверхности найден небольшой бронзовый кинжал скифского времени с перекрестием и навершием редко встречающейся формы. О точной дате памятника судить пока трудно.
Другой курган (Аргалыкты I, курган 16) после расчистки развала камней представлял собой выкладку в виде концентрических колец. Одно из колец, внутреннее, оказалось верхним слоем каменного сооружения цилиндрической формы высотой свыше 1 м. С юго-восточной стороны к кольцу примыкали вертикально стоящие камни, образующие подобие ворот или входа, заполненного внутри более мелким плитняком. Вся конструкция напоминала склеп с вымощенным полом, входом сверху и сбоку и перекрытием из массивных плит. Находящиеся внутри на разной высоте кости сильно перемешаны (не менее пяти погребённых). Инвентарь представлен обломками нескольких сосудов, железными и костяными изделиями, раковиной каури. О хронологической и этнокультурной принадлежности памятника судить пока рано.
Я.И. Сунчугашев
Древний медный рудник Темир в Хакасии. ^
// АО 1967 года. М.: 1968. С. 177.
Археологическая экспедиция Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории обследовала древние медные рудники Хакасии, в том числе и рудник Темир, который находится в 30 км от станции Уйбат. Памятники древнего горного дела и металлургии меди сосредоточены здесь на горах Темир-даг и Посельщик.
На горе Посельщик мы исследовали 14 древних горных разработок меди. На современной поверхности они сохранились в виде заплывших продолговатых и воронкообразных ям глубиной от 0,5 до 5 м. В отвалах разработок содержатся в значительном количестве малахит и азурит. Добытые на горе Посельщик руды выплавлялись здесь же, в 300-500 м от места горных работ. Изучены два отвала древних медных шлаков и найдены семь медеплавильных печей плохой сохранности, но по ним вполне можно судить о технике медеплавильного дела. В медеплавильнях найдены обломки глиняной посуды тагарского времени, фрагменты глиняных литейных форм, воздуходувных сопел, толстостенных глиняных тиглей, куски азурита, кости овцы и лошади.
На северном и южном склонах горы Темир-даг обнаружены 14 древних горных разработок меди. Следы плавки меди в виде отвалов зафиксированы у подножия Темир-дага в 12 местах. Шлаковые отвалы сильно задернованы и почти незаметны на дневной поверхности.
Здесь найдены каменный пест для дробления руды, обломки каменных молотов, медные сплески, обломок бронзового ножа, предназначенный, вероятно, для переплавки, медная пластина, обломки глиняных воздуходувных сопел и кости домашних животных. Много фрагментов стенок и венчиков баночных глиняных сосудов с желобчатым орнаментом. Они датируются ранним этапом тагарского времени (VII-VI вв. до н.э.).
Разведкой охвачены также медные рудники раннего железного века в системе рек Малые Сыры, Базы и Узун-Жуля.
М.П. Завитухина
Раскопки тагарских курганов под горой Барсучиха. ^
// АО 1967 года. М.: 1968. С. 177-179.
Раннетагарским отрядом Красноярской экспедиции проведены раскопки курганов в двух могильниках на Сарагашенском увале под горой Барсучиха и доследованы могилы Кичик-Кюзюра I близ пос. Советская Хакасия.
Исследованы пять курганов на Барсучихе VI и один — на Барсучихе VII. По конструкции ограды и вещевым комплексам они разделяются на две разновременные группы.
Три кургана имели оградку с высокими камнями на углах (тип четырёхкаменный). В них обнаружены семь могил с индивидуальными погребениями и раннетагарским инвентарем. Самый большой курган 6 (высота насыпи около 1 м, размеры ограды 14x10 м) с четырьмя монументальными стелами содержал два погребения. В центральной могиле в срубе, установленном на каменном фундаменте, был погребён воин с бронзовыми браслетами на ногах, колчаном с костяными и бронзовыми наконечниками стрел, бронзовым предметом, вероятно относящимся к луку, и другими предметами. Судя по ним, этот курган связан с переходным от подгорновского к сарагашенскому этапу тагарской культуры.
В трёх других курганах высокие камни стояли не только по углам ограды, но и посредине всех сторон (тип восьмикаменный). В них находилось по две основные могилы: центральная с двумя-тремя погребёнными и коллективная, в которой похоронено до 70 человек. Найдено много бронзовых ножей, шильев, пробойников, зеркал, украшений, изделий из кости и камня, керамики. Получен большой антропологический материал. В неограбленном погребении при мужском скелете найден бронзовый двуушковый кельт с рукоятью длиной 70 см, на конец которой был надет бронзовый конический вток.
Барсучиха. Изображение оленя с подогнутыми ногами на бронзовой бляхе из кургана.
(Открыть рис. в новом окне)
Курган 7 был окружён двумя оградами с параллельными стенами: внутренней четырёхкаменной и наружной восьмикаменной. Могилы помещались внутри малой оградки: в центре — индивидуальная, сбоку — коллективная, пристроенная вплотную к юго-восточной стене ограды. По-видимому, центральная могила была устроена раньше, а коллективная — в период, когда стали сооружать конструктивно новые ограды. Внутренняя ограда осталась неразобранной, с неё только сняли угловые плиты. В этом кургане среди покрытия тагарской могилы найден брусковидный камень, на котором врезными линиями нанесены фигуры быков, характерные для окуневской культуры.
Курган на Барсучихе VII привлёк к себе внимание изображениями на высоких оградных плитах. На одном камне выбиты 13 человеческих фигур, помещённых в четыре ряда, ещё на трёх камнях имеются изображения людей и животных. Все изображения обращены внутрь ограды и помещены на наземной части камня, т.е. их нанесли после сооружения ограды. Среди инвентаря этого кургана есть бронзовая бляха с изображением оленя с подогнутыми ногами, бронзовый нож с фигуркой стоящего кабана на рукояти, костяной нож, украшенный головкой животного.
Восьмикаменные курганы датируются сарагашенским этапом тагарской культуры.
М.Н. Пшеницына
Работы позднетагарского отряда. ^
// АО 1967 года. М.: 1968. С. 179-181.
Позднетагарский отряд Красноярской экспедиции вёл работы на левом берегу Енисея в 12 км к северу от с. Батени, у подножия горы Барсучиха, на территории могильника Барсучиха I, расположенного на гребне пологого увала. Здесь раскопан большой курган диаметром 40 м и высотой около 3,5 м с пятью массивными столбообразными плитами в основании насыпи. Под насыпью обнаружена прямоугольная ограда высотой 1 м из крупных плит, горизонтально уложенных друг на друга. Снаружи вдоль каждой из стен ограды и по её углам поставлены 20 массивных столбообразных плит. На двух из них выбиты изображения людей (на южной — стилизованное изображение группы человеческих фигур, на северной — большой женской фигуры в одежде). В ограде на глубине 2,5 м вырыта могильная яма, в которую поставлен сруб в девять венцов, сохранившийся на высоту 1,30 м. Между стенкой ямы и срубом шёл тын из вертикально поставленных брёвен. Пол выстлан полубрёвнами. На уровне древнего горизонта могильная яма перекрыта накатом из массивных брёвен. Накат служил полом верхнего помещения, представлявшего собой сруб из таких же брёвен. Наиболее полно — в пять венцов, на высоту 1,20 м — сохранилась южная стена. На полу нижнего сруба стояли два вертикальных столба, которые, вероятно, были опорой деревянного перекрытия верхнего сруба. Сверху всё это покрыто берёстой. Наземное деревянное сооружение на расстоянии около 2 м от стен со всех сторон окружено стеной, сложенной из плитняка (крепидой) и служившей основанием для какого-то сооружения из дёрна, воздвигнутого над могилой. Перед нами — родовой склеп, состоящий из подземного и наземного помещений, со следами сильного пожара в наземной части. В склепе было погребено не менее 30 человек. Остатки захороне-
Барсучиха. Общий вид большого кургана с юга после расчистки.
(Открыть рис. в новом окне)
ний прослежены в верхнем и нижнем помещениях. Склеп ограблен. У южной стены сруба на полу найдены останки пяти скелетов. На их костях в отличие от прочих совсем нет следов огня. На каждом из черепов — остатки глиняных масок. Две из них обмазаны сверху гипсом, раскрашенным красной и чёрной красками. В других местах на полу могилы найдены куски ещё четырех глиняных масок. При погребённых найдены три бронзовых миниатюрных котловидных сосудика на поддоне и один такой же железный, бронзовые ложечковидная пронизка, три зеркала, две пуговицы, четыре кольца, втулка, тигелёк, три железных ножа, шило, несколько круглых пряжек, серия бус из стекла и сердолика, подвески из клыков кабарги, много обрывков золотой фольги, костяная пряжка и обломки не менее чем от трёх сосудов на поддоне, одного небольшого четырёхгранного и десяти баночных (один — с валиком под венчиком).
Вскрытый курган по характеру погребального обряда и сопровождающему инвентарю принадлежит к кругу памятников II-I вв. до н.э., т.е. к тесинскому этапу (по М.П. Грязнову) или к третьей переходной стадии тагарской культуры (по классификации С.В. Киселёва).
За оградой кургана под его восточной полой обнаружена ограда из вертикально поставленных плит. В центре — каменный ящик, а на дне его — погребение баиновского этапа (VII-VI вв. до н.э.). В ограде было семь впускных могил тесинского этапа. Одно впускное погребение устроено в могиле баиновского этапа. Для других сделаны каменные ящики по углам ограды и вдоль её стен. В двух могилах погребено по нескольку человек (в могиле 6 — не менее шести; в могиле 3 — двое), в остальных — по одному взрослому или ребёнку. При погребённых найдены бо-
лее 32 небольших глиняных сосудов баночной формы, один четырёхгранный, два берестяных сосуда, не менее 15 железных ножей с кольцом на рукояти (частью в обломках), 16 пряжек, пронизки, одна из которых костяная, три шила, три бронзовых кольца и т.д.
Около южной полы большого кургана вскрыта ещё одна ограда из вертикально поставленных плит, содержавшая три карасукских погребения, каждое в каменном ящике, покрытом массивными плитами. При погребённых найдены три сосуда, два из них — с геометрическим орнаментом. В середине ограды — сооружение в виде неправильного квадрата, в центре которого находилась могильная яма размерами 1,90х2,20 м и глубиной 1,40 м с остатками сруба. В могиле погребено в несколько слоёв не менее 35 человек взрослых и детей. Большая часть погребённых обращена головами на восток. При погребённых найдены семь глиняных баночных сосудов, пять бронзовых чеканов, три втока, десять пластинчатых ножей, четыре шила, зеркало, наконечники стрел (три костяных, один бронзовый) и др. В небольшом количестве встречены кости животных. Вскрытая могила по сопровождающему инвентарю и погребальному обряду относится к памятникам сарагашенского этапа (IV-III вв. до н.э.). В юго-западном углу могильная яма нарушена впускным погребением мужчины, лежавшего в каменном ящике на спине, головой на восток. Скелет покоится на плитах. Скорее всего время впускной могилы — тесинский этап.
Э.Б. Вадецкая
Раскопки на месте дер. Новая Чёрная. ^
// АО 1967 года. М.: 1968. С. 181-182.
Таштыкский отряд Красноярской экспедиции работал на левом берегу Енисея, на месте бывшей дер. Новая Чёрная. Основным объектом работ был грунтовый могильник таштыкского времени, заметный на поверхности по многочисленным, близко расположенным неглубоким ямкам. Раскопаны около 40 могил и 1 склеп. Могилы — большие ямы, в которых находились прямоугольные или квадратные деревянные срубы из толстых брёвен. Средние размеры срубов 1,6х1,6 м и 2,5x2 м, глубина их 1,6-2,5 м. Сверху они покрыты бревенчатым накатом и толстым слоем берёсты. В могилах лежали скелеты и пепел сожжённых людей. На уровне первоначального покрытия могилы или чуть выше встречены кости домашних животных: лошади, коровы, быка. Очевидно, в древности над могилами совершались тризны. Инвентарь состоит из кубковидных и баночных сосудов, кожаной и бронзовой пряжек, костяных шпилек. Наиболее интересна костяная шпилька с фигурным навершием в виде двух чёрных козлов с подогнутыми ногами. В пяти могилах оказались
погребальные маски из белой глины. Они лежали на лицах умерших и около куч сожжённых человеческих костей. Три таштыкские могилы были перекрыты впускными погребениями неизвестного времени: скелеты в них вытянуты на спине, головой на север, вещей нет.
Раскопаны два кургана из кыргызского чаатаса, находящегося в той же местности, но выше на горе. Один из курганов имел круглую ограду из плит, положенных плашмя. По углам ограды стояли четыре вертикальных камня. Внутри оказалась одна могила, где найдены черепки трёх сосудов, кости барана и сожжённые человеческие кости. Вокруг ограды стояли глиняные урны и миниатюрные каменные ящики с человеческим пеплом, закрытые плитами. Под двумя из них найдены железные кыргызские стремена. Другой курган имел овальную ограду, в середине которой в грунтовой овальной яме лежал мужчина 30-35 лет. Он был вытянут на спине, головой на север. Около черепа находились ваза, горшок, железный наконечник копья и стрела.
Между грунтовым таштыкским могильником и кыргызским чаатасом обнаружены остатки поселения. Здесь найдены костяные стрелы, обломки каменных пряслиц, черепки сосудов и кости животных. Судя по фрагментам керамики, поселение относилось к тесинскому этапу тагарской культуры.
С.С. Сорокин
Разведывательные работы в долине Улагана. ^
// АО 1967 года. М.: 1968. С. 182-183.
Южно-Алтайская экспедиция Государственного Эрмитажа провела разведку в долине Улагана в окрестностях урочища Пазырык. Главное внимание было уделено большому могильнику Усть-Балыктыюл, расположенному вблизи Пазырыка на правой пойменной террасе р. Ян-Улаган (Большой Улаган) у впадения в неё речки Балыктыюл.
При обследовании могильника на глазомерный план нанесено 548 могильных сооружений, занимающих площадку, простирающуюся от устья Балыктыюл вверх по Улагану приблизительно на 2,5 км. По внешним признакам на могильнике Усть-Балыктыюл можно различить три основных хронологических пласта.
К наиболее раннему периоду следует отнести каменные сферические наброски с просадкой в центре, иногда окруженные каменным кольцом. Курганы этого типа образуют заметно обособленные меридиональные цепочки по четыре — восемь насыпей, расположенных в непосредственной близости одна к другой. Для сооружения этих насыпей использованы дикие рваные камни, взятые на осыпях ближайших горных склонов до-
лины. По низу насыпи, как правило, задернованы. Самые крупные курганы этого типа имеют диаметры 16-22 м, но более характерны 8-12-метровые насыпи. Во всем могильнике насчитывается восемь или девять цепочек, в которых около 50 курганов.
Основная масса таких курганов скорее всего синхронна Пазырыку и относится к той же культуре. Но возможно, что какая-то часть их несколько моложе.
Второй хронологический пласт могильника Усть-Балыктыюл составляют небольшие (до 6-7 м в диаметре) сферические каменные наброски без просадок в центральной части. Такие насыпи расположены небольшими нерегулярными скоплениями. Больше всего их в центре и на северо-востоке могильного поля.
Как можно судить по результатам исследования двух таких курганов, вся группа относится к первой половине I тысячелетия н.э. Во всяком случае, она без сомнения старше памятников тюркского времени и значительно моложе Пазырыка. В культурном отношении она вполне самобытна.
В обоих курганах вскрыты одиночные погребения в колодах, опущенных в глубокие ямы с заплечиками. В могиле мужчины найдены бронзовый котелок на полой ножке-поддоне и с двумя вертикальными полукруглыми ручками; деревянный, вырезанный из нароста сосуд с круглой вертикальной ручкой у середины яйцевидного корпуса; «ярусные» железные трёхпёрые черешковые наконечники стрел с костяными свистунками; язычковые пряжки вытянутых пропорций из белой бронзы; железный двулезвийный кинжал и другие предметы. В могиле женщины сохранились остатки аналогичного двулезвийного кинжала и обломки перержавевшего железа. Оба покойника положены головой почти точно на восток (слегка к северу).
Третья хронологическая группа — это тюркские каменные квадратные оградки с балбалами или без них и округлые каменные наброски также либо с цепочками балбалов, либо без них. Такого рода оградки и наброски образуют три обособленных скопления, в каждом из которых их насчитывается до 100.
На Пазырыке вблизи Пятого кургана экспедиция исследовала два небольших, почти плоских кургана с одиночными погребениями в ящиках из дикого камня. Ориентировка восточная. В одной из этих могил, относящихся, видимо, ко времени, близкому к середине I тысячелетия н.э., найден полный комплект костяных накладок от сложного лука (четыре концевые с вырезами для тетивы, две срединные боковые и одна срединная внутренняя).
Ю.С. Орлов
Могильник в пади Сырая Сосновая. ^
// АО 1967 года. М.: 1968. С. 184-185.
В 7 км к востоку от пос. Шевея Чернышевского р-на Читинской обл., у слияния падей Могильная и Сырая Сосновая, обнаружен грунтовый могильник начала железного века. Могильная яма глубиной 210-220 см, вырублена в гнейсовом массиве, ориентирована по линии север — юг. Дно могилы выровнено, углубления засыпаны песком. Местами прослеживается тонкая, очень ровная сероватая глиняная промазка, на которую и положено тело.
Костяк засыпан гумусом. Возможно, что это остатки какого-то растительного заполнения. Мощность заполнения 40-50 м. По всей поверхности в горизонтальном положении выложены гнейсовые плиты. Между ними и растительным заполнением прослеживается тонкая прослойка красноватого суглинка, похожего на охру. На горизонтальные плиты на глубине 120 см опирается кладка из вертикально стоящих гнейсовых плит. Средние размеры плиты 20x10x50 см. Кладка очень плотная, без зазоров и производит впечатление торцовой мостовой. В центре каменной вымостки находится овальное отверстие (80х50 см), заполненное гумусом; оно ориентировано по продольной оси могилы.
На кладке рядом с отверстием тонкая (2-3 см) прослойка золы и угля. Диаметр зольного пятна, заходящего краем на отверстие, около 40 см.
Выше кладки могила засыпана щебнистой супесью жёлтого цвета с редкими включениями обломков гнейсового плитняка. Мощность верхнего гумусированного слоя 40 см. На глубине от 30 до 60 см замечено скопление камней в виде очага. Здесь найдены обломки трубчатых костей, мелкие фрагменты керамики, сильно окислившийся конец железного долотообразного орудия, небольшой фрагмент железного орудия и мелкие кусочки древесного угля. Здесь, видимо, был поминальный или жертвенный костер. Костяк вытянут на спине, головой на север, руки положены вдоль туловища.
У левого плеча поставлен горшок яйцевидной формы с плоским дном, узким горлом, орнаментированный вертикальными штрихами. Вдоль левого бока положен лук с костяными обкладками по концам древка. Длина лука около 140 см. Рядом сохранилась костяная пряжка, которой, видимо, крепился чехол лука. Справа, ниже колена правой ноги, найдены четыре костяных наконечника стрел и несколько пятен ржавчины, возможно от железных наконечников. Против правой бедренной кости обнаружен фрагмент костяного изделия, напоминающего кубик лото, но пустотелый. Возможно, что это напёрсток для натягивания тугой тетивы лука. Между правой рукой и третьим снизу позвонком найдены металлические пластины верхней обоймы колчана. На одной из них в слое окиси сохранилась грубая ткань полотняного переплетения. Между бед-
ренными костями, ближе к левой стороне таза, находился железный кинжал в деревянных ножнах с костяными накладками. От кинжала остался фрагмент наиболее толстой части лезвия. Под верхним краем ножен лежала железная ременная пряжка квадратной формы. В нижней части груди и таза располагались железные пластинки, отделённые от костяка тонкой, слабо прослеживающейся прослойкой древесного тлена. Вероятно, умерший был прикрыт сверху деревянным щитом, обшитым кожей и железными пластинками. Обувь была кожаной, доходившей до колен. Её стягивали кожаными завязками ниже колен и у щиколоток. Об этом говорят костяные резные бляшки, служившие именно для затягивания таких завязок.
Предполагаемая форма обуви и большая длина лука, неудобная для конников, говорят о захоронении воина, жизнь которого проходила не на коне, а на болотистых таёжных тропах.
Захоронение находит близкую аналогию в раскопках, произведённых А.П. Окладниковым в пади Социал у станции Оловянной. Однако могильник в пади Сырая Сосновая отличается тем, что могилы совершенно не возвышаются над окружающей поверхностью. Кроме того, в погребениях у станции Оловянная кладка из лежащих плашмя плит идёт под дёрном, тогда как в описанном захоронении кладка из вертикально поставленных плит образует низкий склеп непосредственно над самим костяком.
наверх
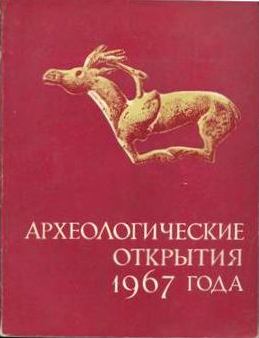 [ продолжающееся издание ]
[ продолжающееся издание ]













