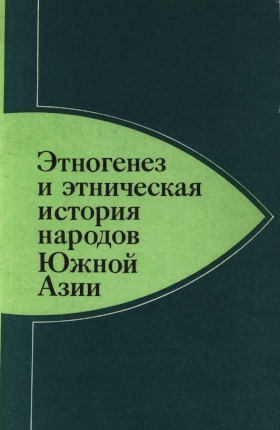 [ сборник ]
[ сборник ]
Этногенез и этническая история народов Южной Азии.
// М.: «Восточная литература». 1994. 284 с. ISBN 5-02-017359-2
Отв.ред. С.А. Арутюнов.
[ аннотация: ]
Книга посвящена проблемам формирования крупнейших современных этносов Индии, Пакистана, Непала и Шри Ланки. Рассматриваются первичное проникновение индоарийских племён в Индостан, их контакты с автохтонным населением, образование узлов этногенеза в древности и раннем средневековье и дальнейшее развитие процессов этнической интеграции.
Содержание
Введение (С.А. Арутюнов). — 3
М.К.Кудрявцев. Северные области Южной Азии. — 6
Н.Р. Гусева. Раджастхан, Гуджарат, западная часть штата Мадхья-Прадеш. — 62
И.М. Семашко. Пригималайские области Индии. — 102
В.Н. Мазурина. Непал. — 134
С.А. Маретина. Ассам и Мегхалая. — 157
В.Н. Шинкарёв. Северо-Восточная Индия (Аруначал-Прадеш, Нагаленд, Манипур, Мизорам, Трипура). — 185
А.Н. Седловская. Восточный Индостан. — 200
М.Ф. Альбедиль, Н.Г. Краснодембская. Южный Индостан и Шри Ланка. — 237
Л.И. Куликов. Мальдивская Республика. — 269
Список сокращений. — 282
Contents. — 283
Введение. ^
В книге рассматриваются этногенез, этническая история, история сложения современного населения основных субрегионов Южной Азии. Каждому субрегиону посвящена отдельная статья, написанная специалистом по его этнографии и истории. У авторов разные взгляды на место и роль того или иного субрегиона в этнической истории Южной Азии; у каждого из них своё, подчас весьма далёкое от распространённого ви́дение общей картины древнейших этапов этногенеза народов огромного и этноисторически всё ещё слабо изученного Южноазиатского субконтинента.
Редактору хотелось сохранить дискуссионность при рассмотрении вопросов этнической истории Южной Азии с древнейших времён и до нового времени, ведь обезличенный текст был бы лишён познавательной ценности. Ему было важно показать, насколько спорными остаются даже самые кардинальные проблемы ранних этапов этногенеза населения Южной Азии, каким ограниченным материалом мы располагаем для решения вопросов, касающихся даже более поздних его этапов. Но можно отметить один существенный момент: масштабы дискуссионности меняются. В отношении древности - эпох, отстоящих на несколько веков или даже тысячелетий от начала нашей эры, - спорными являются крупные этнические блоки: например, было ли население долины Инда в эпоху бронзы дравидоязычным (как с читают большинство авторов данной книги), или оно (как доказывает М.К. Кудрявцев в статье «Северные области Южной Азии») могло быть индоевропейским по языку задолго до предполагаемого времени сложения древнейших санскритских памятников. Относительно более частных этнических подразделений, которые фигурируют в древнеиндийской исторической традиции, не известно почти ничего, они лишь упоминаются. Сообщается, например, что явана - это греки (понтийцы), но когда они появились на северо-западных рубежах Индостана, то ли во времена Александра Македонского, то ли значительно раньше, неясно. Хуну отождествляются с гуннами, но на каких языках говорилн эти «гунны», не указывается (это, впрочем, не установлено точно и для гуннов, ворвавшихся в Европу, о которых существуют гораздо более подробные сведения).
(3/4)
Чем ближе к новому времени, тем о более мелких компонентах этногенеза современных народов идёт речь. Но число таких компонентов возрастает, как возрастает и спорность вопросов о том, когда, в какой форме и, главное, в какой мере вошли они в состав этих народов. Однако следует иметь в виду одно важное обстоятельство. Этническое самосознание почти повсюду многоярусно. Не всегда можно с уверенностью сказать, какой нз ярусов основной, т.е. какую единицу можно считать собственно этносом, а какую субэтническим подразделением. Тем более сложно выявить это в отношении Южной Азии, где этническое самосознание почти всегда переплетается с общинным, кастовым, конфессиональным. Привычные штампы типа «народности», «нации» здесь более условны, чем где бы то ни было. Так, к малаяли, крупному народу Южной Индии, видимо, скорее подходит привычное понятие «нация», малаяли обладают языковым единством, единой гражданской историей, их объединяет борьба за сплочение в едином политическом образовании (нынешний штат Керала), давними традициями национальной письменности, школьного образования, прессы и т.д. В то же время по вероисповеданию он делится на христиан, мусульман, индуистов. Ни одно из этих подразделений не едино, они состоят из многих деноминаций, и даже среди христиан-якобитов не допускаются браки между давними христианами, возводящими себя к высоким кастам, и новообращёнными, происходящими из низших каст. Брахманы-намбудири, высший слой малаяльских индусов, помнят о своём северном происхождении и строго хранят эндогамность, которая, правда, касается лишь старших сыновей в семье. Младшие же традиционно вступают в брак с женщинами из группы матрилинейных наяров, которые считают себя самыми исконными из малаяли, хотя испытывают непрерывный генный приток со стороны намбудири. И каждая группировка имеет свою культурную специфику, проявляющуюся в обычаях, в диете, в деталях одежды и во мноrом другом.
Что же rоворить о таком «этносе», или «народе», как пенджабцы, среди которых есть мусульмане, индусы, сикхи, поразному относящиеся к родному языку и употребляющие для него разные виды письменности; при этом между ними нередки острые межобщинные конфликты, да и внутри общин нет единства. Отдельные этнические компоненты, сохраняющие память об общности происхождения, например джаты, входят в состав не только всех этих конфессиональных групп, но и ряда соседних народов, говорящих на близких, но всё же других языках. Стоит ли после этоrо удивляться, что в Центральной Индии, в этом огромном ареале, население которого на лингвистических картах обозначается как «хиндустанцы», ни один местный житель не в состоянии ответить на вопрос о своём этническом самосознании. Человек знает, что он индиец, житель данной местности, что он мусульманин или индус, чётко
(4/5)
определяет свою касту, но к каком у «народу» принадлежит, не знает; вернее, в каждом конкретном случае, в зависимости от ситуации, одну из перечисленных категорий и называет «народом».
Надо сказать и о большом числе «зарегистрированных племён». Одни из них, как, например, тода, несомненно, являются четко очерченными малыми народами. Других, таких, как каткари Махараштры, от окружающего населения отделяет только некастовый, особо низкий статус. Эrо крайние случаи - а сколько между ними переходных, уклоняющихся, нетипичных форм!
Одним словом, если где-либо на земном шаре и можно найти чётко очерченные, обладающие единым самосознанием и общей культурой, вполне дискретные «народы», то только не в Южной Азии. В качестве «народов», «наций», «племён» здесь выступают внутренне очень неоднородные и взаимно разнородные категории. Именно это прежде всего нужно иметь в виду, приступая к чтению предлагаемой книги.
наверх
|