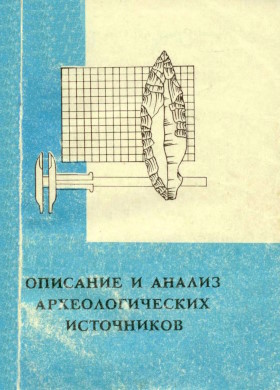 Г.П. Григорьев
Г.П. Григорьев
О предмете археологии.
Что есть предмет археологии? — вопрос новый для отечественной науки. Наши археологи-теоретики начала 30-х гг. полагали, что тут и вопроса-то нет, слишком всё самоочевидно; предмет археологии — историческое прошлое человечества. Тем самым предполагалось, что археология — составная часть исторической науки, и её предмет — то же самое, что и предмет исторической науки, только археология по преимуществу занимается прошлым до-письменным. Разработкой вопроса о предмете не занимались, а ограничивались краткими формулировками.
Несколько разноречивые суждения по вопросу о предмете археологии мы находим у лидера тогдашней теоретической мысли С.Н. Быковского. С одной стороны, предметом истории материальной культуры он считал материальное производство того или иного конкретного общества (Быковский, 1931), с другой — указывал, что не может существовать особой науки — истории материальной культуры, что существует деление исторической науки по формационному признаку, а не по роду источников (Быковский, 1932, с. 4-5).
Собственно вещи — объект нашей науки — рассматривались как исторический источник (Кипарисов, 1933), особого источника — археологического — не предполагалось. Различия усматривали лишь в категориях источников: письменные — в истории и вещественные — в археологии. Никто не делал вывода, который только теперь стал для нас естественным: «Объект археологии — археологические источники — предполагает свою теорию археологического источниковедения» (Захарук, 1970б, с. 10).
(3/4)
В те годы широко распространилось мнение о том, что археология — наука историческая, своих особых задач сравнительно с историей не имеющая, что суть советской, новой археологии в изучении не вещей, а человека, древних обществ. Правда, при этом было не ясно, является ли археология вспомогательной дисциплиной, как эпиграфика, изучение гербов и т.п. Арциховский (1949, с. 26), например, считал, что сводить всю археологию к вспомогательным целям нельзя, хотя она играет и такую роль. Точно так же было не ясно, можно ли говорить об истории первобытного общества вместо археологии, уж если археология становится частью истории, хронологическим подразделением внутри исторической науки.
В последнее десятилетие положение резко изменилось. Определение «археология — история, вооружённая лопатой» уже никем и не вспоминается. Большинство участников обсуждения вопроса о предмете археологии убеждены, что им является изучение закономерностей развития объектов материальной культуры, «различных структур человеческого общества, нашедших отражение в этих объектах» (Массон, 1973, с. 49). Я.А. Шер выделяет в археологии ещё особую, историческую, археологию — и это и только это есть уровень интерпретации, — с одной стороны, интерпретации систематизированных археологических данных, а с другой — не только археологических данных, но и исторических фактов с тем, чтобы сформулировать историческую гипотезу, соотнести археологические данные с историческими и проверить историческую гипотезу (Шер, 1973, с. 55). (Об археологической гипотезе речи уже нет, есть лишь уровень археологического факта, систематизированных данных археологии). Захарук (1973, с. 44-46) предполагает, что археологические источники служат для восстановления истории древних обществ, хотя рассматривает это восстановление как процесс археологического познания и признаёт, что есть ещё одна задача — создание теории археологического источниковедения.
Археологические источники отличаются от исторических не по второстепенному (хронологическому) признаку, а по существу. Идеологическая борьба прошлого, чувства и высказывания людей запечатлеваются в исторических источниках — в речах, деловых документах, летописях, газетных статьях. Сумма орудий, бывших в руках людей каменного или железного века, определённым образом сортируется, скапливается, выбрасывается и уничтожается, помещается в могилы или клады и превращается в силу этого в археологический
(4/5)
источник, эмпирическую данность для исследователей поселения, могильника или архитектурного сооружения.
На первый взгляд, между историческими и археологическими источниками довольно много общего. Это общее — их родовой признак: и то, и другое — источники; и те, и другие не дают адекватной картины прошлого, и те, и другие требуют критики. Прочее же — видовые особенности — различают их в достаточной степени.
Исторические источники сообщают об историческом прошлом, в них фиксируется действительность, видоизменяясь согласно представлениям того, кто их пишет. Одни стороны жизни, например, деловая жизнь общества, находят полное отражение во многих источниках, другие — в нарративных источниках, в переписке, а третьи вовсе не находят отражения. Источники либо уничтожаются временем, либо доходят до нас более или менее полно. Археологические источники не создаются намеренно. Они не есть сообщения о событиях прошлого. Первоначально они (каменные орудия, глиняные горшки и т.п.) были частью самой жизни. Далее они либо изымались из жизни — выбрасывались, либо терялись, либо начинали играть новую, особую роль, если их клали в могилы. В итоге в археологических источниках до нас дошли не сообщения о прошлой жизни, а фрагменты этой жизни, относившиеся когда-то к сфере производства или к сфере духовной жизни.
Специфичность и независимость археологических источников предполагают, что они способны отвечать на иные вопросы, чем исторические источники. Иными являются и методы изучения археологических источников. В истории нет ни типологического, ни стратиграфического методов, ни замкнутых комплексов, ни таких категорий анализа, как археологическая культура, тип, признак. Но когда историк и археолог вместе занимаются изучением одного периода, или археолог берёт на вооружение методы историка (что для наших археологов облегчается их историческим образованием и зачастую их работой в качестве историка), то возможно после ответа на археологические вопросы ответить на ограниченный круг исторических вопросов с той или иной степенью достоверности, извлекая сведения из других наук, пользуясь методами других наук. Такой вид деятельности археолога обычно принимается за основной, поскольку считают, что археолог только на этом уровне может достигнуть интерпретации. Но на самом деле в этот момент археолог лишь использует выводы и наблюдения археологии как историк или
(5/6)
этнограф — неспециалисты в области археологии. Это, конечно, уровень интерпретации, но интерпретации в понятиях этнографии или истории, а не археологии, и методы, используемые на этом уровне, — не археологические. И история, и археология действительно интересуются прошлым народов, но из этого неправомерно делать вывод, что обе науки изучают одно и то же, что есть исторические источники — письменные и археологические. У археолога нет прямого доступа к событиям прошлого, к историческим событиям, хотя прошлое каких-то групп населения можно восстановить, используя наряду с данными других наук и данные археологии. Источники говорят археологу о прошлом глиняной посуды, могильных сооружений, храмов, украшений, но не о прошлой жизни и её событиях. Живая жизнь, прошлое — не есть объект археологии. Объект археологии — артефакты, их отношения между собой. Это — эмпирическая данность, то, что археолог может наблюдать. Ни один археолог не наблюдал общественных отношений, не имел сообщений о них или об этнических процессах в археологических материалах.
На это, конечно, можно возразить — ведь и историк изучает народы, которых он никогда не видел (в большинстве случаев; в немногих случаях историк, если он занимается современностью, может наблюдать действительность, о которой он потом напишет). Ведь и про историков, скажет читатель, рассуждая подобным образом, можно сказать, что они не изучают прошлое народов, а изучают рукописи, газеты, документы финансовой отчётности. Но в итоге все согласны, что история пишется историками, а изучение источников — лишь часть исторической науки. За изучением источника у историка следует обобщение, представление о ходе истории в тех или иных хронологических пределах. Может, и археологи изучают горшки, мечи и погребения, а в итоге их работы возникает история — но только древняя — до-письменная? Нет, разница между археологией и историей всё-таки есть. Историк, занимающийся изучением общественных движений древнего Египта, опирается на источники, которые говорят о волнениях народа, о его чаяниях и надеждах. Историк, который пишет об аграрных отношениях в древней Греции, имеет документы, которые прямо говорят и о закладе земли, и частной собственности, и владельцах земельных участков. У историка всегда есть сведения о том аспекте истории, который его интересует, иначе он не берётся судить об этом аспекте. Археолог же, если он и берётся судить об общественных отношениях,
(6/7)
например, у фатьяновцев, не имеет сведений, источников, которые бы прямо говорили об этом. Независимо от его желаний, если он станет рассуждать об этом, он перестанет пользоваться археологическими методами как основными, он начнёт ссылаться на мнения социологов и этнографов, примет терминологию этих специалистов и, стало быть, станет опираться на неархеологические источники, будет оперировать неархеологическими категориями. С историками такого не бывает. Другое дело, что историки прибегают к помощи вспомогательных дисциплин. Они пользуются сведениями нумизматов, искусствоведов, эпиграфистов. Но ведь эти специалисты опять-таки располагают источниками, которые прямо говорят о приходе и власти нового правителя, его изображениях. В распоряжении археолога есть источники (и их много), которые говорят о развитии вещей — артефактов, о развитии категорий достаточно высокого порядка — археологических культур, о смене эпох, для которых характерны в пределах всей ойкумены одинаковые категории орудий, о дифференциации совокупностей орудий, об общем и частном в развитии материальной культуры. Но собственно прошлое человечества может быть восстановлено только лишь совместными усилиями этнографов, археологов, социологов, историков, антропологов. Вспомогательные дисциплины для археолога — это те естественные науки, которые помогают восстановить природное окружение прошлого (палеонтология, палеофлористика, геология, палеогеография).
Наибольшие трудности вызывает строгое различение (для археологической науки) двух рядов понятий — реалий, или эмпирических данностей (артефакт, контекст) и категорий анализа (тип, культура), которые не даны непосредственно, а появляются в процессе классификации и анализа как тот или иной уровень обобщения (Бочкарёв, 1975 а, б). Археология не может быть определена как наука о вещах, вещи (артефакты) есть лишь объект археологической науки. Археология становится наукой тогда, когда она, постигнув отношения между реалиями, переходит к уровню обобщения, устанавливает отношения между категориями анализа.
Всякая наука изучает закономерности той разновидности материи, которая является её объектом. Точно так же и археология постигает закономерности развития в археологическом мире. Закономерности постижимы только в том случае, если наука может выразить свои наблюдения не через единичное, а на некотором уровне
(7/8)
обобщения, выведя определённые понятия, которые бы отражали свойства целых групп предметов.
Предмет археологии — закономерности в развитии специфически археологических категорий анализа. Равным образом к предмету археологии следует отнести и отношения между категориями, хотя бы они и не выражали процесс развития. В некотором смысле, отношения между категориями археологии отражают изменчивость, свойственную археологическому универсуму.
Как правило, каждый или почти каждый археолог осознаёт себя историком, а потому собственно наука для него начинается лишь тогда, когда он перестаёт быть археологом и предлагает этническую интерпретацию в терминах исторической науки, или социально-историческую интерпретацию, опять-таки в терминах исторической науки. Всю же предшествующую часть своей работы он считает эмпирической, описанием материала, самое большее — критикой источника. Нам кажется, что это обеднение археологии. Археология имеет свои задачи, свои методы, свою теорию, наконец, свою историю. Процесс её формирования шёл через дифференциацию своих задач и методов от геологии, истории, биологических наук. В 30-е гг. у нас был придуман специальный бранный термин — формальное вещеведение, создан был образ археолога, который за формой вещей не видит сути дела. Типологический метод (основной метод археологии) третировался как формальный, в противоположность какому-то неведомому методу, который отражал сущность, а не формальные свойства. Однако такого метода не было никем указано. А археологи на практике обратились к вещеведению и презрели теорию своей науки. Главными задачами археологии были провозглашены получение малообоснованных выводов, касающихся этнической интерпретации, и иллюстрация разнообразными способами положений этнографов о матриархате и классовом расслоении.
Отношение к типологическому методу взялся сформулировать в 1949 г. один из самых ревностных гонителей старой археологии — А.Н. Бернштам. Его статья (Бернштам, 1949) начинается с проклятий в адрес типологического 1 [сноска: 1 Поскольку автор говорит только о формальной типологии, то слово «формально» мы опускаем, излагая его точку зрения.] метода, далее он допускается на правах дополнительного метода, наряду с другими, и признаётся, что в прошедшие годы все советские археологи пользовались типологическим методом как основным. Ещё А.Н. Бернштам предлагает
(8/9)
какие-то замены типологическому методу и указывает на его слабые стороны. Но оказывается, что показать эти слабые стороны можно тоже только на основании положений того же типологического метода. Ведь особенности периферии и центра, специфичность посуды (и прочих вещей) из погребений, многолинейность эволюции вещей — всё это предмет типологии, всё это может быть изложено только языком типологического метода. Поэтому призыв в конце статьи — категорически покончить с типологическими схемами и классификациями — выглядит довольно странно, тем более, что тут же автор, трезво смотря на вещи, пишет, что без классификаций советская археология существовать не может (Бернштам, 1949).
Сложная система отношений между археологическими категориями анализа, свойственными разным подразделениям археологии, в большей степени заслуживает названия предмета науки, чем несколько предположений об индоевропейской или финноугорской принадлежности той или иной археологической культуры времени неолита или замысловатые соображения о переходе от матриархата к патриархату у носителей какой-то культуры энеолитического времени. Археологов ждут собственно археологические проблемы, от которых они стыдливо отворачивались много лет. Так, проблема выделения типа долгое время никем из отечественных археологов не обсуждалась. Это породило представление, будто всякий знает, что такое тип и как его выделить для той или иной категории памятников. Теперь, при внимательном отношении и строгом подходе, оказалось, что выделение типа — дело в высшей степени сложное и во многом неясное. Ещё больше неясностей в области выделения археологической культуры. Если необходимость в выделении археологической культуры всем понятна (кроме археологов Средней Азии, где по образцу американских археологов выделяют только комплексы и периоды), то выделение категорий более высокого таксономического уровня, чем археологическая культура — область и вовсе неизведанная. Общепринятых, понятных всем категорий этого уровня в отечественной науке нет.
Признание археологии за историю, вооружённую лопатой, сыграло здесь не последнюю роль. Археологи перестали вырабатывать собственные категории анализа, поскольку полагались на категории исторической науки или этнографии. Они предпочитали делить могилы на богатые и бедные, на матриархальные и патриархальные, но не классифицировали их по археологическим признакам, в ста-
(9/10)
туэтках женщин видели отражение матриархата, но почти никогда не классифицировали их типологически.
В качестве примера изменения во времени археологической категории приведём такую категорию, как тип. С одной стороны, тип свойствен всей археологии от начала до конца. Это предполагает весьма трудно разрешимый вопрос: когда появляется тип? Является ли типом категория, при помощи которой описываются древнейшие человеческие орудия — чопперы, скрёбла, зубчатые орудия олдувайской эпохи? Далее, в процессе смены эпох древнекаменного века содержание категории тип непостоянно: одни типы описывают археологические культуры (нож типа прондник), другие же свойственны почти всем территориям (мустьерский остроконечник). Археологи лишены возможности чем-либо подтвердить свои предположения относительно того, как употреблялись те или иные орудия древнекаменного века, и имеют основания для предположений о назначении орудий бронзового века, поскольку большинство из них отождествляется с известными этнографии или истории топорами, копьями, серпами. Соответственно, выделение типа в археологии эпохи бронзы представляется иным, чем в археологии палеолита.
Для эпохи палеолита существует отдельно представление о технике раскалывания. Она рассматривается до некоторой степени как категория, независимая от типологии каменных орудий, хотя и техника рассматривается, конечно же, в типологических понятиях. Кроме формы заготовки и ядрищ, ничто другое не может быть предметом рассмотрения — идёт ли речь о технике раскалывания и получения заготовок или о формах готовых орудий. Разница, собственно, только в том, что в одном случав рассматривается форма орудия, а в другом — форма заготовки, из которой делались орудия, и форма ядрища, из которого путём его раскалывания происходило приготовление заготовок. В археологии эпохи железа или бронзы нет такого обособленного рассматривания заготовок для орудий и самих орудий, как в палеолите.
Для археологии эпохи бронзы важно такое обстоятельство, как фракционность (Бочкарёв, 1975 a, б). Выделение археологических культур для эпохи бронзы происходило на основании одного какого-то вида источников или одной фракции археологического материала (могильники, клады, поселения). В археологии палеоли-
(10/11)
та, казалось, фракционность не выразится так ясно, как в археологии бронзы — ведь все материалы палеолита происходят с поселения, и, стало быть, весь материал представляет собой одну фракцию — единственно возможную. Но оказалось, что сами поселения палеолита — разнородное явление. Есть поселения, где происходила обработка материала — приготовление ядрищ, которые на месте в большинстве своём не раскалывались. И есть поселения, где процесс раскалывания кремня почти не представлен, ядрища либо отсутствуют, либо обнаружены в обломках, но зато много орудий, готовых и поломанных, или переделанных. Сравнение памятников того и другого рода обнаруживает разницу между ними, но эта разница не между двумя культурами, а между двумя фракциями одной культуры. Таким образом, понятие фракции выражено и в палеолите, но по особому, не так, как в археологии эпохи бронзы.
Существует и территориальная изменчивость категорий. Например, в древнекаменном веке имеет место эпоха, называемая верхним палеолитом. Но в последние годы выяснилось, что она может быть выделена только в пределах Европы и Ближнего Востока, тогда как палеолиту Южной и Юго-Восточной Азии, равно как и Африки, она не свойственна. Соответственно в Африке есть эпоха, называемая английскими археологами, работающим в Африке, средним каменным веком (не путать с мезолитом — в европейской терминологической шкале) или пост-мустье, по нашей терминологии (Григорьев, Ранов, 1973), не имеющая соответствий в палеолите других территорий. Если раньше казалось, что известные эпохи палеолита свойственны всей ойкумене, то теперь достаточно ясно наметилось иное положение. Рядом с эпохами, действительно общими для всей ойкумены, такими как ашель, олдувай, существуют эпохи, которые свойственны только той или иной зоне развития палеолита, занимающей пол-ойкумены (европейско-ближневосточная или африканско-азиатская зоны). Точно такое же положение и с древнекаменным веком Америки: его трудно описать в тех категориях, которые подходят для Европы и для Африки (верхний палеолит? мезолит? неолит без керамики?).
Описываемая изменчивость существует наряду с иной, временной изменчивостью, и которой археологи более всего привыкли, которую (неверно, с моей точки зрения) называли историческим развитием. Она свойственна иному, более широкому кругу категорий
(11/12)
анализа, чем категории, свойственные исторической науке. Называли же эту изменчивость исторической в широком смысле, поскольку речь шла о некой перспективе, последовательном изменении каких-то явлений, смене их во времени, т.е. применяли термин «историзм» очень расширенно. Но последовательная смена события, явления свойственна не только истории, а любому кругу явлений, если их расположить во временной последовательности. Стало быть, и для археологии последовательное изменение каких-то явлений не может служить указанием на историзм, свойственный археологии, на тождество исследовательских категорий истории и археологии.
Всем известно, как сложны соотношения временных категорий в археологии более позднего времени, чем палеолит. Старая определённость категорий, широко применяемых и, казалось бы, устоявшихся — палеолит, неолит, энеолит, — сменялась полной неопределённостью. Теперь категория «неолит», как бы её ни толковать, стала не всеобщей, а локально ограниченной. Неолит Ближнего Востока не имеет соответствий в шкале археологической терминологии, описывающей смену явлений в Европе, и тем более — на большей части территории Африки. Также показательна история термина «мезолит». Для нашей науки типично, пожалуй, всеобщее, свойственное не только отечественным специалистам, желание придать археологическим категориям не археологический смысл. Считается хорошим тоном видеть в любой ступени археологической периодизации не только характеристику определённой совокупности типов орудий, позволивших выбрать во множестве археологических памятников такие, которые относятся по неким общим признакам к данной совокупности (к мезолитической эпохе). Считается возможным выводить из археологических данных ступень развития социальных институтов, хозяйственных достижений, порой даже — идеологических представлений. Поэтому и мезолит определяли не просто как ступень в развитии каменных орудий, как господство геометрических микролитов при прежней технике получения заготовок каменных орудий, а как ступень в развитии человеческой культуры, высшую ступень дикости, когда человеческие коллективы стали подвижными, уменьшились в количестве, когда появились лук и стрелы, охота стала индивидуальной. Я вовсе не против того, чтобы сопрягались изменения, описываемые археологическими источниками, выражаемые ступенями археологической периодизации,
(12/13)
со ступенями развития социального устройства и формами хозяйства. Напротив, это, конечно, желательно. Но всё дело в том, чтобы ясно осознавать, как получено одно заключение (палеолит сменился мезолитом) и как получено другое (изменилось общественное устройство, наступила высшая ступень дикости). Это два независимых заключения, полученных из разных источников, и из первого не следует второе. Если удастся доказать, что и то, и другое явления случились в одно время — замечательно. Сопоставление заключений разного порядка — это проблема, которую нужно решать, а не делать вид, что мы знаем смену каменных орудий, — стало быть, мы можем представить себе изменение форм общественного устройства. Только при этом следует иметь в виду, что под словами «общественное устройство» следует подразумевать именно общественное устройство, а не те куцые вырезки, которые делали из него в угоду господствовавшим схемам, когда под общественным устройством понимали пресловутый матриархат или патриархат, как будто ничего другого для организации коллективов не нужно, кроме как установить общественную роль женского пола по отношению к его вечному оппоненту — мужскому полу.
Временная последовательность событий в археологии — смена археологических эпох — также, только раньше, представлялась достаточно простым и самоочевидным делом. Так, обиходным и банальным стало отделять палеолит от неолита или мезолит от палеолита. Казалось бы, это банальное заключение, нисколько не интересное для археолога. Но дело в том, что теперь необходимо не просто отделить одну эпоху, давно известную, от другой, а предложить правила, по которым сделано такое разделение, и обосновать справедливость всех предложенных подразделений. Теперь это должно стать основным делом археологии. Достаточно долго мы сопоставляли палеолит с матриархатом, или ранним родовым строем. Теперь пора обосновать справедливость отделения палеолита от мезолита. Представляется вполне обоснованным, что мезолит не может быть сопоставим с палеолитом как категория равного таксономического ранга. А у нас принято делить понятие каменный век на палеолит, мезолит и неолит. Мезолит не равноценен палеолиту, как, впрочем, и неолит, это такая же эпоха как ашель или мустье, но не того же ранга категория как палеолит в целом. Справедливой кажется такая археологическая последовательность: олдувай, ашель, мустье, верхний палеолит, мезолит,
(13/14)
неолит. Не берусь судить, как можно продлить эту шкалу кверху, каковы будут такого же ранга подразделения более позднего времени.
Представляется, что предмет археологии есть установление норм и правильностей развития и существования археологических категорий по преимуществу достаточно высокого уровня. При этом надо иметь в виду не только правильность развития археологических категорий во времени, но и регулярности всякого иного рода. К этим большим задачам надо добавить соподчинения между категориями анализа (соотношения, которые стабильны в пределах того или иного подразделения археологии, отделяемой по тем или иным причинам исследователем для удобства исследования; или же соотношения, которые стабильны для всей археологической науки).
Как нам кажется, установление развития той или иной археологической культуры или совокупности археологических культур определённой территории, например, северного Причерноморья или Кавказа, где развитие имеет какой-то общий смысл вследствие связи между ними, есть лишь частная задача, решаемая как нечто соподчинённое по отношению к общей задаче, к решению её в общем виде. А именно эта задача в традиционной постановке и тождественна тому, что называется конкретной историей народов и племён. Такие решения в частном виде должны быть рассматриваемы особо от широкого определения предмета нашей науки. Археология имеет собственные задачи, собственные методы, собственный объект и предмет, а потому может считаться одной из равноправных наук о человеке. Другое дело, позволит ли нынешний уровень развития нашей науки создать такую науку, реализовать поставленную задачу — это уже определяется субъективными факторами. Конечно, можно при желании объявить собственно археологию отраслью науки о человеке, пользующуюся своими методами, источниковедением, и лишь вопросы, решаемые совместными усилиями археологов и историков, — уровнем интерпретации и, стало быть, единственным жанром интерпретации для археологов.
Нельзя не согласиться с Ю.Н. Захаруком (1973, с. 46), что «ограничение предмета археологии только вещественными источниками, а соответственно её теории только теорией археологического источниковедения… сужает задачи и цели археологии».
(14/15)
Теория развития общества и теория развития культуры, конечно, относятся к предмету науки о человеке, но не к предмету археологии, поскольку они не могут быть построены на основании археологических методов. Они, кстати, успешно создавались и до того, как археология смогла предоставить свои материалы в форме своих собственных понятий. Предмет археологии может быть определён тогда, когда мы осознаём независимость своих собственных общих категорий, отражающих закономерности нашего материала, и осознаём собственные методы. Поскольку большинство археологов согласно с тем, что понятия ранга «археологическая культура», «археологическая эпоха», «тип», «зона развития» отражают закономерности, общие свойства археологического универсума, появилась возможность построить предмет археологии.
Для картины археологического мира (универсума) на уровне понятий возможно построение многомерной модели его, где каждое понятие соотнесено с другими понятиями либо в виде иерархии понятий, либо в виде нескольких иерархий, не соотносимых между собой через прямое подчинение, но построенных, исходя из общих оснований. Такими общими основаниями могут быть типологический метод, понятие комплекса и сочетание признаков как основание для построения понятий более высокого уровня в пределах одной иерархии.
Построение такой многомерной модели археологического мира возможно на основании археологических методов, без привлечения данных и методов истории, этнографии и других наук о человеке, но с использованием вспомогательных для археологии дисциплин (антропологии, геологии, палеонтологии и т.д.).
Такое построение следует считать уровнем интерпретации, но никак не уровнем археологического источниковедения — для этого есть все основания. Вряд ли такой схеме можно поставить в упрёк отсутствие гуманитарных начал (знаменитое, хотя и мало понятное утверждение — археологи такого направления, по мнению их противников, «не видят человека за орудиями»). В основании этой конструкции лежит допущение, что все рассматриваемые археологией предметы изготовлены руками человека, иначе они не подлежат рассмотрению в рамках археологии с самого начала.
^ Литература (извлечение из общего списка на стр. 129-133, с поправками).
Бочкарёв В.С. 1975а : К вопросу о системе основных археологических понятий. // Предмет и объект археологии и вопросы методики археологических исследований (материалы симпозиума методологического семинара ЛОИА АН СССР. Апрель 1975 г.). Л.: 1975. С. 34-42.
наверх
|