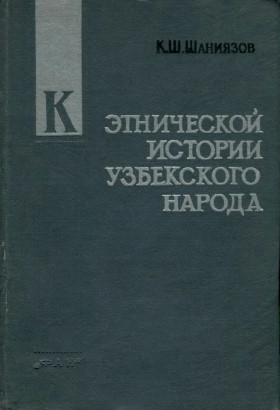 К.Ш. Шаниязов
К.Ш. Шаниязов
К этнической истории узбекского народа.
(Историко-этнографическое исследование на материалах кипчакского компонента).
// Ташкент: «Фан». 1974. 344 с.
[ аннотация: ]
В монографии на основе обширного круга историко-этнографических источников и литературы раскрываются вопросы происхождения одного из компонентов узбекского народа — кипчаков, прослеживаются пути интеграции этой этнографической группы в среде узбекской народности в дореволюционный период, завершившейся слиянием её с узбекской социалистической нацией в годы Советской власти. Большое внимание автор уделяет вопросам взаимоотношений и взаимовлияния в прошлом кочевых и полуосёдлых кипчакских племён и родов с осёдлым узбекским населением. В работе рассматриваются хозяйство, быт, материальная и духовная культура кипчаков Узбекистана конца XIX — начала XX в., показано постепенное стирание их былых родо-племенных, бытовых и других этнографических особенностей.
Книга рассчитана на этнографов, историков, студентов гуманитарных факультетов и широкий круг читателей.
Оглавление
Введение. — 9
Глава первая. Исторические сведения о кипчаках. — 42
Расселение и передвижения кипчаков с древних времён до середины XI века. — 42
Кипчаки-половцы в причерноморских степях и на Северном Кавказе (вторая половина XI — начало XIII в.). — 54
Присырдарьинские кипчаки (X — начало XIII в.). — 65
Кипчаки в XIII-XV вв. — 69
Участие кипчаков в этнической истории средневековой Средней Азии и Казахстана (XV-XIX вв.). — 77
Хозяйство, быт и культура кипчаков по данным письменных источников, археологии и исторической этнографии (X-XV вв.). — 83
Глава вторая. Кипчаки в составе узбеков (XIX — начало XX в.). — 103
Кипчаки на территории Узбекистана. — 103
Численность и расселение кипчаков на территории Узбекистана в конце XIX — начале XX в. — 109
Родо-племенное деление кипчаков. — 116
Некоторые параллели в родо-племенном делении кипчаков и других узбекских племён, а также каракалпаков, казахов, киргизов и др. — 128
Глава третья. Хозяйство. — 158
Земельные отношения и система налогового гнёта — 158
Земледелие. — 166
Водопользование. — 179
Скотоводство. — 190
Домашние промыслы и ремёсла. — 206
Глава четвёртая. Материальная культура. — 216
Поселения. — 216
Жилище и предметы домашнего обихода. — 223
Одежда. — 248
Пища. — 271
Глава пятая. Общественные и семейные отношения. — 284
Социальная структура и формы эксплуатации. — 284
Некоторые пережитки родо-племенного быта. — 294
Семья и брак. — 303
Некоторые пережитки домусульманских верований. — 326
Игры и увеселения. — 330
Заключение. — 336
Список сокращений. — 340
От редактора. ^
Разработка проблем этнической истории — процессов этногенеза, консолидации народностей, формирования наций составляет одно из основных направлений советской этнографической науки. [1] Значение этого направления определяется прежде всего самой марксистско-ленинской методологией изучения этнографических явлений: традиционные формы хозяйства, культуры, быта этнографы изучают в динамике их развития, с последовательным соблюдением принципов историзма и в тесной связи с закономерностями изменения социально-экономических факторов, обусловливающих этническое развитие народов.
Именно в процессе этногенеза ещё в древности и средневековье формируется большинство тех черт этнического облика народа, которые характеризуют в дальнейшем его национальную специфику, отличают его от других этносов (основы языка, особенности хозяйственно-бытового уклада, формы материальной и духовной культуры и др.). В то же время лишь тщательное изучение этнической истории помогает выявить также и истоки тех черт его сходства с другими народами, которые возникают в процессе многовековых экономических и культурных контактов с населением соседних регионов, либо объясняются общностью исторических судеб, а иногда и этническим родством — наличием однородных этнических компонентов, участвовавших в этногенезе двух или нескольких народов.
Исследование проблем этногенеза с марксистских позиций имеет и важное научно-теоретическое значение в борьбе с буржуазными теориями в национальном вопросе. Так, убедительно доказанное изысканиями советских этнографов положение о том, что современные народы сложились из разных этнических компонентов, опровергает распространённые в ряде западных стран шовинистические концепции о «расовой чистоте», «национальной исключительности» некоторых народов. Лишь отказ от преслову-
(3/4)
тых поисков «единого предка» и признание изначальной сложности этногенетических процессов может обеспечить подлинно научное разрешение вопросов происхождения народов. [2]
Всё сказанное о значении исследования процессов этнического развития непосредственно относится и к изучению этнической истории народов Средней Азии и Казахстана. Особенностью этнических процессов в этом обширном регионе было разнообразие этнических компонентов, участвовавших в формировании племенных объединений и народностей, что обусловливалось бурными событиями политической истории, частыми вторжениями завоевателей и связанной с этим подвижностью населения — миграциями, притоком иноплеменных групп из других стран. С другой стороны, большую роль в этнических процессах здесь играли издревле установившиеся постоянные связи населения земледельческих оазисов со скотоводческими тюркоязычными племенами степей и пустынь. На протяжении всей истории кочевники и полукочевники скотоводы большими волнами и мелкими группами переселялись в оазисы и оседали там среди земледельцев, постепенно смешиваясь и сливаясь с ними. Этот процесс, сопровождавшийся тюркизацией части жителей оазисов, как можно судить по новейшим археологическим, антропологическим и историческим данным, начался в глубокой древности и особенно усиливался в некоторые периоды истории — например, в период Тюркского каганата (VI-VII вв.); в связи с передвижениями и завоеваниями огузов, печенегов, кипчаков (X-XI вв.); в период вхождения Средней Азии в государство Караханидов (XI-XII вв.); во время монгольского нашествия и вхождения территории Казахстана и Средней Азии в состав монгольских улусов (XIII-XIV вв.), а позднее — в связи с походами Шейбани-хана и переселением в земледельческие области Среднеазиатского междуречья многочисленных групп узбекских племён (XVI в.). Все эти исторические события оказывали огромное влияние на этнические процессы в Средней Азии и Казахстане и, в частности, обусловили сложность этногенеза и дальнейшей консолидации узбекской народности, основы этнической общности которой сложились в среде тюркоязычного населения Средней Азии уже в XI-XII вв. [3]
(4/5)
Учитывая основную тему труда К.Ш. Шаниязова, следует остановиться ещё на одной особенности этногенеза народов Среднеазиатско-казахстанского региона. Как известно, вплоть до XIX — начала XX в. специфичной чертой этнических структур тюркоязычных народностей — казахов, киргизов, туркмен, каракалпаков и части узбеков (так называемых полукочевых или дештикипчакских) были пережитки родо-племенного деления.
Такая же осложнённость этнической структуры феодальных народностей — наличие в их составе реликтовых племенных групп — была характерна в дореволюционной России и для тюркских народов, живших в районах Приуралья (например, башкиры), Кавказа (ногайцы), Сибири (алтайцы, шорцы и другие), встречалась она и у народов нетюркоязычных (например, адыгейцы и многие горские народы); в некоторых странах Востока племенное деление, как известно, сохранялось также у ираноязычных, арабоязычных и других народов, главным образом кочевых и полукочевых. При этом весьма важно, что во многих случаях пережитки родо-племенного деления не исключали возможности достаточно высокого уровня этнической консолидации; в частности, это относится к среднеазиатским народностям. [4] Уже с XVI в. казахи, киргизы, туркмены были известны русской и мировой науке как вполне определённые целостные этносы, имевшие особые языки, культуру, бытовой уклад и другие признаки народностей феодального типа. Их названия и территории обитания обозначались на первых географических картах Средней Азии XVI-XVII вв. Племена, входившие в их состав, утратили функцию социальных и этнических общностей первобытно-общинного строя; это были «вторичные» племена позднего, феодального типа, отличавшиеся значительной социальной дифференциацией; в их среде давно произошла замена кровнородственных связей политическими или административно-территориальными. Однако даже у таких поздних, пережиточных племён устойчиво сохранялись их традиционные древние и средневековые этнонимы и двойственное этническое самосознание (принадлежности и к народности, и к племени). Историческая стратификация родо-племенных этнонимов, их научный анализ путём сопоставления с достоверными историческими данными, как известно, позволяют многим авторам (в том числе и К.Ш. Шаниязову) использовать родо-племенные этнонимы в качестве ценного источника для изучения этнической истории. В целом же, как в социальном, так и этническом аспекте реликтовые племена в среде казахов, узбеков и других народностей Средней Азии трансформировались к XIX — началу XX в. в
(5/6)
обычные для народностей феодальной эпохи внутренние подразделения — так называемые этнографические (этнические) группы, [5] сохранявшие, однако, некоторые родо-племенные пережитки в своём быту, иногда и отличия в отдельных элементах материальной культуры (одежде, орнаменте и др.), а также в языке (говоры, диалекты).
Устойчивость сохранения этих внутренних подразделений объясняется не только спецификой кочевого и полукочевого хозяйства, но и общими неблагоприятными для национальной консолидации политическими и социально-экономическими условиями в дореволюционной Средней Азии и Казахстане. Лишь в советский период, в процессе консолидации социалистических наций интеграция реликтовых «племенных» этнографических групп у узбеков и других народов Средней Азии вступила в фазу полного завершения.
В аспекте всех этих исторически обусловленных особенностей этнической истории народов Средней Азии и Казахстана и следует рассматривать монографию К.Ш. Шаниязова об этнографической группе узбеков-кипчаков.
Значение этого труда выходит за рамки проблем этногенеза одного лишь узбекского народа; на разных исторических этапах средневековья и нового времени, в особенности в послемонгольский период, группы кипчакских племён участвовали в качестве значительных компонентов этногенеза не только узбеков, но и киргизов, казахов, каракалпаков, отчасти и туркмен, а за пределами Средней Азии и Казахстана включались как более или менее существенные слагаемые в формирование целого ряда других тюркоязычных народов Восточной Европы, Северного Кавказа, Сибири. Как известно, в период монгольского нашествия отдельные группы кипчаков, спасаясь от завоевателей, достигли Дуная и Балканских стран, переселились в Малую Азию и в Египет. Диапазон миграции кипчакских племён и их роль в этнической истории множества народов, таким образом, чрезвычайно велики, хотя при этом следует учитывать, что под этнонимом «кипчаки» на разных исторических этапах и в разных географических областях фигурировали этнически отличавшиеся друг от друга родо-племенные группы, входившие в состав этого крупнейшего средневекового этно-политического объединения, окончательно распавшегося только после монгольского завоевания. Роль кипчаков в истории многих народов нашей страны, в формировании тюркских языков и тюркоязычных этносов — проблема, представляющая большой научный интерес; она изучается историками, археологами, палеоантропологами, лингвистами и этнографами.
(6/7)
С публикацией книги К.Ш. Шаниязова в советской историографии впервые появляется глубокое историко-этнографическое исследование, всесторонне характеризующее этнический облик одной из реликтовых групп кипчаков XIX — начала XX в., тесно связанной своим историческим прошлым с узбеками, подвергшейся длительной интеграции в их среде и вошедшей в состав узбекской народности, сохраняя однако вплоть до Октябрьской революции свойственную этнографическим группам обособленность, устойчивое этническое самосознание и самоназвание.
Источниками для этого исследования послужили не только собственно исторические материалы, в том числе и некоторые впервые обнаруженные в рукописных фондах сведения восточных нарративов, но и богатейшие полевые историко-этнографические материалы, собранные К.Ш. Шаниязовым в течение многих лет его экспедиционных исследований и позволившие выявить этнические процессы дореволюционного прошлого. В Узбекистане не осталось ни одного кишлака, жители которого причисляли бы себя к потомкам тех или других кипчакских племён, где ни [не] побывал бы за годы исследований автор книги. Беседы со стариками, ещё помнящими исторические предания, записи сохранившихся в их памяти сведений о составе и расселении кипчакских родо-племенных групп, фиксация предметов традиционной для этнографической группы кипчаков материальной культуры, выяснение приёмов ведения ими хозяйства, их многовековых трудовых навыков, а также обычаев, обрядов, своеобразных черт семейно-бытового уклада — весь этот большой, кропотливый труд позволил учёному накопить обширный, уникальный по своей научной ценности материал и осуществить путём ретроспективного анализа исследование этого материала в других направлениях. С одной стороны, это углубление в этническую историю, анализ этнонимов, архаических черт некоторых обрядов, традиций общественного быта, элементов старинной материальной культуры и сопоставление их со сведениями, имеющимися в литературе о кипчаках-половцах, дало возможность обнаружить некоторые интересные аналогии и протянуть нити исторических связей между узбеками-кипчаками и их средневековыми предками. С другой стороны, автор на обширном и разностороннем конкретном этнографическом материале освещает происходивший уже в новое время (в XVIII — начале XX в.) процесс постепенного размывания, растворения групп кипчаков в среде окружающего осёдлого узбекского населения. Мы увидим, что этот процесс происходил интенсивнее у зарафшанских кипчаков; несколько более устойчивой была обособленность у ферганских кипчаков, сохранявших полукочевое хозяйство и быт. Однако эта устойчивость проявлялась главным образом в этническом самосознании. Что же касается всего хозяйственного и бытового уклада жизни этой этнографической группы, то черты особенного, своеобразного у неё уже накануне Октябрьской революции были, очевидно, на
(7/8)
стадии исчезновения; во всем её этническом облике, как можно судить по работе К.Ш. Шаниязова, преобладали общеузбекские черты.
В годы социалистического строительства революционные преобразования экономики и культуры коренным образом изменили жизнь народов Средней Азии. Они обрели свою национальную государственность и вступили в братскую семью социалистических республик Советского Союза. Исчезли факторы, тормозившие свободное национальное развитие; в среде социалистических наций, сформировавшихся в Средней Азии, усилились процессы сближения и слияния бывших этнографических племенных групп. Всесоюзные переписи населения СССР убедительно характеризуют этот процесс: если перепись 1926 года зафиксировала в Узбекистане более 30 тыс.чел., назвавших себя кипчаками, то в настоящее время этот старинный племенной этноним уже не фигурирует в демографических документах, он ушёл безвозвратно в историю. Кипчаки слились с узбекской нацией.
Население прежних «кипчакских» кишлаков живёт теперь общей жизнью со всем узбекским народом и со всей страной. Судьбы группы узбеков, ставшей объектом данного исследования К.Ш. Шаниязова, не случайны. [6] В них отражаются процессы и закономерности этнического развития, происходившие в среде многих народов Средней Азии и других отсталых национальных окраин дореволюционной России, прошедших в условиях советского строя путь невиданно быстрого экономического роста и культурного расцвета. В настоящее время «национальный вопрос в том виде, в каком он достался нам от прошлого, решён полностью, решён окончательно и бесповоротно», — говорится в докладе Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева «О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик». «…Могучим объединяющим началом стали общность исторических судеб всего советского народа, всех составляющих его наций и национальных групп, совместные традиции, взгляды, жизненный опыт, рождённые полувековой совместной борьбой и совместным трудом. [7]
Т.А. Жданко,
доктор исторических наук, профессор.
[1] Ю.В. Бромлей. Некоторые итоги и перспективы советской этнографической науки, XXIV съезд КПСС и задачи развития общественных наук, Ташкент, «Фан» УзССР, 1972, стр. 392-393.
[5] Ю.В. Бромлей предлагает называть внутренние подразделения народностей, имеющие определённые этнонимы, этническими группами, а название «этнографические группы» применять к локальным, областным, не имеющим самоназвания. См. Ю.В. Бромлей. Этнос и этнография, стр. 32-33.
[6] В 1964 г. К.Ш. Шаниязов опубликовал исследование, посвящённое другой этнографической группе узбеков — карлукам. См.: К.Ш. Шаниязов. Узбеки-карлуки. Историко-этнографический очерк, Ташкент, 1964.
[7] Л.И. Брежнев. О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик, М., Политиздат, 1973, стр. 11, 12.
|